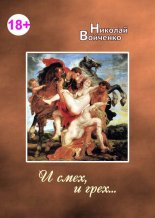Содом тех лет Воронель Нина
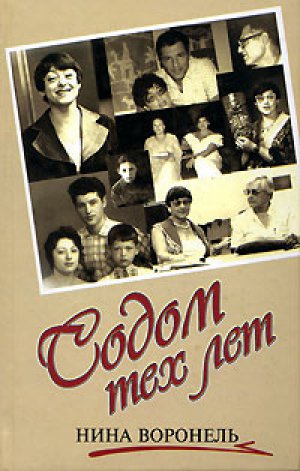
Но дело не только в Сарнове, который как раз и познакомил нас когда-то с Солженицыным, тогда еще молодым и только восходящим к мировой славе. Однако Бен уже тогда, на ранней стадии, эту славу провидел, и страшно перед нами гордился, какие у него блестящие знакомства. Каково же ему было через сорок лет услышать от нас, ездивших в гости к Солженицыну, что тот спросил: «Ну что этот Сарнов от меня хочет? Я его и не видел никогда».
Но не в этой мелкой обиде, конечно, таилась суть моего расхождения не только с Беном, но и со всей прогрессивной московской тусовкой. Мой спор с замшелым либеральным взглядом на судьбы России начался еще в 90-х годах прошлого века, когда я вступила в полемику с Майей Каганской, разоблачавшей российских ретроградов Достоевского и Солженицына в эссе «Осень патриарха».
Помнится, что на полемический ответ Каганской меня побудила пропетая ею в этом эссе вдохновенная ода бороде. «Борода, – вещала она, – это воспоминание о древних культах Земли… это знак, вызов, исповедь и проповедь». Возможно, не выскажись она так высокопарно, не подняла бы я на нее пера. Что мне, в конце концов, до репутации Достоевского и Солженицына в либеральной среде, тем более что их славы не убудет, даже если еще дюжина прогрессивных эссеистов наших дней обзовет их ретроградами.
Но провалы логики во вдохновенном разоблачении Каганской переполнили чашу моего терпения. Не удовлетворясь словарным обозначением бороды как «лицевого волосяного покрова, характерного для приматов мужского пола, достигших половой зрелости», она объявила, что форма бороды определяет не столько лицо как зеркало души, сколько лицо как зеркало русской революции.
Как видно, Каганской все же было трудно вознести бороду на уровень культового знака без ссылки на какой-нибудь высший авторитет. На роль этого авторитета она выбрала Фрезера, этого стихийного дарвиниста в области религиозной мысли, написавшего основные свои труды в конце девятнадцатого века. На русский язык его перевели только в 1980 году, когда созвучность его идей идеям российской философской мысли, отставшей от европейской на целое столетие, сделала его необходимой составляющей «малого джентльменского набора» русскоязычного (т. е. не читающего на других языках) интеллигента. А Фрезер как раз был неравнодушен к бороде, – он объявил ее символом плодородия. Неясно, как с этой точки зрения трактовать бороды, обильно растущие после смерти? Неужто гоголевские мертвецы, до пустых глазниц заросшие бородами, встают из могил, чтобы воплотить идею плодородия?
С помощью Фрезера облюбовав для осуждения бородатую пару Достоевский—Солженицын, Каганская объединила своих героев и по другим статьям, в частности, по особенностям биографии:
«Главное в Солженицыне – от Достоевского: смертная казнь – царская каторга – десять лет сталинских лагерей, оба побывали в аду, у обоих – мировая слава. И никогда еще… ожидания прогрессивного человечества не были так… безжалостно обмануты: вместо призыва к борьбе за свободу и равенство, оба призвали вернуться к… ценностям мистического коллективизма».
С тем, что главное в Солженицыне – от Достоевского, можно согласиться, можно возразить – ведь каждый главным в писателе видит что-то свое. Я, например, главным в Достоевском считаю его способность, расшелушив человеческую душу, как луковицу, дойти до самого сокровенного истока ее низости, а Солженицын в этом деле куда как не силен.
Зато если вернуться к «ценностям мистического коллективизма», открываются интереснейшие аспекты. Что правда, то правда: оба «великих мученика тирании» по возвращении из тюремного ада странным образом отказались от либеральных идей своей юности и, развернувшись на 180 градусов, стали с поразительным единодушием призывать свой народ «вернуться к вере, церкви, нации, государству».
Конечно, сердцу, преданному идеалам свободы и равенства, трудно не осудить столь предательское отступничество двух величайших писателей земли русской. А что если, прежде чем осуждать, попытаться проанализировать и понять?
Ведь даже самый самонадеянный эссеист времен перестройки может предположить, что и Достоевский, и Солженицын, как бы ни были они сбиты с толку своими скитаниями по кругам ада, не могли забыть общеизвестные азбучные истины. Что же заставило их обоих, пусть по Сарнову не вполне заслуженно, но все же заслуживших мировую славу, дружно отречься от этих истин?
Почему оба они начали проповедовать идеи, заведомо обрекающие их на непопулярную репутацию ретроградов? Ведь следует отметить, что свои предосудительные опасения насчет демократии они адресуют собственному народу, который хорошо успели изучить за время, проведенное в аду. Может, есть у них какие-то соображения, нам не столько неведомые, сколь несимпатичные? Может, они знают о своем народе нечто, чего мы не то, чтобы не знаем, но знать не хотим?
Я понимаю, что предлагаю сейчас альтернативу почти неприемлемую для либерального сознания, – я предлагаю предположить, что истина неоднозначна. Ничто так не роднит либералов с ретроградами, как их дружное нежелание признать правомочность, пускай хоть для дискуссии, другой точки зрения, другой системы аксиом, положенных в основу идеологии!
Боюсь, что верность некой общепринятой системе единомыслия тоже входит сегодня в «малый джентльменский набор»: расизм – плохо, гуманизм – хорошо, угнетенные народы – борцы за свободу, угнетатели-министры – душители свободы. И вовсе ни к чему вдумываться, что такое расизм, гуманизм и свобода, ибо все они вместе взятые – это «заповедь, исповедь и проповедь». К черту подробности – главное, чтобы в рифму.
Зато если признать, что истина относительна и зависит от места, времени и точки отсчета, то возникают проблемы почти неразрешимые, и приходится брать на себя ответственность за собственные мысли и поступки. Многим ли это может прийтись по вкусу?
И все же, трезво оценивая всю непривлекательность своей идеи, я настойчиво предлагаю еще раз вчитаться в длинный список цитат из Достоевского и Солженицына, но не с целью их разоблачить, а в надежде понять. Здесь оба они перед нами, как на ладони, и оба совершенно беззастенчиво самоутверждаются в собственном ретроградстве:
Достоевский: «Всеобщее избирательное право – самое нелепое изобретение XIX века».
Солженицын: «Избирательное право – не закон Ньютона, в свойствах его разрешительно и усумниться».
Далось им это избирательное право! Чем оно им так досадило? Жалко им, что ли, чтобы каждый мог свое мнение выразить?
Да что там избирательное право! Зарвавшийся Солженицын идет дальше: чтобы оправдать свой непростительный отход от прогрессивного либерализма, он заносит руку на святая святых гуманизма – на самую идею равенства, называя его «энтропией, ведущей к смерти».
А ведь если дать себе волю подумать, и впрямь – так ли абсолютно непререкаема идея всеобщего равенства? Или «разрешительно в ней усумниться»? Как ни стремлюсь я соответствовать «джентльменскому набору», не могу я заставить себя поверить в свое равенство с Саддамом Хусейном, с членами «Черного сентября» или с отчаянной компанией, спикировавшей 11 сентября на Башни-близнецы. Нет между нами ничего общего, кроме физиологических отправлений, и я бы ни за что не согласилась дать им право голоса при решении вопроса о будущем человечества.
Да и вообще, кто кому равен? И в чем? Старики не равны молодым, женщины не равны мужчинам. Я не ввожу оценочных критериев «лучше» или «хуже», я говорю о различии во всем – в направленности интересов, в эмоциональном складе, в шкале приоритетов. Природа создала нас такими разными не для того, чтобы мы наперекор ей доказывали, что мы друг другу равны.
Мне могут возразить, что речь идет о равенстве прав, а не о равенстве вообще. Что ж, давайте на миг предположим, что возможно равенство прав для неравных – иными словами, равенство прав при неравенстве обязательств, – и в свете этого предположения рассмотрим сегодняшнюю ожесточенную борьбу за запрещение абортов. Чьи права более равны, права нерожденных младенцев «быть или не быть» или права женщин «рожать или не рожать»?
Этот пример сразу помогает найти формулировку: равенство невозможно в случае конфликта интересов. Но жизнь, в отличие от смерти, и есть постоянный конфликт интересов. Значит, равенство возможно только в смерти, что, собственно, и составляет смысл солженицынского утверждения.
Беда в том, что, раз усомнившись, трудно остановиться. Если всеобщее равенство сомнительно, то, может, и всеобщее избирательное право не так уж несомненно? Ведь никто не оспаривает справедливости возрастного ценза, например.
Представим себе, что возрастной ценз применим не только к отдельным личностям, но и к целым народам. Ведь предположение, что разные группы людей, сосуществующие в одном астрономическом времени, существуют при этом так же и в одном времени историческом, логически абсолютно несостоятельно. Из возможности этих групп встретиться в пространстве вовсе не следует, что им суждено встретиться во времени – между ними может пролегать пропасть в несколько веков. Но стоит предположить, что каждый народ живет в собственном историческом времени, как сразу приобретает смысл понятие «возраст народа». Остается только выяснить, что это такое.
Пытаясь ответить на этот каверзный вопрос, я вступаю на зыбкую почву, и потому хочу опереться на общепризнанный авторитет, на этот раз из «большого джентльменского набора». Карл Юнг, знаменитый последователь и ниспровергатель З. Фрейда, утверждал, что существует некое «коллективное подсознательное», характерное для каждого народа. Пока еще неясно, чем именно оно определяется – языком ли, мелодикой ли колыбельных песен или образным строем детских сказок, но ясно, что каждый народ из поколения в поколение воспроизводит свой стереотип, передавая как эстафету некий таинственный код.
Код этот не зависит ни от политических режимов, ни от религиозного уклада, он спрятан глубоко в коллективной народной подкорке и надежно защищен от внешних влияний. Это как бы прочно зашифрованный свод законов, которыми народ руководствуется в самых сокровенных делах, касающихся рождения, смерти, отношений между мужчиной и женщиной, отношений между родителями и детьми. Он, конечно, изменяется во времени, но изменяется медленно, на протяжении многих поколений, и потому кажется незыблемым и неизменным.
Этот код, по-видимому, и определяет возраст народа. Понятие «возраст народа» давно существует как незаконное дитя науки: в социологической литературе нередко можно встретить определения «старый народ» и «молодой народ», хоть никто не указал на их характерные отличия. Однако мне кажется, что именно эти отличия, хоть непоименованные, но реально существующие, и определяют склонность одних народов к демократии, а других – к тоталитаризму.
Для лучшего понимания связи между возрастом народа и его способностью к демократическому укладу, мне кажется, вернее будет определить народы как взрослые и невзрослые.
Что такое «народ» и какой народ можно назвать взрослым?
Определим «народ» как группу людей, объединенных общим коллективным подсознанием, что облегчает взаимопонимание внутри этой группы. Взрослым назовем народ, представители которого готовы взять на себя ответственность за свою жизнь, в то время как представители невзрослого народа нуждаются в авторитарной фигуре «отца», принимающего на себя эту ответственность. «Отец» является подателем и распределителем благ, он может миловать и казнить по произволу, но при этом на него можно положиться, как на каменную стену.
Суть отношений между народом-ребенком и отцом на редкость художественно наглядно выражена при ежедневном исполнении государственного гимна, заключающего программу иорданского телевидения: огромное, во всю стену, изображение нежно-сурового красавца-короля в розовой куфие парит над трепетным хором низкорослых, по-собачьи преданных подданных. «Отец родной! – поют они ангельскими голосами. – Ты наша сила, наша радость, наша надежда!» Совершенно немыслимо представить себе нечто подобное в исполнении американского, английского или израильского телевидения.
Зато в России так было всегда. Гигантские лица вождей осеняли собрания и съезды, их многократно увеличенные указующие персты простирались над головами крошечных прохожих, мельтешащих на уровне громадных бронзовых или мраморных колен этих царственных чудищ. И даже сегодня, когда вчерашние идолы, развенчанные и раскуроченные, поплыли на свалку на крюках подъемных кранов, их изгнание выглядит не более чем негативным вариантом ритуала того же культа отца. Народный гнев, направленный на культовые изображения, на мраморные уши и гипсовые носы, разоблачает незрелые чувства рассерженных детей.
Интересно проследить, как проявилась эта невзрослость в фигурах речи. Русский язык на удивление богат ссылками на постоянную игру в «дочки-матери»: тут тебе и «матушка Волга», и «родина-мать», и «Кузькина мать» и «еб твою мать», и «мать зеленая дубравушка» – на любой вкус.
Недаром русская брань называется матом – вся она построена на изощренном хитросплетении разнообразных бранных слов вокруг имени матери. И как они хитро сплетены порой! А порой ничего и не надо – достаточно просто воскликнуть: «У, мать твою!» – и всем все ясно. Заговор детей, так сказать, потому что весь народ выступает здесь как коллектив недорослей, связанных с матерью пуповиной садо-мазохистской любви-ненависти. Зато никто ни за что не ответствен и неподсуден по причине несовершеннолетия.
Мне думается, что неизбежность падения России в пропасть тоталитаризма в результате любого революционного взрыва определяется этой невзрослостью русского народа.
Собственно, ни на какое открытие я здесь не претендую, об этом много раз было говорено и до меня: как радетели, так и хулители русского народа высказывались по этому поводу с трогательным единодушием.
Вот, к примеру, несколько цитат из книги образцово-показательного российского патриота-антисемита В. Шульгина «Что нам в них (в евреях) не нравится», выбранных на лету из восхитительного их изобилия:
«…русский народ во всей его совокупности женственно несовершеннолетен… для него наивыгоднейшая форма общежития есть Вожачество. К такому вожачеству (в форме ли монархии, диктатуры или иной) русские, понявшие свою природу, будут стремиться».
«Мы из тех пород, которым нужен видимый и осязаемый вожак. При соответствующем вожаке русские могут быть очень сильны. Разительный пример этому – царствование сурового вожака Николая I. Царствование это было вместе с тем золотым веком русской литературы… В катавасии, которую декабристы готовили России, конечно, погиб бы цвет нации: Жуковский, Пушкин, Грибоедов и Гоголь окончили бы свою жизнь на эшафоте, ничего не написав. Ведь на наших глазах в революции погибли все те, кто не успел вовремя унести ноги».
Шульгин писал это в 1930 году в эмиграции – имея за плечами скорбный опыт тринадцати лет торжества народной власти в России. А за двадцать лет до этого, в канун исторического катаклизма 1917 года, знаменитый немецкий социолог, специалист по русскому вопросу Макс Вебер, анализируя причины поражения русской революции 1905 г., видел их, подобно Шульгину, в незрелости народа, которому ни к чему была свобода, навязываемая ему либеральной интеллигенцией. Так же, как и Шульгин, он утверждал, что Россия не дозрела до всеобщего избирательного права, и предсказывал ей неизбежный приход к авторитарному режиму в результате любого, сколь угодно демократического поначалу, грядущего переворота.
Если уж объективно-доброжелательный диагноз Вебера звучит столь согласно с заклинаниями Достоевского образца 1880 года и с поучениями Солженицына образца 1980-го, то чего остается ждать от заведомых хулителей-жидов, вроде Ричарда Пайпса и Александра Янова? Они-то, проклятые, изначально строили свои злокозненные диагнозы и прогнозы на обидной презумпции, что пресловутая российская соборность вкупе с пресловутой общинной собственностью на землю автоматически исключает какую бы то ни было самостоятельность русского народа? И потому они, губительно предопределяя его духовную и экономическую судьбу, приходят к тому же выводу уже с совсем других, либерально-демократических, позиций: нельзя доверить индивидуальную ответственность избирательного права народу, который, если и знает какую-то ответственность, то только коллективную.
Интересно, что во всех упомянутых оценках расхождений никаких нет: и радетели, и хулители судят хоть и несогласованно, но согласно. Согласны они по существу, а не согласованы по недоразумению, так как не сговорились об определениях. И потому предлагают разные способы лечения болезни, природа которой однозначно очевидна и либералам, и ретроградам.
Выходит, мне только и остается, что поставить точки над «i», называя вещи своими именами. Я не хочу умалять важность такой постановки вопроса: еще в молодости, когда я занималась физикой, – был такой грех, – я поняла, что, правильно сформулировав условие задачи, мы практически обеспечиваем ее решение. Мне кажется, что, вводя определение народа «взрослого» и «невзрослого» для характеристики его склонности соответственно к демократии или тоталитаризму, мы можем с неожиданной легкостью прояснить картину многих исторических процессов, до сих пор затуманенную ненаучными, сбивающими с толку эмоциями участников дискуссии.
В свете всего вышесказанного нелепо обвинять Достоевского и Солженицына в ретроградстве: ведь не такой это смертный грех – знать и понимать детскую душу своего народа! И даже их претензии к скучным колбасникам-швейцарцам меняют свою первоначальную окраску – непристойно злобные в устах взрослого, они звучат почти мило в устах ребенка, которому жизнь взрослых кажется скучной. Ему отвратительны взрослые дяденьки и тетеньки, ведущие бесконечно занудные разговоры о политике, ценах и налогах. Народ-ребенок хочет играть в «сыщики-разбойники» или в «дочки-матери» – как же не опасаться той детской бесшабашности, с которой этот народ может злоупотребить равноправием, полученным не по чину, вернее – не по возрасту?!
Ведь справедливости возрастного ценза никто пока не оспаривал. И никто никогда не настаивал на равенстве взрослых и детей при решении судьбоносных вопросов. История не раз показала, к чему приводит неправильно примененная идея равенства: страшная сегодняшняя судьба многомиллионно вымирающих народов Черной Африки – наглядный тому пример. Пока они существовали как неравноправные подданные своих вождей, – хоть черных, хоть белых, – они страдали, но жили, а теперь, утвердив свои карикатурные демократии «a la Afrique», они принялись уничтожать друг друга и враг врага столь ретиво, что скоро уже некого будет спасать от голода, воцарившегося в их демократическом хаосе. Можно подумать, что они ценой жизни целого континента взялись доказать правоту Солженицына, объявившего равенство «энтропией, ведущей к смерти».
Обсуждая идею равенства, В. Шульгин близок к Солженицыну, как и положено ретрограду. Вопрос этот так его волнует, что он даже изменяет своему обычному суховато-деловому стилю и ударяется в поэзию: «Есть ли Равенство – закон Природы или, наоборот, Природа есть роскошная хартия неравенства, выписанная бесконечно-неравными литерами на картах звездного неба? Уравнение в правах людей, совершенно неравных по своим духовным качествам, есть восстание против Природы, каковое восстание не может не караться время от времени…»
Стыдно признаться, но я с ним согласна – может, я тоже из разряда ретроградов? Что ж, раз так, я перейду к анализу еще одного собрата по ретроградству – ибо многое из того, чем он вызвал раздражение русскоязычной части «прогрессивного человечества», может быть, если не вполне оправдано, то в значительной степени смягчено переопределением русского народа как невзрослого, рассмотренного в противостоянии с еврейским народом как взрослым.
Ретроград этот почти во всем соответствует тому описанию, которым Каганская объединила Достоевского и Солженицына: у него – мировая слава (в области математики), он предъявил деспотизму обвинения дантовской мощи (вместе с А. Сахаровым). В тюрьме он, правда, не сидел, но мог бы сесть, будучи верным соратником Сахарова в самые тяжкие времена. И, несмотря на все это, взял и грубо обманул наши ожидания: вместо приличествующего его статусу призыва к равенству и братству написал гнусный антисемитский опус «Русофобия». Вы уже поняли, о ком речь? Вы правы: именно о нем, об академике Игоре Шафаревиче. Именно его печально и позорно знаменитое творение я хочу опять подвергнуть анализу – не с целью осудить, а в надежде понять.
Надеюсь, никто не заподозрит меня в пристрастии к антисемитам, хоть, должна признаться, особой неприязни я к ним тоже не питаю – ведь я позволяю себе судить и оценивать другие народы, почему бы не позволить и им судить и оценивать мой? Тяжко это только в условиях политического неравенства, а если за моей спиной есть моя армия и флот, то пусть думают, что хотят.
В личном пристрастии к Шафаревичу меня тоже трудно заподозрить – суть не в том, что он обложил лично меня в «Русофобии», а в том, что он обложил меня неинтеллигентно. Привожу его слова:
«Пьеса «Утомленное солнце» (вообще замечательная клокочущей ненавистью к русским). Автор – Нина Воронель, недавний эмигрант из СССР (может быть, пьеса здесь и писалась?). В пьесе трус и негодяй Астров спорит с чистым, принципиальным Веней. Астров кричит:
– Ответственности вы не несете, но устраиваете нам революции, отменяете нашего Бога, разрушаете церкви!
– Да чего вы стоите, если вам можно революции устраивать! – парирует Веня».
На этой фразе Шафаревич основывает свое заключение о моей «клокочущей ненависти к русским». Не собираясь доказывать, что я не верблюд, я хочу обратить внимание читателей на его исключительно неинтеллигентную презумпцию, будто герои пьесы всегда выражают мнение автора. Какое счастье, что Шафаревич не татарский националист! Не то он, процитировав пьяного шкипера из другой моей пьесы «Воскрешенный»: «у татарок все поперек, – что у других баб вдоль, то у них поперек», – мог бы объявить, что я, томимая подсознательной завистью к Белле Ахмадуллиной, облыжно охаиваю татарских женщин.
И все же я хочу сопоставить тезисы «Русофобии» с тезисами книги Шульгина не с целью осудить, а все в той же надежде понять. Многое объединяет ретрограда-Шафаревича с ретроградом-Шульгиным – уж Каганская на моем месте обязательно нашла бы какое-то сложно-семантическое объяснение тому факту, что их фамилии начинаются на одну и ту же букву, родственную ивритскому «шин», с которой начинается ивритский «ШЕД», по-русски означающий – «бес, черт». Так мы и будем этих чертей величать – «2Ш». Оба черта во многом совпадающе-логичны и даже порой справедливы в оценке отдельных характерных черт как русских, так и евреев. И так же внезапно совпадающе-истеричны, когда вдруг теряют контроль над своими, до того вполне разумными, мыслями и дружно в унисон заходятся в кликушеском припадке антисемитского безумия.
Однако при ближайшем рассмотрении внезапность этих припадков оказывается иллюзорной, их можно заранее предсказать: они случаются, когда ущемляется общая душевная грыжа наших «2Ш» – их мучительный комплекс неполноценности. Можете судить сами:
«Г. Померанц открывает универсальную закономерность русской жизни – что в ней всегда ведущую роль играли нерусские: «Даже в романах русских писателей какие фамилии носят деловые, энергичные люди? Костанжогло, Инсаров, Штольц. Тут уж заранее приготовлено было место для Левинсона». Ставится даже такой мысленный эксперимент: если бы опричника Федьку Басманова перенести в наш век и сделать наркомом железнодорожного транспорта, то у него, утверждает автор, поезда непременно сходили бы с рельс, а вот «у мерзавца Кагановича поезда ходили по расписанию, как раньше у Клейнмихеля» (И. Ш.).
Ничего не скажешь, мерзавец Г. Померанц написал обидно, особенно для того, кто сам так думает – страдает, локти себе кусает, но в глубине души согласен, что мерзавец подметил правильно. А ведь какое было бы им облегчение, если бы объяснить непрактичность и неумелость русских просто их невзрослостью, детством – тогда и упреки в варварстве и жестокости звучали бы не так непереносимо: ну что взять с дитяти?
А если считать, что все народы одинаково взрослые, беднягам «2Ш», по милости таких Померанцев, становится до боли стыдно за свой народ, вот они и кликушествуют. И при этом в своих собственных, полных детских обид писаниях приводят примеры, которые при желании могли бы объяснить и оправдать их подопечных.
«…проверим наши сомнения на утверждении о жестокости, варварстве, специфическом якобы для всей русской истории. Как будто существовал народ, который в этом нельзя упрекнуть! В Библии читаем о царе Давиде: «А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки…» А эллины?.. А Варфоломеевская ночь?.. И так было через всю историю» (И. Ш.).
Обидно Шафаревичу: евреям безобразия царя Давида прощают, французам Варфоломеевскую ночь не засчитывают, а на русских катят бочку и за царя Ивана, и за царя Петра, и за императора Иосифа Сталина. А ведь он, математик, мог бы заметить сходство между евреями эпохи царя Давида и французами эпохи Варфоломеевской ночи: они проходили тогда свой период детского садизма, период вождизма, период стремления втиснуть потную народную ладошку в сильную руку Отца. Тут Шафаревич прав: все народы через это проходили. Суть в том, что некоторые уже прошли. Ни к чему страдать и стыдиться за свой народ, даже если он еще в пеленках. Все там были.
Вот вырастет, поумнеет и себя покажет. Как это у Киплинга, когда он утешает семнадцатилетнюю девушку, тушующуюся в сравнении с опытной красоткой «под пятьдесят»: потерпи, через тридцать лет «ей будет восемьдесят пять, тебе – под пятьдесят». Беда (а может, счастье?) в том, что исторические процессы текут слишком медленно, там часы другие, исторические: «тридцать лет» Киплинга – это тридцать людских поколений, так что за одну жизнь не дождешься утешительных перемен.
Вот и воюют между собой радетели и хулители, согласные по сути и несогласные по недоразумению, но те и другие равно близорукие. Главное поле их битвы – вопрос о демократии. Все они сходятся на диагнозе: с демократическим устройством в России есть – и всегда был – непорядок.
Несогласие начинается при обсуждении причин болезни и методов ее лечения:
«…основной вопрос, который сейчас, как и много поколений назад, разделяет русское диссидентское движение, – является ли Россия европейской страной или для нее существует особый, собственный путь развития». А. Янов (хулитель).
«По мнению авторов (хулителей) вообще существует лишь два решения, выбор возможен лишь из двух вариантов – современная демократия западного типа или тоталитаризм… Что касается современной демократии западного типа, которую столь настойчиво предлагают разбираемые авторы (хулители) в качестве универсального решения всех общественных проблем, то в ее современном состоянии она вызывает ряд сомнений…» И. Шафаревич (радетель).
С невозможностью немедленного полного расцвета демократии на изрядно затоптанной в грязь клумбе российской действительности согласны оба лагеря, спор идет лишь о том, считать эту невозможность результатом достоинств русского народа или его недостатков. И радетели, и хулители сосредоточились именно на оценочной стороне проблемы – читая их полемику, порой можно подумать, что реальная судьба России волнует их гораздо меньше, чем ее престиж в ряду цивилизованных стран.
«Так в России вообще делается история. Русский народ трепещет и пятится перед грозным самодержавием, которое его режет на части, как Иванушку, и спекает заново. Потом, когда спечется, – признает хозяина своим и служит ему верой-правдой». Г. Померанц (хулитель).
«…мы имеем дело не с искренними попытками понять смысл русской истории, а с целью… внушить читателю взгляд, согласно которому русские – это народ рабов, всегда преклонявшихся перед жестокостью и пресмыкавшихся перед сильной властью… а Россия – вечный рассадник деспотизма». И. Шафаревич (радетель).
Забавно, что не только хулители (что естественно), но и радетели (что, впрочем, тоже естественно, если вдуматься) именно демократический уклад принимают за образец для положительной оценки. Но если хулители требуют привести русский народ к этому идеалу искусственным насаждением структуры и насильственным давлением извне (А. Янов так и называет это «духовной оккупацией»), то радетели, подсознательно скрывая от себя самих цель таких поисков, ищут более органичных (хоть, вероятно, еще менее реалистичных) путей к достижению этой цели.
«Важно для русских не то, будет ли у них Парламент, Земский Собор, Вече или еще что-нибудь в этом роде. Важно, чтобы у нации был вожак, который ослаблял бы неистовое взаимотрение русского народа, складывал бы русские энергии, а не вычитал бы их одну из другой, как это неизменно делается, когда воцаряется хаос, именуемый некоторыми «русской общественностью», другими – «русской демократией» (В. Ш.).
«…Россия может ИСКАТЬ какой-то СВОЙ путь в истории… народ пойдет по пути, который он сам выработает и выберет… через свой исторический опыт» (И. Ш.).
А. Янов об этом поиске пишет: «Не заключается ли он в поисках альтернативы для европейской демократии? И не приводит ли такой поиск неизбежно даже самых благородных и честных мыслителей в объятия авторитаризма?»
С первого взгляда кажется, что противоречия между глашатаями обоих направлений неразрешимы, а по сути и те, и другие очень близко подходят к точке водораздела, т. е. к проблеме возраста народа, – они просто подходят к ней с противоположных сторон. Если бы они эту точку заметили и осознали, то, возможно, сами удивились бы близости своих позиций.
Это как поиски «зайчика» на картинке-лабиринте: после того, как ты его нашел, ты уже не можешь его потерять, ты всегда его видишь.
Не нужно НАСИЛЬСТВЕННО НАСАЖДАТЬ ДЕМОКРАТИЮ, точно так же, как не нужно утруждать себя ПОИСКОМ каких-то таинственных собственных путей, – просто надо потерпеть, пока народ-ребенок повзрослеет. Как ребенок неизбежно склонен к авторитаризму, так взрослый добровольно выбирает демократию – ибо только взрослый способен к сознательному выбору. Сам процесс взросления, очевидно, нельзя – И НЕ НАДО! – ни ускорить, ни замедлить.
Любопытно, что больше всего неосознанных указаний на это можно найти у самого ретивого и воинственного ретрограда И. Шафаревича. Предсказывая западной демократии скорую гибель, он в виде доказательства ссылается на то, что «из вновь возникающих государств почти ни одно не избрало государственный строй западного типа». Если признать верным склонность невзрослых народов к авторитаризму, утверждение Шафаревича нисколько не умаляет жизнеспособности демократии, оно только подчеркивает ее непригодность для «вновь возникающих государств».
Как определить наступление взрослости? Внимательный обзор исторического процесса возникновения и утверждения демократического уклада в Европе (я принимаю как аксиому тот факт, что демократия – и в Европе, и в США – это дитя европейской, точнее, христианской, цивилизации) наводит на мысль, что момент взросления народов весьма тесно связан с реформацией. По сути реформация содержит в себе все элементы взросления: как переход от слепой веры в миф к его критическому переосмыслению, так и переход от коллективного сознания к утверждению суверенности отдельной личности.
Чем же характерна реформация?
Тот же дотошный радетель Шафаревич практически поставил точку над этим «i», введя определение «малый народ».
«Мы сталкиваемся с КАЛЬВИНИЗМОМ, оказавшим такое влияние на жизнь Европы XVI–XVII веков. В его идеологии… мы легко узнаем знакомые черты «малого народа».
Совершенно в унисон с Шафаревичем пишут цитируемые им злокозненные хулители – безымянный Горский, Г. Померанц и Б. Шрагин.
«Старое противоречие между беспочвенной интеллигенций и народом предстает сегодня как противоречие между творческой элитой и оболваненными и развращенными массами, агрессивными по отношению к свободе…» (Г-й).
«Новое что-то заменит народ. Здесь складывается хребет нового народа. Масса может заново кристаллизоваться в нечто неправдоподобное только вокруг новой интеллигенции» (Г. П.).
«Интеллигенция в России – это зрячий среди слепых, ответственный среди безответственных, вменяемый среди невменяемых» (Б. Ш.).
Остается только добавить «взрослый среди детей» – и все станет на место. А поскольку с дитяти взять нечего, можно будет с легкостью пересмотреть и даже убрать обидные слова вроде «невменяемый и безответственный», «зрячий среди слепых». И ждать реформации, т. е. состояния, когда прослойка «малого народа» достигнет такого размера, что сможет повлиять на поведение «большого».
В августе 1991 года на миг показалось, что чудо уже произошло. Несомненно, толпа у Белого Дома в основном состояла из «малого народа» – она, однако, была достаточно большой, чтобы пересилить заговорщиков. Но сегодня уже ясно, что ей не удалось пересилить инертность и невзрослость «большого народа». Что ж, ведь и Февральская революция начиналась видимостью народной взрослости, а кому не известно, чем она кончилась? И опять народ-дитя ищет Отцовскую фигуру, чтоб ее гигантский силуэт мощно вырисовывался на пожарном фоне Российского неба.
За то, что я пыталась втолковать эти соображения Бену Сарнову, он проникся ко мне глубокой неприязнью и отверг нашу многолетнюю дружбу. Спрашивается, стоило ли терять старых друзей ради репутации Солженицына? Ну зачем мне понадобилось лезть в чужие дела? Зачем после стольких лет благоразумного уклонения я снова стала обсуждать этот Богом проклятый «Русский вопрос», на который нет и не может быть общего ответа?
Тем более, что единственно возможный частный ответ – уехать подальше, забыть и растереть – я нашла уже так давно, что почти забыла вопрос. Забыть-то забыла, да растерла, видно, не до конца, раз опять потянуло меня на зыбкие российские топи и на топкие хляби исторической родины, России.
Ведь к концу жизни я нашла свое место на земле. Когда я увидела ровные ряды каменных плит на каменных склонах иерусалимского кладбища, мне открылась истина: Родина – это место, где твоя смерть имеет какой-то смысл. По еврейским представлениям умереть – значит «вернуться к своему народу». То есть истинное понятие Родины кровно связано не с рождением, а со смертью. Обыденное коренное родство слов «родина» и «родиться» сбивает с толку, затушевывая эту связь и придавая чрезмерную значительность месту нашего рождения, – а ведь мы его не выбираем.
Но все же оказалось, что место рождения, пусть и не столь значительное, имеет власть над моей душой – памятными деталями, запахами детства, диктатом навечно заученного синтаксиса.
Есть ли еще язык, который я знаю так же хорошо, как он знает меня?
Есть ли еще вопрос, ответ на который подсказан мне не разумом, а чувством?
Можно ли убежать от себя самой?
За это все я и заплатила потерянной дружбой.
Илья Кабаков и Михаил Гробман
Местный хулиган Гробман гордо ехал по Тель-Авиву на белом коне, за ним весело приплясывала небольшая, но яркая процессия соучастников. Кудрявую голову хулигана украшал венок из живых цветов, конь под ним потряхивал белой гривой, в которую артистическая рука любящей супруги Ирины Гробман-Врубель-Голубкиной вплела алые ленты, соучастники нестройно скандировали непонятное на русском языке. Ивритоязычная уличная толпа обтекала процессию без излишнего любопытства – мало ли у нас в стране чудаков? Им, невеждам, было невдомек, что это русские авангардисты отмечают столетие со дня рождения Председателя Земного Шара Велимира Хлебникова.
Откуда было знать им, взращенным на свободе любого выпендривания, сколько отваги понадобилось Мише Гробману, чтобы превратить свою жизнь в непрерывный хеппенинг?
Впервые я услышала о Гробмане много лет назад в Москве от художника Ильи Кабакова, его славного соратника по борьбе с социалистическим реализмом. Это было на дне рождения Лины Чаплиной, о которой я тоже когда-нибудь напишу, если решусь рискнуть многолетней дружбой.
Мы на празднество слегка опоздали и, войдя в тесную квартирку Лининой мамочки, вдруг оказались в оголтелой толпе танцующих. Не знаю, какая муха их всех покусала – у Лины никогда не танцевали, к ней приходили поговорить. Это мероприятие так и называлось «пойти к Линке на диван», потому что и гости, и хозяева впритирку сидели на большом диване и взасос ругали Советскую власть. С дивана сползали, только если мамочка звала пить чай или если кто-нибудь приносил подсудный самиздат. Тогда ложились вповалку на потертый ковер на полу, чтобы все одновременно могли читать запретное, напечатанное с двух сторон на папиросной бумаге.
А тут все словно взбесились – позабыв родную ненавистную власть, все говоруны и пророки ни с того ни с сего начали неумело, но страстно отбивать сильно напоминающий чечетку рок-н-ролл. Кабаков выделялся среди других танцоров несомненным мастерством исполнения и полным равнодушием к партнершам. Было неважно, с кем он танцевал, – он всегда упоенно и виртуозно танцевал сам с собой. И никто больше не был ему нужен.
Тогда, в молодости, Кабаков говорил без остановки, упоенно и виртуозно, поясняя свои картины, создавая и разрушая эстетические концепции. Именно в тот вечер, переводя дух между роком и танго, он для иллюстрации своего очередного теоретического взлета упомянул Михаила Гробмана как одного из «отцов советского авангарда». Имя Гробмана вспыхнуло на миг, но тут снова грянула музыка, и Кабаков впорхнул в звуковой поток и упоенно закружился по комнате, позабыв обо всем, кроме танцующего себя.
Когда я переехала в Израиль, мне сказали, что Гробман давно живет в Тель-Авиве, но встретились мы только через несколько лет. В тот августовский вечер в небольшой тель-авивской картинной галерее был вернисаж какого-то русскоязычного художника. Смешно говорить о языке художника, для которого язык несуществен, но как иначе определить его принадлежность к нашей группе?
Вернисаж получился отличный – вина выставили много, а к вину дали разные сыры и крекеры всех сортов. Да и народу, несмотря на жару, сбежалось видимо-невидимо: очень уж все стосковались по российской тусовке. В низком подвальчике галереи было не продохнуть, так что большая часть публики выплеснулась наружу, на узкую улочку, стекающую в море ленивой струйкой плавящегося от жары асфальта. Одеты, а вернее раздеты, все были соответственно погоде – мне кажется, что только в Тель-Авиве дозволено прикрывать тела любого пола, веса и возраста такими эфемерными фиговыми листочками. В других известных мне жарких городах, например, в Нью-Йорке или в Иерусалиме, за такую фривольность осудили бы единодушно.
В оживленно болтающей пестрой толпе полуголых выделялся невысокий кудрявый парень, плотно упакованный в наглухо застегнутую на все пуговицы джинсовую куртку и в джинсы, заправленные в высокие, до колена, черные сапоги. Бросалось в глаза, что он знаком со всеми: он непринужденно бродил от группы к группе, довольно ловко лавируя среди беззащитных ног в сандалиях и босоножках. И говорил. Никого не слушал, только говорил.
«Кто это – в сапогах?» – спросила я.
«Неужто не знаешь? – удивился мой собеседник. – Это ведь Миша Гробман – кто еще в августе может явиться в сапогах? Зато зимой он бы обязательно приперся в шортах – в пику нам, обывателям, кутающимся в шарфы!»
Действительно, как я могла не догадаться, что это Гробман? Не по сапогам, а по словесам: он говорил совсем как Кабаков, – без остановки, упоенно и виртуозно, поясняя свои картины, создавая и разрушая на лету эстетические концепции. Впрочем, я ведь тогда еще не отдавала себе отчета, как неразрывно кабаковско-гробманский вариант авангарда связан со словом.
Кто-то сказал, что «авангард» – это не стиль, а образ жизни. Кто-то возразил, что это – образ мыслей. Я бы сегодня сказала, что это – фигура речи. Уже в блаженные времена подпольного «авангарда», когда всякий, кто держал в кармане эстетическую фигу, мог претендовать на гениальность, Гробман громил реализм железным кулаком слов:
«Реалист есть лживый свидетель человеческого существования, осквернитель воли Творца. Реализм… в своих объектах и художественных акциях апеллирует к прозаической логике домашних хозяек».
Ни Гробман, ни Кабаков никогда не стремились изобразить на своих полотнах внешний облик окружающего мира, хоть в молодости они еще снисходили до простого наложения красок на холст. Но с самого начала своего творческого пути оба они стремились словесно сформулировать свое философское видение искусства, явно не полагаясь на прямое, не подкрепленное словом, воздействие своих картин. Откуда это пристрастие к слову? Большинство знакомых мне художников – люди бессловесные, в ответ на вопрос, что они хотели изобразить на своих картинах, они или сердятся, или нечленораздельно бормочут. Зато слушать Кабакова, говорящего о своей живописи, куда увлекательней, чем эту живопись разглядывать. Но не потому, как говорится в известном анекдоте, что его живопись недостаточно интересна, а потому что нет ему равных в искусстве рассказа. Помню забавную его картину, сплошь записанную неприхотливыми ситцевыми обоями в виде сиреневых букетиков, геометрически равномерно чередующихся на бежевом фоне. Единственной нарушительницей порядка была большая иссиня-лиловая муха, несимметрично примостившаяся среди букетиков где-то справа от центра.
«Я сделал из мухи слона! – восторженно объяснял художник. – Она нарушает скуку размеренного поля обоев и вырастает в событие!»
И, соблазненные его словами, мы начинали смотреть на муху другими глазами.
Однажды я привела к Кабакову своего приятеля, жаждавшего приобщиться к миру неофициального искусства. Мы вошли в подъезд со двора и долго взбирались по черной лестнице для прислуги на чердак многоэтажного дома, где Кабаков обустроил свою мастерскую. Дом был дореволюционный, барский, помнится, он принадлежал когда-то акционерному обществу «Россия», так что строили его щедро и этажи были непомерно высокие, а лифт подавали только на парадной лестнице для господ. Но лестничная площадка чердачного этажа не была концом нашего пути – ею открывался следующий этап, по бесконечным дощатым мосткам, переброшенным над зияющими провалами в чердачных перекрытиях.
Когда мы наконец добрались до кабаковской двери, лицо моего приятеля выразило столь сильное сомнение в том, насколько ему действительно интересен поп-арт, что мне стало его жаль. Я не уверена, что он, человек глубоко буржуазный, был вознагражден за свои усилия, когда увидел мастерскую «первого советского дадаиста» – так тогда величали Кабакова. Теперь его титул сменился на «главного концептуалиста», что, наверно, надо рассматривать как повышение. В те далекие времена он еще не был концептуалистом, хотя, как мы обнаружили, семимильными шагами приближался к своему новому титулу.
Мы, конечно, еще не знали, что в ближайшем будущем это назовут концептуализмом, но, обходя огромный низкий зал, встроенный прямо под крышей высокостенного барского дома, мы невольно отметили, как густо картины последнего периода записаны фразами различной длины – гораздо гуще, чем замалеваны красками.
Начался наш визит с курьеза. Как я уже отметила выше, приятель мой, хоть и поддерживал в себе интерес к искусствам, по сути своей был человек вполне буржуазный, да к тому еще изрядно измученный тернистым путем в святыню авангардизма. Поэтому он поспешно снял свое вполне доброкачественное драповое пальто и велюровую шляпу и стал озираться в поисках вешалки. Хозяин, который с ходу начал упоенно рассказывать драматическую историю своих поисков способа отражения четвертого измерения в живописи, не обратил никакого внимания на страдания гостя, томящегося под бременем пальто и шляпы. Он не понимал, почему гость просто-напросто не швырнет весь этот хлам на пол или в крайнем случае на покрытый шерстяным одеялом диван, приткнувшийся в углу невысокой сцены, выгороженной посреди мастерской под жилую часть. Но гость дорожил своим приличным пальто и потому, в конце концов, нашел висящие на гвозде деревянные плечики, на которых удовлетворенно разместил свою драгоценную верхнюю одежду. Не успел он вернуть плечики обратно на гвоздь, повалив при этом дворницкую метлу, прислоненную к стене под гвоздем, как Кабаков прервал свой вдохновенный рассказ и завопил:
– Немедленно уберите оттуда пальто! Ведь плечики – это часть картины!
Мой несчастный буржуазный приятель страшно смутился: он поспешно сорвал пальто и шляпу с плечиков, которые с грохотом упали. Он испуганно бросился их поднимать, отшвырнув при этом в угол метлу, и в завершение, ясно сознавая свою обывательскую неполноценность, уронил пальто и шляпу на грязный пол, который отродясь никто не мыл. Кабаков всех этих мелочных переживаний даже не заметил: он аккуратно вернул метлу и плечики на место и стал пространно объяснять, что именно эта, еще не вполне завершенная, картина служит особенно ярким примером его последних достижений в области четвертого измерения.
Картина представляла собой большой белый прямоугольник примерно два метра на три, расчерченный как школьный дневник, если увеличить его страницу пропорционально площади картины. В верхнем правом углу прямоугольника был вбит гвоздь, на гвозде висели злополучные плечики, а под ними стояла метла. Истинная суть картины состояла не в самих предметах, а в реакции на них разных вымышленных персонажей, преимущественно членов одной еврейской семьи, как следовало из их имен, выведенных каллиграфическим почерком в левой, короткой, графе дневника. Тут были тетя Броня, тетя Песя, дядя Пиня и другие им подобные. Они высказывались категорично и с налетом одесского акцента в средней, удлиненной, графе, тогда как в правой, последней графе им за это выставлялись отметки по пятибалльной системе. Так как картина была еще не окончена, не все мнения были сформулированы, но помню, как тетя Броня настаивала, что метла нужна, чтобы в доме было чисто, а любознательный дядя Пиня хотел знать, зачем тут плечики, за что получил пятерку. Вот эти-то нехитрые соображения тети Брони и дяди Пини и передавали, по концепции Кабакова, идею четвертого измерения в нашем хоть и неблагополучном, но вполне трехмерном мире, ибо каждое событие и предмет умножались в свете разных о себе представлений.
– А вон та картина, – гордо указал Кабаков на голубой квадрат над диваном, – выставлена сейчас в Париже.
– Это, что ли, копия? – наивно спросила я, разоблачая свое полное непонимание самых основ грядущего концептуализма.
– Нет, это оригинал, – возразил Кабаков.
– А что же выставлено в Париже? Неужто копия?
– Ну что ты заладила – копия, копия! Там тоже оригинал! – рассердился он. – Я послал туда образцы цвета и шрифта, а также размеры и текст, и они все воспроизвели на месте.
Таким образом, при мне, возможно впервые, был сформулирован основной принцип возникавшего на моих глазах концептуализма – воспроизводимость. Я, разумеется, тогда этого не поняла, но теперь вычислила и горжусь своей причастностью.
Надо сказать, что картину, о которой шла речь, воспроизвести было бы нетрудно – так проста и концептуальна она была. Небольшой – полтора на полтора – квадрат был равномерно закрашен голубым, так что белыми остались только четыре маленьких равнобедренных прямолинейных треугольничка в четырех его углах. В каждом треугольничке каллиграфическим почерком было записано мнение одного из членов той же еврейской семьи – похоже, они обсуждали разделяющее их голубое пространство. «Это море», – сказала тетя Броня. «Это небо», – сказала тетя Песя. «Это просто синяя краска», – сказал дядя Пиня. «Это чистый воздух», – сказал дядя Мося.
Похоже, стареющая авангардистская живопись с годами стала все больше и больше стремиться выразить себя в слове.
Шел вечер журнала «22». Местный хулиган Гробман читал со сцены свои стихи, напечатанные в последнем номере журнала. Стихи были охальные и очень смешные. После нескольких строк, в которые были щедро вкраплены изюминки нецензурных слов, немолодые нарядные дамы, сидящие в первых рядах, дружно и картинно заткнули уши. В ответ молодые читатели, сидящие на ступеньках в проходе, не менее дружно затопали ногами и завыли от восторга.
Поскольку М. Гробман за прошедшие годы прорвался в самый передовой авангард их общего с И. Кабаковым авангардизма, он стал все сильнее пренебрегать изобразительной формой ради формы словесной. Или, выражаясь научно, стал все чаще жертвовать первой сигнальной системой ради второй. Так, лет десять назад он издавал рукописную – не путать с машинописной! – газету «Левиафан», основная прелесть которой состояла в графической красоте аккуратно и разнообразно выведенных букв с завитушками и без, которые складывались в художественную программу учения «Левиафан», которая давала жизненные силы эстетическому движению «Левиафан», которое было создано для великой цели «творить психологию, историю и этнографию», которые…и т. д.
Стихи М. Гробмана, не пренебрегая психологией и историей, похоже, сосредоточились на создании этнографии. Героями их стали члены все той же еврейской семьи И. Кабакова, впрочем, только мужская ее часть – дядя Пиня и дядя Мося. Тете Броне и тете Песе мэйл-шовинист Гробман слова не дал, разве что позволил им выступать во вспомогательных бессловесных ролях: «Детишки рыдали, жена раскололась…», «Жена украинские песни поет…», «Жена, наполни чемоданы, чего стоишь как истукан…»
Зато дядя Пиня и дядя Мося М. Гробмана сохранили свой акцент, свой здравый смысл, свой философский подход к жизни, а главное – свое умение по обстоятельствам то делать из мухи слона, то из слона – муху:
- «Я сионист и я горжуся
- Незримой вредностью своей —
- Уже давно владею Русью
- Как франкмасон и как еврей…»
- «Если видеть через призму изменения жены,
- То не надо сионизму и не надо мне войны.
- Я отдам Ливан задаром, Иудею и Голан
- Хоть арабам, хоть татарам, хоть гибридам обезьян».
Однажды дяде Мосе пришла в голову идея перераспределения Нобелевской премии И. Бродского (340 тысяч долл.) – он, конечно, знал лучше всех, кому положено ее получить:
- «Я стяну с себя засаленный лапсердак
- Надену рубашку, галстук, черную пару…
- И начну быстро пока не прогнали».
Все-таки он подозревал, что не все согласятся с его выбором! Я же, прочитавши имена новых лауреатов дяди Моси – Хуннадия Айги и Стася Красовицкого, – вспомнила свой почти хрестоматийный диалог с ныне знаменитым X. Айги, которого в те далекие времена прозаически звали Генка Лисин:
Лисин-Айги: Нет, Пастернак не гений всех времен и народов. Гениев всех времен и народов только три: Гете, Рильке и Красовицкий.
Я (озадаченная): А кто это – Красовицкий?
Лисин-Айги (возмущенно): Ты не знаешь Красовицкого? Это величайший поэт всех времен и народов.
Я (наивно): Лучше тебя?
Лисин-Айги (гневно): Почему лучше? Вровень!
Из этого диалога мне открылся еще один признак концептуального авангарда – каждый его участник считается (среди своих) гением всех времен и народов.
В далеком тихоокеанском городе Сиэтле, куда мой муж был приглашен на лето для научной кооперации, проходила выставка русского авангарда. Американский коллега мужа счел своим долгом почти прямиком из аэропорта втиснуть нас в машину и повезти в музей, чтобы в принудительном порядке познакомить нас с достижениями наших бывших соотечественников. Так американцы понимают гостеприимство – что, пожалуй, легче перенести, чем недавнее гостеприимство израильтян, которые настойчиво требовали петь с ними хором «Подмосковные вечера».
В музее было прохладно и пустынно – наверно, мы были единственные в тот день в Сиэтле гости российского происхождения. Мы прошли мимо весьма реалистически выполненного графика послеменструальных выделений художницы Н. Ивановой и вошли в инсталляцию И. Кабакова.
Было очевидно, что художник направил свой творческий поиск в сторону увеличения размера своих произведений: если внутри его картины прошлых лет можно было повесить пальто и шляпу, в современную его постройку могла, не очень теснясь, войти большая группа любопытных в пальто и шляпах. Перед нами, а вернее вокруг нас – поскольку мы вошли внутрь, – была воссоздана кухня коммунальной квартиры. Но, как и в полотнах раннего концептуализма, главный смысл этого произведения оказался глубоко и однозначно литературным. Я употребляю тут слово «произведение», поскольку не знаю, как иначе назвать это странное детище кабаковской фантазии – язык мой не в силах произнести неуклюжий термин «инсталляция», щедро пропахший засорившимся сортиром.
Впрочем, неповторимый запах засорившегося сортира был вовсе не чужд инсталляции коммунальной кухни, которая по всей длине была затянута густой сетью бельевых веревок, – на веревках висели старательно запрессованные в целлофан засохшие объедки, явно добытые из мусорного ведра. Ко всем покрытым плесенью хлебным коркам, ко всем позеленевшим ломтикам сыра и подгнившим колбасным огрызкам были приколоты листочки, на которых каллиграфическим почерком были увековечены философские сентенции неугомонной тети Песи и благоразумного дяди Моси.
Но, как видно, близкое знакомство с нравами Запада внушило художнику сомнения в доходчивости написанного текста, и потому под потолком кухни он поместил радиомегафон, непрерывно транслирующий насыщенную житейской мудростью дискуссию тех же персонажей. Как видно, следующий шаг авангардизма состоял не только в укрупнении декорации, но также и в расширении путей проникновения слова в сердце публики.
Через несколько лет я опять встретила Гробмана. Шло заседание худсовета Тель-Авивского культурного центра при Сионистском форуме. Мы обсуждали завершение работы по созданию русскоязычной библиотеки. Застенчивая библиотекарша Р. тихим голосом рассказывала, как она в течение года собирала книги, на покупку которых ей не было выдано ни гроша. Она с потаенной гордостью обвела рукой шеренги уставленных книгами полок и робко подняла глаза на членов совета, ожидая одобрения. Не успел никто из нас открыть рот, как к столу докладчика стремительно вылетел М. Гробман.
– Это позор! – страстно воскликнул он, указывая на книги.
Все замерли в предчувствии драмы, а библиотекарша ахнула и часто заморгала. Но М. Гробман не заставил нас долго томиться недоумением. Он картинно воздел руки и продекламировал:
– Стыдно в конце двадцатого века думать, что библиотека – это место, где на полках стоят книги. Ничего подобного, библиотека не имеет никакого отношения к книгам!
После этих слов библиотекарша заплакала и заседание худсовета пошло сикось-накось. Никто уже не говорил о библиотеке, все говорили только о Гробмане.
Я не думаю, что М. Гробман имел что-нибудь против книг вообще или против скромной библиотекарши Р. в частности. Ему скорей всего просто надоело долго сидеть среди людей, не уделявших ему специального внимания. Его выступление на худсовете не отличалось принципиально от его выезда на белой лошади – оно сводилось к расширению путей проникновения слова в сердце публики.
Много лет назад молодой и еще никому не известный художник И. Кабаков так определил свои творческие задачи: «Мы живем в эпоху инфляции искусства. Сегодня никого нельзя удивить изощренной живописной техникой или необычной цветовой гаммой. Все умеют писать хорошо. Нужно привлечь к себе внимание публики на выставке – и это главное».
Конечно, не Кабаков выставил в зале музея первый унитаз в виде художественного экспоната – но он успел вскочить на подножку этого поезда в будущее на последнем разъезде между Москвой и Парижем. Дальше его уже понесло на волне.
Он создал инсталляцию в виде двух натуральных кабинок грязного общественного туалета, и посетители выставки в музее Помпиду заходили в эти кабинки с не меньшим удовольствием, чем в чистые кабинки подлинного туалета музея. Причем о посещении туалета-экспоната они восторженно рассказывали своим друзьям, тогда как посещение подлинного туалета оставалось личной тайной каждого.
Много лет спустя, услышав мой рассказ о заветных зеленых туалетах в музее Помпиду, известный немецкий славист проф. Вольфганг Казак, неожиданно забыл правила вежливости и заорал пронзительным фальцетом:
– Настоящих лагерных сортиров он не отведал, ваш Кабаков! Посидел бы он на дощатом насесте длиной в триста очков, он бы такие сантименты вокруг сортиров не разводил!
Оказалось, что замечательный русский язык крупнейшего немецкого специалиста по русской литературе, был выучен им в лагере военнопленных, куда он попал в семнадцать лет. Он провел в этом лагере три года, которые оставили несмываемую печать в его душе – и общий сортир в триста очков сверкал там ярким пятном.
– А двери там были? – наивно осведомилась я.
– Двери, – взвыл профессор. – Дверей ей захотелось! Это в музее Помпиду были двери, а не в лагерном сортире!
Но Илья Кабаков, к счастью, не сидел на лагерном насесте и мог позволить себе безнаказанные игры вокруг российских сортиров.
Подметив, что инфляция поразила не только живопись, но и книгопечатание, М. Гробман остроумно выделил свою книгу стихов на фоне других книг – если всмотреться в изящную кружевную вязь, омывающую очертания юной гологрудой (топлесс) Музы на обложке книги, легко увидеть, что вязь эта образована бесконечно повторяющимся словом «хуй». Каждый глянет мимолетно, прочтет, не поверит своим глазам и посмотрит снова – чтобы убедиться. Вот и прекрасно – цель достигнута: повторный взгляд, притом пристальный – это уже внимание!
Разглядывая изрисованную охульным ажуром обложку охальной гробманской книжки, призывающей покончить с нашей «любимой гниющей эстетикой» и идти вперед, на Багдад, я вдруг поняла главный секрет концептуальных авангардистов.
Что бы они ни вытворяли – строили ли сортиры в выставочных залах музеев, украшали ли Музу каллиграфическим кружевом матерных слов, развешивали ли по стенам картинных галерей обагренные менструальной кровью тампоны, – все они по сути, подобно герою юношеского стихотворения Е. Евтушенко, с трогательным упорством повторяют одну единственную фразу:
– Граждане, послушайте меня!
А гражданам не до них, у граждан простые житейские заботы – квартира, колбаса, колготки, на что им Муза, даже если она «топлесс»?
Словно желая проиллюстрировать мой диагноз о возвращении авангардизма в лоно синкретического искусства, поэт Андрей Вознесенский как-то прислал мне в подарок свою книгу «Видеомы». Нет, если кто не знает, – это не сборник стихов, это каталог выставки графики автора в музее А. С. Пушкина. В предисловии к книге поэт (во всяком случае, раньше я числила его в поэтах, хотя, может, он уже давно играет ноктюрны на флейте водосточных труб) Генрих Сапгир назвал «Видеомы» вершиной творчества А. Вознесенского: «В своих видеомах Андрей Вознесенский авангарднее самого себя. Он работает на рубеже поэзии и пластического искусства».
Подумать только – совсем как И. Кабаков и М. Гробман!
Сговорились они, что ли?
Ханох Левин
Как-то во время спектакля в одном из театральных залов Тель-Авива разразился бурный скандал, взорвавший обычное вежливо-прохладное молчание театральной публики. Скандал этот напомнил славную эпоху разгрома выставок импрессионистов в Париже и разгула страстей после демонстрации первых фильмов Луиса Бюнюэля и Сальватора Дали. Происходил он согласно всем канонам того возвышенного отношения к искусству, при котором оно почитается важнейшим делом в жизни. Публика, давно привыкшая считать искусство приятным, но бесполезным баловством, вдруг встрепенулась, осознав, что присутствует при событии исключительном, принадлежащем другой жизни.
Давали пьесу израильского драматурга Ханоха Левина «Приговоренный к смерти». На сцене не было декораций в традиционном смысле слова: в центре стояли двумя рядами дамы и господа в торжественных вечерних туалетах, наводя на мысль о концертном исполнении классических пьес девятнадцатого века: так на моей памяти была одета труппа, представлявшая в шестидесятых годах ибсеновского «Пер Гюнта» на провинциальной сцене. Слева на авансцене стояли на коленях трое в полосатых тюремных костюмах, а по обе стороны сцены в роскошных, выложенных алым бархатом, витринах кровожадно поблескивали изощренные орудия пыток. Вначале все было, как положено: актеры плакали и пели, публика молча внимала, аплодируя в соответствующих местах.
Вдруг откуда-то из задних рядов раздался хриплый выкрик, похожий на птичий клекот, и грузный человек пробежал к сцене по ковровой дорожке, спускающейся ступенями в проходе между креслами. Зрители, давно привыкшие к хитроумным режиссерским трюкам, приняли его было за одного из актеров, тем более, что он с разбегу вскочил на сцену, резко выделяясь среди концертных фраков и обнаженных женских плеч, синей нейлоновой курткой на молниях. Но сами актеры в замешательстве попятились, оборвав музыкальную фразу на полутоне.
«Вы, вы! – крикнул в публику возмутитель спокойствия. Голос его вздрагивал то ли от искреннего, то ли от хорошо разыгранного гнева. – Сидите и наслаждаетесь! Аплодируете! И даже смеетесь! А здесь не смеяться надо, а плакать. Или вскочить и разнести всю сцену, все растоптать, сжечь и завыть от отчаяния на пепелище!»
Почуяв, что это не элемент спектакля, а настоящий «хэпеннинг», публика замерла, предвкушая удовольствие – равнодушная тишина зала вдруг зазвенела беззвучно от нарастающего напряжения перед взрывом. «Вон отсюда! Все вон! – завопил нарушитель спокойствия и затопал ногами. Он уже не говорил, а декламировал. – Сытые, тупые, равнодушные, прочь отсюда!»
Кое-кто из зрителей послушно поднялся – уходить, остальные сидели, не шевелясь, не дыша, боясь спугнуть происшествие. Но тут заволновались актеры за спиной возмутителя спокойствия, одна из актрис забилась в истерике. Из-за кулис выбежал администратор, он вел за собой здоровенного парня в джинсах. Вдвоем они заломили руки нервному ценителю искусств и довольно ловко уволокли его за кулисы, откуда еще долго доносился топот и неясные выкрики. Зал зажужжал, загудел и затих, актеры, поправляя сбившиеся прически, вернулись на свои места, но сосредоточиться по-настоящему уже никому не удалось, так что, хоть и побежденный физически, нарушитель мог торжествовать победу.
Прежде, чем попытаться рассказать, что в сорванном спектакле могло вызвать столь сильное желание его сорвать, мне хотелось бы окинуть беглым взором все творчество Ханоха Левина, ибо я вижу пьесу «Приговоренный к смерти» не одиночным явлением, а замыкающим звеном длинного художественного ряда, этаким восклицательным знаком в конце мировоззренческого тезиса.
Каков же главный мировоззренческий тезис Ханоха Левина, его весть, которую он несет в мир? Первая пьеса его «Хейфец» долго слонялась из театра в театр, не находя пристанища и признания. И немудрено: вся расстановка действующих сил и действующих лиц в пьесе пугала любого читателя яростным неприятием основных правил человеческой игры. Причем неприятие это было продиктовано не возвышенно-гуманистическими склонностями автора и не спасительной его любовью к ближнему, а той особой беспощадной пронзительной жалостью, которая, на мой взгляд, и составляет истинно-художественное видение.
Жалость эта происходит от бесстрашного понимания истинных причин человеческих страданий, от отважной попытки взглянуть в лицо неминуемой смерти и от сознания мелкости всех наших дел и забот перед этим неотвратимым лицом с дырами пустых глазниц над безгубым оскалом.
Персонажи комедий Ханоха Левина лишены почти всех индивидуальных и социальных черт, они напоминают маски, снабженные лишь минимально необходимым набором чувств и инстинктов. Ни на минуту автор не дает нам забыть, что как бы ни пытался возвыситься человек, – а верней, по мерке Левина, человечек, букашечка, муравьишка, тварь несчастная, – он не может уйти от своей низменной основы, ибо, как сказал Томас Манн, «внутри у него потроха, и они воняют».
Этот «запах потрохов» составляет основной элемент атмосферы всех пьес Ханоха Левина. И основная тема их, независимо от сюжета, выглядит так: вопит, суетится человеческая толпа, травит одного из себе подобных, забывая, что каждый обречен той же участи, а нет в ней ни лучших, ни худших, ибо все равны перед лицом ожидающей каждого черной ямы,
Конечно, такой взгляд на жизнь человеческую, выраженный остро и талантливо в драматургической форме, мог только отпугнуть директоров театров – ведь любой из них знал отлично, что публика ходит в театр забыться, отвлечься от ужаса существования, а не получить сокрушительную порцию смертельной тоски. Пьесы ложились стопкой в ящик стола, но Ханох Левин упорно продолжал писать – всегда об одном и том же, не склоняясь к призывам одуматься и позолотить пилюлю. И наконец Хайфский театр, в пору своей молодости стремившийся поощрять отечественных драматургов даже ценой провалов и риска, поставил «Хейфеца» без поправок и прикрас.
Успех спектакля был оглушительным и внезапным. Из безвестного чудака с дурным характером Ханох Левин вдруг превратился в одного из самых популярных драматургов страны. Но успех не изменил его отношения к жизни: каждый год он писал новую пьесу, еще горше и мудрее предыдущих, и ставил ее сам, ибо он ко всеобщему изумлению оказался еще и блистательным режиссером.
Сразу после моего приезда в Израиль мне посчастливилось увидеть один из самых успешных его спектаклей – «Торговцы резиной», не сходивший с афиш более трех лет, потом, после небольшого перерыва опять вынырнувшего из небытия, уже на других сценах, более шикарных, а в наши дни начавшего триумфальное шествие по театрам Европы.
В комедии всего трое героев, вернее, антигероев, – Аптекарша, Холостяк и Торговец, – но, хоть их мало, они, как всегда у Левина, успешно воплощают грехи, пороки и страдания всего рода человеческого. Я не оговорилась, назвав пьесу «Торговцы резиной» комедией: несмотря на истинный трагизм мироощущения, Левин избрал для его выражения форму комедии, фарса, грубого простонародного балагана, не допускающего мелкой бисерной вязи деталей.
Все в его манере просто и выразительно – это не изысканная вышивка, не тонкое кружево подтекстов и иносказаний, а скорей – контрастная, склонная к примитивизму аппликация, где каждый цвет заполняет свою, четко очерченную, геометрическую фигуру, не допуская оттенков и полутонов.
Так, без оттенков и полутонов, в разухабистом балаганном зрелище узнала я печальную историю трех пронзительно одиноких, немолодых и несчастных людей: Аптекарши, Торговца и Холостяка. Сюжет закрутился в аптеке вокруг двадцати тысяч коробок с презервативами, которые Торговец купил на аукционе по дешевке в надежде перепродать их Аптекарше. А Холостяк зашел в этот день в аптеку, чтобы купить обычную свою ежемесячную пачку презервативов в придачу к таблеткам от головной боли. Но для каждого из них это был только предлог – и Торговца, и Холостяка привлекла сюда кокетливая, хоть и не первой молодости, Аптекарша, хозяйка пышного тела и прибыльного дельца. И каждый повел на нее атаку по-своему, и каждый проиграл, ибо слишком боялся продешевить и продать свою мужскую свободу за бесценок. И каждый из троих, плача, уполз в свою одинокую нору зализывать раны.
Прошло двадцать лет, и снова встретились они в той же аптеке, у прилавка поседевшей, погрузневшей, погасшей в печали одиночества Аптекарши. Ничего не изменилось в жизни каждого из них, кроме неизбежных потерь, связанных со старостью: потери надежд, веселья, здоровья. Все так же грустит и жаждет замужества Аптекарша, все так же покупает презервативы Холостяк, только одной пачки хватает ему теперь уже не на месяц, а на полгода, все так же носится со своим катастрофически теряющим ценность товаром Торговец.
И вновь, как и двадцать лет назад, в тот роковой момент, когда надо забыть о здравом смысле, протянуть руки и крикнуть: «Ha! Бери все, что у меня есть, за крохи любви!» – каждый из них испуганно и подозрительно спрашивает: «А не проиграю ли я?» И действительно проигрывает, ибо только душевная щедрость могла бы спасти его, а ее-то как раз ни у кого из них нет.
Весь этот балаган разыгрывается в сопровождении остро-пряных, порой похабных шуток, под музыку лихих, часто похабных песенок, под смех несколько шокированного, но живо заинтересованного зрительного зала. И захлестывает невыносимая пронзительная жалость к героям пьесы, к себе, ко всем нам, жалким и жадным, столь безрассудно предусмотрительным, столь бессмысленно нерасчетливым, столь мучительно одиноким.
Комедии Левина нельзя назвать реалистическими, ибо они не привязаны ни к месту, ни ко времени – они оперируют вечными (в рамках человеческого общества, конечно) категориями, они посвящены самым глубинным, самым интимным потребностям и переживаниям человеческого существа, голого на голой сцене перед лицом неотвратимой судьбы.
Если современная драматургия, убегая от простоты реализма идет порой по пути недомолвок, как в пьесах Пинтера, а порой по пути синтетических философских иносказаний, как в пьесах Беккета, то Ханох Левин избрал свой, весьма оригинальный путь. Его герои никогда не разговаривают, как мы – простые смертные, обуреваемые множеством мелких повседневных страстей и забот. По нашим репликам можно распознать наш социальный статус, привязать нас к географической точке, найти наши временные координаты.
Герои комедий Левина живут вне времени и пространства, они не общаются на уровне второй сигнальной системы, – они выражают словами таинственную работу своего темного подсознания, того глубинного подпольного мира, где сплетаются главные нити нашего существования. Так в одной из ранних его пьес мать и дочь, выгрызая мясо из куриных ножек, ведут такой диалог:
Мать: Когда уже, наконец, ты выйдешь замуж? И перестанешь портить мне аппетит своей хмурой рожей?
Дочь: А вот ни за что не выйду, пока ты не помрешь!
Мать: А я назло тебе буду жить долго и ни за что не помру!
Обстановка этого диалога несущественна, ибо трудно представить себе подобный разговор в любой обстановке – будь то современная облицованная формаикой кухня или старомодная столовая с обеденным столом под бахромчатым розовым абажуром. Язык тоже неважен, – ведь трудно представить себе голоса, произносящие эти реплики на любом языке, тем более, что рты говорящих заняты выгрызанием мякоти из хитросплетения куриных костей и сухожилий.
И вдруг неоспоримо проясняется, что диалог этот ведется в полном молчании, которое нарушается порой лишь хрустом разгрызаемых костей и чавканьем: в прошлом веке эти реплики шли бы после ремарки «в сторону».
Если бы такой диалог был возможен в пьесе прошлого века, он в крайнем случае выглядел бы так: