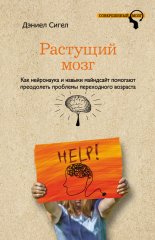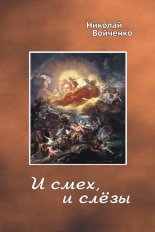Женщина без имени Мартин Чарльз

– И ты не будешь возражать против моей грубой откровенности с тобой?
– Нет.
– Я впервые в жизни спал с женщиной.
Кейти хмыкнула.
– По-моему, ты что-то такое уже говорил. – Она сжала мою руку. – Что ж, ты делаешь успехи, но может быть еще лучше.
– Так мне говорили.
Кейти села лицом ко мне, скрестила ноги, положила руки на колени. Она подыскивала слова.
– О’кей, еще одно откровенное признание. Я кое в чем ошибалась. – Кейти покачала головой. – Ты ничего не компенсируешь.
– Что?
– Я насчет твоего грузовика. Я сказала тебе, что у тебя большой грузовик, потому что ты что-то компенсируешь. Стараешься быть кем-то, кем не являешься. Потому что ты не наделал много шума в мире. Но теперь я думаю, что ты водишь грузовик потому, что он тебе нужен.
– Спасибо.
Она пожала плечами:
– Я же, в свою очередь, владею четырьмя «Порше» по причинам, в которые мы не будем углубляться.
Ее самоанализ меня смущал. Я гадал, куда это приведет.
– О’кей.
Она сидела, постукивая пальцами по одеялу, как будто над невидимой картой, и в мгновение ока меняла направление.
– Красиво. Только… как ты это делаешь?
– Люди то же самое говорят о тебе.
– Да, но я бы не смогла начать… Не знала бы, что… Я играю, это всего лишь притворство. Все по сценарию. Между мной и ими есть щит, но это… это настоящее. Это совершенство. Каждое слово – честное. – Кейти пожала плечами. – Послушай меня. Я в восторге. Как и мои фанаты, я оказалась в присутствии великого человека и рассыпалась на части. – Она повернулась, схватила мою книгу. – Спасибо, я буду ее беречь.
– Я был бы рад, если бы ты… В общем, это было очень давно.
Кейти крепче обхватила себя руками.
– Твой секрет в безопасности. – Пауза. Ее губы дрогнули в улыбке. – Ты знал, что у твоей странички в Facebook более четырехсот тысяч фанатов?
– Я даже не знал, что у меня есть страничка в Facebook.
– Что ж, она у тебя есть.
– А у тебя есть?
Кивок.
– И сколько у тебя фанатов?
– Ты имеешь в виду до того, как лодка сгорела в заливе?
– Да.
– Чуть больше двадцати миллионов.
Был уже почти вечер. Стемнело. Беззаботность Кейти напомнила мне игру в шарады в средней школе. Вопросы, которых я от нее ждал, все эти «как случилось» и «что произошло», не последовали, хотя я был готов с ними справиться.
Ее обращение со мной напомнило мне маленькую девочку, которая бесконечно перебирает подарки под елкой, взвешивает на руке, держит против света, чтобы рассмотреть содержимое, но не срывает обертку и не вскрывает коробки, потому что она слишком много раз обманывалась. Подарок никогда не оправдывал ее ожидания. Не будучи уверенной в содержимом и боясь нового разочарования, Кейти довольствовалась тем, что потянула за уголки моей обертки. Она поглядывала на меня краем глаза. Когда она все-таки решилась копнуть поглубже, то сделала это нежно.
– Тебе не нравился мир, в котором ты жил, и поэтому ты из него ушел, так?
– Да.
– А что было не так?
– Боль перевесила радость.
Кейти крепче обняла мою книгу.
– Учитывая твой подарок, некоторые могли бы обвинить тебя в том, что ты довольно эгоистичный человек.
Я кивнул.
– Раньше я таким не был.
– А что, если миру нужен твой подарок?
– Я все еще борюсь с этим.
– Твоя честность обезоруживает.
– Я стремлюсь быть честным. Вот и все.
– Я знаю, что мир смотрит на меня и считает, что я «в шоколаде». А что, если это не так? Меня видит весь мир, и я демонстрирую ему идеальную картинку, чтобы… кучка людей могла делать деньги на желании женщин быть такой, как я. Но эти женщины… Им не следует хотеть быть мной. Я хочу сказать им, что все эти мужчины… Как только они тебя добиваются, им хочется только похвалиться этим. И что дальше? Что они приобрели? Только не мое сердце. И что более важно, что именно или что еще они потеряли? Что потеряла я? Есть ли граница? То есть сколько мы можем потерять?
Кейти наконец добралась до вопроса, который действительно хотела задать. Ее зрачок ушел в угол глаза.
– Как ты думаешь, твой уход из мира вывел из себя Господа?
– Этот вопрос тебе следовало бы задать Стеди.
– Я не спрашиваю Стеди. Я спрашиваю тебя.
Правду было трудно произнести. Я прошептал:
– Я не думаю, что я вывел из себя Господа, скорее, я разбил Ему сердце.
– Откуда ты знаешь?
– Потому что мне потребовалось очень много времени, чтобы перестать плакать.
Я долго смотрел в окно, потом негромко сказал:
– Истории устанавливают порядок вещей. Они начинаются как сейсмический сдвиг, потом пробиваются на поверхность, становятся волнами, которые бьются в чужие берега. Они – эхо, которое отдается в этом мире и в следующем.
Кейти встала рядом со мной у окна, глядя на те же самые звезды. Она все еще прижимала книгу к груди.
– Думаешь, Господь читает это?
По моей щеке покатилась слеза.
– Я на это надеюсь. – Я посмотрел на нее. – Я написал эту книгу для одного из Его ангелов.
Кейти похлопала по книге ладонью.
– Я хочу кое-что сказать тебе, но, когда дело доходит до важных вещей, у меня намного лучше получается, если кто-то напишет для меня слова. – Искренняя улыбка. – Я хочу, чтобы ты знал…
Она крепче сжала книгу, потом покачала головой и протянула мне руку.
Я принял ее.
Кейти провела меня по всему дому до комнаты, которой я еще не видел, распахнула две высокие двери, ведущие в огромный бальный зал. Высота потолка была не меньше двадцати футов. Четыре хрустальные люстры размером с «мини-купер». Камин такого размера, что в нем можно было спать. Окна от пола до потолка и занавеси от потолка до пола. Черно-белый мраморный пол. Каждый камень – восемнадцать квадратных дюймов. В дальнем углу рояль «Стейнвей». Кейти открыла дверцу в стене, нажала несколько кнопок освещения на панели, больше похожей на звуковую систему для НАСА, и медленно пошла по периметру комнаты. Из многочисленных динамиков, которые я был не в состоянии сосчитать, полилась музыка. Кейти посмотрела на динамики.
– «Вальс цветов».
Она вошла в воспоминания и слегка покружилась в углу. Потом заговорила, не глядя на меня:
– До войны графиня очень любила танцевать.
Кейти подошла к занавеси и обернула ею ноги, словно матадор плащом.
– Я обычно пряталась здесь и смотрела, как представители высшей знати кружатся здесь в танце. Я представляла, что меня приглашает на танец самый красивый мужчина. Он выводит меня на середину зала, но через несколько минут его похлопывает по плечу следующий кавалер. К концу вечера я бы перетанцевала со всеми. – Кейти повернулась к роялю. – Графиня учила меня танцевать. Она говорила, что я – прирожденная танцовщица и могла бы танцевать в Вене или в Мельбурне. – Кейти сделала пируэт в центре. – Некоторые из самых теплых моих воспоминаний связаны с этим местом.
Музыка закончилась, началась следующая пьеса.
– Пахельбель, – назвала автора Кейти.
Она подошла к роялю, села и начала подыгрывать. В середине пьесы она остановилась, положила руки на колени и оглядела зал.
– Мои воспоминания об этой комнате похожи… – взгляд на меня, – на чтение твоей истории. Это как половина глубокого вдоха. Всегда только вдыхаешь и никогда не выдыхаешь.
Кейти вышла в центр зала, глядя в пол и танцуя с партнером, которого не было рядом. Она подняла руки и танцевала очень красиво, положив руки на плечи воспоминания. Танцуя, Кейти говорила:
– В тот раз графиня впервые пригласила меня на светский вечер. Кто-то обязательно играл бы на рояле, все танцевали бы, кто-нибудь, возможно, спел… Искрилось вино, сверкали женщины, смеялись мужчины. Большой вечер. – Еще один пируэт, еще один поворот. – Мне было почти пятнадцать. Графиня заказала для меня платье… – Голос Кейти прервался. – Она сама причесала меня. Мой отец сидел и с удивлением смотрел, как она преображала меня у него на глазах. Графиня пригласила весь город. Она сказала, что сделала это, чтобы у меня были «варианты». – Руки раскинуты, еще один пируэт. – Я танцевала со всеми мальчиками. Я ходила со многими из них в одну школу, но до этого вечера никто не обращал на меня внимания. Без сомнения, это был лучший вечер в моей жизни. Моя собственная сказка… – Голос Кейти сорвался. – На следующее утро я проснулась с мозолями на пятках. Я вернулась в школу и обнаружила, что шестеро мальчиков добиваются моего внимания. И я щедро дарила его. Я была так счастлива. Из этой шестерки один понравился мне больше остальных, и, к моему огромному удовольствию, он признался, что я тоже ему нравлюсь.
Зазвучала следующая мелодия.
– Моцарт.
Тон Кейти снова изменился. Воспоминания дорогие, но они становились все печальнее.
– Мы гуляли, ели мороженое, ужинали в городе, пили после школы капучино. Я упала так больно и так быстро… Мы продолжали встречаться до мая… И я наконец… уступила.
Ее танец прервался. Голос стал холодным. Она скрестила руки на груди и уставилась в пол. Холодная и одинокая.
– Папа предупреждал меня. Умолял. Пытался… – Кейти покачала головой. – Он, тот мальчик, повел меня в пещеры. Я охотно последовала за ним. Мы… сделали это. – Голос зазвучал еще тише. – Когда он закончил, то ушел, не сказав мне ни слова. – Кейти подняла глаза, из которых лились слезы. – Это было пятнадцатого мая тысяча девятьсот девяносто второго года. – Она подошла к окну и посмотрела в ночь. – На следующей день слухи об этом разлетелись по школе. Все смотрели на меня. Я узнала, что парни на меня поспорили. Спор состоялся в этом самом зале в вечер бала. Тогда я думала, что они сражаются за меня, а они делали ставки. Каждый мальчик поставил некоторую сумму денег. Весь банк должен был получить «победитель» после того, как… – Она не договорила. – Мой «завоеватель» был весьма горд собой. Мне сказали, что он купил себе новые часы.
Глава 29
Ночь была темной, безлунной. Кейти вышла из бального зала и прошла к парадной двери. Она прикрыла голову шарфом, надела очки и посмотрела на меня. Кейти дрожала. Никакого грима. Просто женщина. Для этой роли у нее не было сценария. Никаких кулис, чтобы уйти. Кейти спросила:
– Пройдешься со мной? Пожалуйста…
Измученное выражение ее лица подсказало мне, что именно ради этого мы приехали во Францию.
– Да.
Мы прошли по темным улицам, поворачивали и налево, и направо, шли по пути без опознавательных знаков, пока я не увидел указатели, подсказывающие дорогу к монастырю. Большая кованая вывеска сообщала, что монастырь Богоматери был построен несколько веков назад. Он начинался с пещер в высоких утесах на берегу реки. Какое-то время здесь жил Наполеон. Позже он отправлял сюда своих узников. Здания разрастались из пещеры и многократно пристраивались. Комплекс был довольно большим. Сиротский приют. Школа. Больница для нуждающихся.
Мы еще раз свернули за угол, и вдалеке увидели одинокий оранжевый фонарь над входом в монастырь. Кейти споткнулась, и я подхватил ее. На этот раз она тяжелее оперлась на мою руку. Как будто вернулась боль где-то в животе. Перед нами встали две дубовые двери. Справа от нас была дубовая дверь побольше, через которую веками шли люди. Высотой футов двенадцать, железные полосы крест-накрест, большая ручка. Кто бы ни решил ее открыть, ему бы пришлось навалиться на нее всем телом. Другая дверь располагалась слева. Высотой футов пять, она была больше похожа на вращающийся двухсторонний поднос для еды, чем на настоящую вращающуюся дверь. Дверь вращалась на оси. На ее стороне, обращенной к нам, располагалась полка. Единственный способ попасть внутрь предполагал, что вы сядете на эту полку и будете ждать, пока кто-нибудь изнутри не повернет дверь. Стена справа от двери была сложена с таким расчетом, чтобы при вращении двери невозможно было заглянуть внутрь. Стены как будто защищали каждую сторону от взглядов с другой стороны. Я провел пальцем по полке. Ее отполировало время, и ширины как раз хватило бы для корзины с бельем.
Кейти цеплялась за меня, тяжело повисла на мне. Она пряталась за мной. Я услышал ее голос:
– Отцу было очень стыдно, и графине тоже. В Америке на это никто бы, наверное, и внимания не обратил, но эта маленькая деревушка не Америка, и все обо всем узнали. Графиня была из другого поколения. Она так много сделала, представила меня всем, кого она знала… Чувствуя себя опозоренной и стыдясь этого, она уволила моего отца и велела ему убираться из ее поместья. Я хотела поговорить с ней, объяснить, но она не приняла меня. Школу я бросила, и мы жили в съемном доме недалеко отсюда. Отец работал на трех работах, подхватил пневмонию и умер за три месяца до рождения ребенка. Я была на шестом месяце, и у меня не было денег, чтобы похоронить его. Поэтому я пробралась в дом графини и украла все деньги, которые смогла найти. Я три месяца прожила одна. Я думала, что смогу родить дома, но… Когда у меня отошли воды, я доплелась до больницы и потеряла сознание в приемном покое. Ребенок родился несколько часов спустя. Учитывая трудные роды и тот факт, что я была молоденькой девушкой без семьи, меня продержали в больнице несколько дней, пытаясь придумать, как со мной поступить. Через четыре дня после родов я вышла из больницы и бродила по городу почти до полуночи. Наконец я дошла до монастыря, завернула малыша в одеяльце, которое сама сшила, и положила вот на эту полку. У меня была с собой бумага из больницы, не свидетельство о рождении, а скорее справка о рождении. Фамилия матери, дата рождения, вес, рост… Я оторвала ту часть, на которой стояла моя фамилия, и сунула справку в одеяльце. Потом я позвонила в колокольчик и встала в тени. Дверь повернули изнутри, против часовой стрелки. Иногда, когда я слышу скрип двери, я… Дверь поворачивалась, и я смотрела, как исчезает мой сын. Он плакал и пытался вылезти из одеяльца. Я помню, что у меня потекло молоко, а у меня не было бюстгальтера для кормящих. Дверь закрылась, молоко текло у меня по животу. Это было первого марта тысяча девятьсот девяносто третьего года. – Кейти замолчала, закрыла глаза. – Я пошла на станцию, доехала на поезде до Парижа и воспользовалась деньгами, украденными у графини, чтобы купить билет на самолет в США. Я приземлилась в Майами с паспортом, который отец отдал мне в мой двенадцатый день рождения, купила билет до Майами – потому что он был дешевым – и вышла из самолета с тремя долларами, одним сильно косящим глазом и именем Кейти Квин. Я солгала насчет моего возраста, моей истории… Я лгала обо всем. Я нашла три работы, накопила достаточно денег, чтобы исправить косоглазие, а потом я стала заниматься тем, что, как я знала, помогает облегчить боль… Чтобы я смогла притворяться, что я не та, кто есть на самом деле. – Кейти посмотрела на меня. – Я вышла на местную сцену, направила мой голос и талант на задние ряды и стала сама выбираться из той ямы, которую я для себя выкопала. На это ушло несколько лет, но, когда я скопила достаточно денег, я переехала в Лос-Анджелес. И там мне повезло. Я снялась в независимом фильме, и эта роль оказалась трамплином. Моя карьера пошла вверх. Я нигде не ошиблась. Я едва успевала за всем этим. Я была нужна всем. – Она снова повернулась к двери. – Квин. Так звали моего сына.
Мне было двадцать два года, когда я смогла вернуться сюда. Ему было семь лет. Я видела его один раз, он был вместе с другими детьми в деревне. Мальчик выглядел счастливым. У него были мои глаза. – Пауза. – Следующие три года я приезжала сюда при каждом удобном случае, всегда надеясь узнать что-нибудь о нем или даже увидеть его. Я не могла быть здесь Кейти Квин, поэтому я превращалась в других женщин, у которых были поводы взаимодействовать с людьми вокруг мальчика. Однажды я едва не дотронулась до него. Он пил воду из фонтанчика рядом со мной, когда я за ним следила. – Пауза. – Учитывая то, что я сделала, я не могла заставить себя заявить свои права на него. Я думала, что ему лучше без меня… Я винила во всем назойливых папарацци. Но правда в том, что мне было стыдно и я боялась последствий, боялась того, что подумают люди. Вся сила, которая у меня была, оказалась игрой. Я не была тем человеком, которым хотела казаться. Кейти Квин была просто еще одной ролью. Но у меня было время, чтобы все исправить. Во всяком случае, я думала, что оно у меня есть…
Кейти закрыла глаза и встала позади меня. Она говорила через мое плечо.
– Однажды он перестал появляться на игровой площадке, поэтому я наняла детектива.
Ее голос дрогнул. Пальцы у нее дрожали. Она старалась сдерживаться.
– Я сразу все поняла. Не знаю как, но поняла.
Кейти посмотрела на дверь.
– Я была здесь сотню раз. Стояла на этом самом месте, но ни разу не позвонила в колокольчик.
Она взяла меня за руку и посмотрела на меня.
Я подошел к колокольчику и негромко позвонил. Кейти пошла за мной, прикрывая лицо шарфом и надев очки. Когда через пять минут мне никто не открыл, я позвонил снова. На этот раз громче. Через несколько минут мы услышали шаркающие шаги справа, за той дверью, через которую в монастырь входили люди и выходили из него.
Огромная дверь открылась, и к нам вышла старая женщина. Пожалуй, ей было около восьмидесяти. По ней было видно, что мы прервали ее глубокий, безмятежный, спокойный сон. Монахиня была высокой и худой. Не такой, как я ожидал. Она посмотрела на меня:
– Puis-je vous aider?[21]
Кейти спрятала лицо за моим плечом и держала меня под руку.
– Прошу прощения, я не говорю… – начал я.
Монахиня подошла ближе. У нее был добрый голос. Спокойный.
– Я говорю по-английски.
Я вошел в круг света.
– Мэм, много лет назад у двери вашего монастыря оставили ребенка. Мне бы хотелось знать, что с ним случилось.
Она посмотрела на меня.
– Прошу меня понять, мы не даем никакой информации.
– Я понимаю, но, если я назову вам дату и время, может быть, вы хоть что-то мне скажете?
– Вы знаете дату?
– Первое марта тысяча девятьсот девяносто третьего года. Примерно в этот час ночи.
– Мальчик или девочка?
– Мальчик.
Монахиня посмотрела на меня, потом на Кейти. На нее она смотрела долго и внимательно. Ее веки чуть опустились. Сочувствие без слов. Кейти отвернулась, еще больше пряча лицо. Монахиня слегка поклонилась и сказала:
– Прошу вас, следуйте за мной.
Мы вошли следом за ней в монастырь. Пропустив нас, она надавила на дверь и заперла ее. Мы прошли под аркадой, вдоль которой находились деревянные двери. Монахиня дотронулась до одной из них и махнула в сторону остальных:
– Это наша школа.
Мы пересекли двор, потом поднялись по каменным ступеням, которых было больше сотни. Ступени закончились под высокими деревьями с листьями размером с листок бумаги, где росла трава, похожая на ковер. Монахиня сняла обувь и распахнула железную калитку, жестом приглашая нас войти. Мы тоже скинули туфли, прошли через калитку и последовали за ней по траве.
Это была трава кладбища.
Кейти обхватила себя руками, ее шаги замедлились. Мы миновали несколько надгробий. Некоторые были старыми, другие нет. Женщина открыла еще одну калитку, на этот раз меньшего размера, и повела нас дальше. Мне хватило одного взгляда по сторонам, чтобы понять: этот участок предназначен для детей. Длина могил была меньше, меньше было и расстояние между надгробиями. С лица Кейти ушли все краски.
Наконец монахиня остановилась, включила фонарик и навела его луч на участок травы под нашими ногами. Трава была зеленой, ее только что подстригли. Газон был безупречный, без единой проплешины. Каждый надгробный камень в идеальном состоянии. Монахиня негромко заговорила:
– К тому времени я пробыла в монастыре всего несколько лет. Я была в часовне, когда услышала звон колокольчика.
Я смотрел на нее, не веря своим ушам. Женщина не сводила глаз с камня и рассказывала историю так, словно время вернулось.
– Я потянула за веревку, поворачивая дверь. Появился красивый мальчик, завернутый в самодельное одеяло. Я взяла его на руки. Справка о рождении была воткнута в одеяльце. Фамилия матери была оторвана.
Монахиня сделала движение пальцами.
– Сейчас ему было бы почти двадцать лет.
Она подняла глаза к небу. Слова «было бы» эхом отозвались под деревьями. Кейти встала рядом со мной, глядя в землю. Монахиня помолчала, подбирая слова.
– Я отнесла его внутрь. Покормила. Мы – все мы – воспитывали его вместе с другими детьми. – Она покачала головой и чуть улыбнулась. – У него были самые красивые голубые глаза, которые мне доводилось видеть. Почти неестественные… – Она провела рукой по краю могильного камня. – До двух лет с ним все было в порядке. Потом у него началась астма. Очень серьезный случай. Временами его горло отекало, легкие сжимал спазм, и он не мог дышать.
Монахиня замолчала. Углом глаза я заметил, что у Кейти затряслись руки. Женщина продолжала:
– Я перевела его в свою комнату, чтобы я могла за ним присматривать. Мы перепробовали все. Врачи, лекарства, народные средства. Я ночами лежала без сна, спрашивая Господа, почему он не позволит этому несчастному ребенку дышать. Почему Он не вольет воздух в его жизнь. Не откроет его горло. Не откроет его легкие. Я ни разу не видела, чтобы ребенок так страдал. Когда мальчик стал старше, он увлекся футболом. Неохотно, но я позволила ему играть. Мальчик много болел. У него часто бывало воспаление легких. Поэтому играл он мало.
Монахиня замолчала и махнула фонарем в сторону маленькой могилы у наших ног. Кейти застыла. Женщина сделала шаг назад. Свет фонаря упал на надгробный камень. Я прочитал имя «Квин». Прочла его и Кейти, потому что она громко втянула в себя воздух, прикрыла рот рукой и застонала. Она рухнула на колени. Ее указательный палец едва заметно дрожал, когда обводил даты. Мальчику было десять лет.
Монахиня отошла в тень, выключила фонарь и продолжила:
– Он умер, – она закрыла глаза, – в своей постели, потому что не мог дышать.
Кейти сломалась. Она сорвала с себя шарф и очки, вцепилась в камень. Очень долго она не дышала и не издавала ни звука. Монахиня смотрела на нее, склонив голову, не тронутая ее страданиями, и не двигалась. Кейти раскачивалась взад и вперед.
Когда она снова начала дышать, раздался звук, который я слышал в своей жизни лишь однажды. Глубокий, первобытный, исполненный боли.
Я стоял позади нее, слушая, как душа изливается наружу. Слезы, крики, десятилетия боли. Через несколько минут Кейти дернулась в сторону, и ее вырвало. Потом еще раз. И еще. Когда в желудке ничего не осталось, начались пустые позывы к рвоте. У Кейти не было персонажа для этого. Ни парика. Ни грима. Ни лицедейства. Цепляясь за мрамор, ее пальцы обводили буквы имени сына. Целая жизнь мучений выходила из ее тела. И делала это грубо.
Монахиня исчезла.
Я встал на колени, обнял Кейти. Ее тело было все в поту, сотрясалось от спазмов. Она сломалась. Никакие королевские лошади и никакие королевские рыцари никогда не смогут снова собрать ее.
Часом позже я поднял Кейти и поставил ее на ноги. Она была как тряпичная кукла и цеплялась за меня, когда мы спускались по ступеням. Каждые несколько минут из ее горла вырывался звук. Полустон, полувой, невыразимая боль.
Я провел ее через двор и под аркадой мимо школы. Мое внимание привлекла зажженная свеча. В углу двора стояла маленькая стеклянная часовня. Монахиня, оставившая нас на кладбище, стояла там на коленях. Руки сложены. Голова опущена. Кейти остановила меня, сняла свои часы, бриллиантовое кольцо и бриллиантовое колье и вложила их мне в руку.
Я подошел к часовне и откашлялся. Монахиня обернулась, но не сказала ни слова. Я подошел к ней и протянул руку. Она подставила свои. Я разжал ладонь. Женщина посмотрела на драгоценности и хотела что-то сказать, но я повернулся и ушел.
Мы вышли через ту же дверь и вернулись в темноту улицы. На полпути домой Кейти упала. Я подхватил ее, поднял и понес по улице к замку.
Я усадил ее на кровать, намочил полотенце, вытер ей лицо и рот. Я проделал это пару раз, каждый раз споласкивая полотенце. Потом я завернул в полотенце лед и положил на лоб Кейти. Ее голова дернулась, губы шевельнулись, но она не произнесла ни слова. Кейти лежала спокойно, глядя на что-то за окном. Когда лед растаял, я положил в полотенце новый и вернул полотенце на лоб Кейти. Она коснулась моей руки и прошептала:
– Я хочу умереть.
Глава 30
Я мысленно вернулся на несколько недель назад, начиная с нашей первой встречи на террасе. Потом был взрыв в заливе и все остальное. Мне стало стыдно – я был аксессуаром. Я отбуксировал ее лодку, поджег ее, создал иллюзию. Я помог убить Кейти Квин. Я думал, что помогаю ей. Я думал, что имею некоторое представление о том, как лучше, потому что сам через это прошел.
Оказалось, не проходил.
Простыни под ней промокли от пота. Кейти выдохлась, она никогда не могла бы стать мной. Не могла бы жить той жизнью, которой жил я. Оставаться в одиночестве. Все время прятаться. Вдали от всех, в изоляции. Кейти осталась бы наедине со своим прошлым. И это убило бы ее. Или убило бы то малое, что осталось. У меня отняли повод находиться в свете софитов, поэтому я ушел в тень, тогда как Кейти вышла под свет софитов, чтобы убежать от боли теней.
Она уже дважды пыталась покончить с собой. Ее шрамы тому доказательство. В третий раз все будет иначе. Кейти ничего не оставит на волю случая. В этом нет сомнений. Ночь прошла. И я гадал, что она предпримет на этот раз. Веревка? Нож? Ружье? Таблетки? Утренний поезд? Или она просто умрет во сне. Умрет от разбитого сердца.
Солнце осветило ее лицо. Голубая вена пульсировала на виске. Я смотрел на нее и вдруг поймал себя на том, что задерживаю дыхание. Три слова эхом поднимались из земли. «Расскажи мне историю».
Перед моим внутренним взором предстали лица, которых я не видел десять лет. Лица, исполненные надежды. Лицо Джоди. Было время, когда я думал, что истории помогают привести сломанных людей в порядок. И нет ничего сильнее истории. Истории были антидотом.
Я посмотрел на свои руки. Сморщенные, в пятнах. Слишком много часов на солнце.
Я глянул на свой блокнот. На меня смотрели белые страницы.
И тут я понял. Если у меня есть хоть какой-то шанс спасти Кейти, то для этого я должен рассказать ей свою историю. Это был обмен.
Мой секрет в обмен на ее.
По лбу Кейти тек пот. Глаза под веками метались влево-вправо, тело изгибалось. Вена на виске пульсировала. Попытка номер три была вопросом не «если», а «когда».
Я вспомнил Стеди. Белая сутана, трубка в руке, слюна в уголке рта, губа дрожит. Я через океан услышал его слова. «Я предлагаю тебе вырезать гангрену». Когда он это сказал, я ему поверил. Я только не догадывался, что для этого он использует мою собственную ручку.
Я взглянул на свой блокнот. Оттуда на меня смотрела правда. Если это выйдет наружу, если кто-то еще, кроме Кейти, прочтет эти строки, если она этим поделится или передаст кому-то, моя жизнь изменится.
Перестать быть Кейти – значит перестать быть мной.
Глава 31
Когда я проснулся, Кейти исчезла. Остались запятнанные слезами простыни. Я поискал внизу, но не нашел ее. Я прошел по саду, заглянул в бальный зал, осмотрел весь замок, но не нашел Кейти. Наконец я поднялся по винтовой лестнице в мансарду. Она сидела на полу и смотрела в окно, потерянная где-то за краем Франции. Я попятился, провел день в своей комнате, прислушиваясь к скрипу половиц надо мной.
Я ничего не услышал.
На следующее утро я отнес ей завтрак. Когда я обратился к ней, она не ответила. Она лежала на полу, обхватив руками колени, с открытыми глазами, и смотрела в окно. Вечером я принес ей ужин, потом опять завтрак, потом снова ужин и опять завтрак, и так еще два дня без всяких изменений.
Я сидел в комнате под ней, засунув колени под письменный стол, и яростно писал. Никогда раньше я не писал с такой скоростью. Решив ничего больше не скрывать, я сломал стены, открылся, и хлынула Ниагара. На третий день я поднял голову, руку у меня свело. Я понял, что писал последние двадцать семь часов подряд.
Две женщины пришли убрать в доме. Их как будто не беспокоило мое присутствие. К четвертому этажу они даже не приближались. Подозреваю, что они не знали о его существовании. Они ушли во второй половине дня.
После ночи на могиле сына Кейти прошло пять дней. Я мало спал и много писал. Наконец я положил ручку и позволил сну завладеть мной.
Меня разбудили шаги множества людей и поток машин у подножия холма. Я посмотрел на город. Все улицы были заставлены автомобилями. Недалеко от центра города и фермерского рынка были припаркованы фургоны телеканалов. Каждый ощетинился антеннами. Мой слух уловил звук телевизора внизу.
Я вошел в кухню. Телевизор был включен. Французская журналистка вела репортаж. За ее правым плечом мелькнула фотография Кейти. За ее левым плечом появились два снимка. На одном был Стеди. На другом – Ричард Томас. Я не понимал слов этой женщины, но пока она говорила, на экране появилась панорама Ланже, которую явно транслировал один из фургонов возле центра города. Потом на экране появились копии документов компании «Перро и партнеры» из Коннектикута и сравнение подписи Кейти и подписей на документах этой компании. Возможно, Томас был плохим писателем, но он оказался чертовски хорошим детективом.
Это был только вопрос времени.
Я поднялся на четвертый этаж и увидел Изабеллу. Ее лицо, осанка и язык тела изменились. Стены, потрескавшиеся за последние несколько дней и недель, были отремонтированы и укреплены. Женщина, стоявшая передо мной, была той самой, которую я видел в патио кондоминиума «Седьмое небо» сразу после того, как она прыгнула с перил. Вокруг глаз залегли темные тени. Она прошла мимо меня и начала спускаться по лестнице.
– У тебя есть пять минут.
– Но, Кейти?
Она застыла. Указательный палец взлетел вверх. В уголке губ появилась слюна.
– Не называй меня этим именем. Больше никаких имен.
– О’кей, но куда мы направляемся?
Она была жесткой, в броне.
– Не в город и прочь из Франции.
Спустя шесть минут я вышел на улицу с рюкзаком на плече. Изабелла уже сидела в машине, мотор работал, большой палец ее руки постукивал по рулю. Я сел рядом с ней, и она резко рванула машину с места, взметнув гравий еще до того, как я успел закрыть дверцу. Мы выехали из города по грунтовым дорогам. Когда мы оказались на скоростном шоссе, она включила пятую скорость. Мы направлялись не на станцию, и даже не в Париж, если верить указателям. Я не задавал вопросы, она не предлагала ответы.
Через тридцать минут Кейти съехала с автострады и по петляющей грунтовой дороге доехала до частного аэродрома. Там уже ждал самолет. Она припарковала машину, оставила ключи в зажигании и направилась к самолету. Я пошел следом.
Мы поднялись в салон. Кейти поговорила с пилотами. Они проверили наши документы, и через восемь минут мы уже взлетели и продолжали набирать высоту. Я взял лед, бутылку «Перье», налил ей и поставил перед ней на столик. Она оттолкнула пластиковый стаканчик. Он сам и его содержимое ударилось в стенку с моей стороны салона. Один из пилотов обернулся. Кейти сказала, не глядя на меня:
– Если я чего-то захочу, я возьму сама.
Я пристегнул ремни. Я ее потерял.
Спустя пять часов мы приземлились в Майами. Все это время она смотрела в иллюминатор и не сказала мне ни слова. Таможенники поднялись на борт, проверили наши паспорта, наш багаж и поставили печати. Мы прошли через парковку в гараж. Кейти достала из сумочки электронный ключ, нажала на одну из кнопок, сработала сигнализация. За моим левым плечом ожил черный «Рейндж Ровер», замигав фарами и громко загудев. Кейти изменила направление движения и отключила сигнализацию.
Мы сели в машину и поехали. Нас окружала все та же кричащая тишина, в которой мы прожили последние несколько часов. Мы выехали из терминала и съехали к автостраде. Слева от нас поднимался плакат с фотографией Кейти и подписью: «Кейти, мы любим тебя. Да здравствует королева». Она сменила полосу, прибавила скорость и въехала по пандусу на автостраду. Мотор ревел от перегрузки. На спидометре было больше ста тридцати миль в час, прежде чем она сбросила скорость. Машина выехала на Тамайами-Трейл и остановилась на парковке перед индейским казино «Микосуки». Но Кейти на стала ее парковать.
Ароматы и чувства Франции казались очень далекими. Кейти произнесла, не глядя на меня:
– Выходи.
– Почему ты не идешь со мной?
Ее большой палец постукивал по рулю.
– Ты хотя бы представляешь, куда ты едешь? Что станешь делать?
По-прежнему нет ответа.
– Кейти…
Она подняла палец и качнула головой. Появилась одинокая слеза, сорвалась с ресниц и покатилась по щеке.
Я открыл дверцу, вышел из машины и вытащил из рюкзака свой блокнот. Я взвесил его на руке, предлагая. Потом положил блокнот на сиденье и медленно убрал руку. Кейти не взглянула на меня. Я придержал дверцу и сказал:
– Таким когда-то был я.
Двигатель взревел, взвизгнули шины. «Рейндж Ровер» превратился в черную точку, потом исчез. Я повесил рюкзак на плечо и пошел пешком в Чоколоски. Мысленно я перечитывал сопроводительное письмо, гадая, прочтет ли его Кейти.
«Дорогая Кейти!
Я привык думать, что история – это нечто особенное. Что это ключ, которым можно открыть в нас несломанные части. То, что ты держишь в руках, это история сломавшегося писателя, который пытался покончить с собой, но ему это не удалось. Он встретил сломанную актрису, которая пыталась убить себя, но ей это не удалось. И на этом пересечении разбитых сердец и разлетевшихся на кусочки душ они понимают, что поломка это, возможно, еще не конец вещей, а начало. Возможно, поломка – это то, что случается перед тем, как стать целым. Более того, возможно, наши сломанные части нам не подходят. Возможно, мы все стоим с мешком того, чем мы когда-то были, и гадаем, что со всем этим делать. И пока мы не встретим другого человека, чей мешок полон, а сердце пусто, мы не понимаем, что нам делать с наши частями. И стоя там, лицом к лицу, мой мешок на моем плече, и твой мешок на твоем плече, мы вдруг понимаем, что именно мои части нужны, чтобы починить тебя, и твои части – это именно те части, которыми можно починить меня. Пока мы не сломаемся, у нас не будет частей, чтобы починить друг друга. Возможно, отдавая, мы открываем значение и ценность нашей поломки. Пожалуй, отказаться от мира и спрятаться на острове – это самая эгоистичная вещь, которую может сделать сломанный человек. Потому что где-то на планете есть другой человек, который стоит с мешком своих сломанных, причиняющих боль частей, и этот человек не может без тебя стать целым.
В моей жизни было время, когда я без всякого эгоизма отдавал себя. Рисковал всем. Опустошил себя. И когда я это сделал, я увидел, что во мне что-то поднимается снова. Источник никогда не иссякает. Но тогда жизнь разорвала мое сердце пополам, и я поклялся никогда больше не предлагать его. Никогда больше не рисковать.
Возможно, любовь, настоящая любовь, о которой говорят только шепотом, которой жаждут наши сердца, заключается как раз в том, чтобы открыть свой мешок и рискнуть произнести самые болезненные слова из тех, что произносят между растянутыми краями вселенной: «Когда-то я был таким».