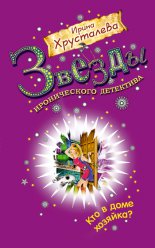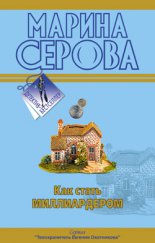То ли быль, то ли небыль Рапопорт Наталья
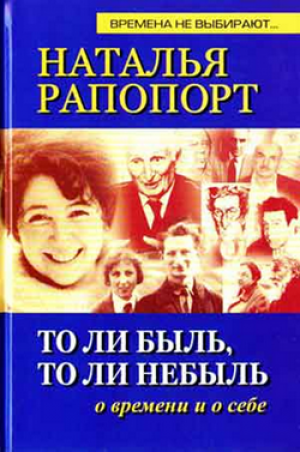
Ту смесь курорта и тюрьмы,
В которой мы живем.
И. ГуберманТане Гердт
Родители сделали мне в жизни два огромных подарка. Во-первых, они меня родили, хотя это легко могло не случиться: папе было сорок, маме тридцать восемь, беременность протекала тяжело, а сразу после родов мама заболела тифом и попала в инфекционную больницу. Пришлось подкинуть меня маминой подруге тете Рае Губер, которая в это время кормила грудью свою Маришку. Моя «молочная сестра» отсутствием аппетита не страдала, доставалось мне немного, я была вечно голодная и постоянно орала. Ополоумевший от моего крика годовалый Шурик покушался на мою жизнь: положил под батарею и накрыл сверху тазом. Спас меня «молочный папа» Андрей Александрович Губер, главный научный хранитель Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Меня забрали домой, но вскоре маме потребовалась срочная хирургическая операция, во время которой она перенесла клиническую смерть, так что я едва не осиротела в младенчестве. Клиническую смерть заметил понимавший толк в таких делах папа, поднял тревогу, и маму спасли. Словом, мой путь в этот мир не был усыпан розами, но состоялся.
Вторым замечательным подарком (если не считать красный немецкий двухколесный велосипед, подаренный мне к десятилетию и приведший меня в неописуемый экстаз) было мое вступление в члены Московского Дома ученых. Меня приняли туда по блату, задолго до того, как я защитила докторскую диссертацию. Стать членом Дома ученых было очень нелегко: необходимо было быть как минимум доктором наук, хорошо – академиком, а еще лучше – Гердтом, Окуджавой или Сергеем и Татьяной Никитиными. Я не была ни тем, ни другим, ни третьим, но папа с мамой были старейшими членами Дома ученых. Их приняли в этот элитарный клуб еще в тридцатых годах, когда там директорствовала жена Горького Мария Федоровна Андреева. По папиным рассказам, в те довоенные годы это был настоящий оазис культуры в пустыне всеобщей мерзости. В значительной степени это сохранилось и в мое время, хотя, конечно, невозможно задраить все щели, и ароматы эпохи проникали и в этот красивый старинный московский особняк.
В Доме ученых, как полагается, работали научные секции, проходили конференции и семинары, чествовали лауреатов и юбиляров. Помню, родители взяли меня с собой на юбилей Ландау, с которым папа очень дружил. Меня, выросшую в ханжеской атмосфере одной из самых чопорных московских школ, поразили и очаровали веселые и раскованные физики, друзья Дау. Обыгрывая его легендарное донжуанство, они подарили ему плавки. Спереди к плавкам была прикреплена металлическая пластинка, какие обычно пришлепывают на подарочные портфели. Красивой вязью вилась надпись: «Действительному члену Академии наук СССР».
С другой стороны, в Доме ученых короновали Ольгу Борисовну Лепешинскую на царство в биологической науке – она тогда делила этот трон с другим «корифеем» биологической науки, Трофимом Лысенко.
Когда в семьдесят первом году умерла моя мама, по папиной просьбе мамин членский билет передали мне. Так я стала полноправным членом Дома. Я могла посещать лекции и научные дискуссии, концерты, кино, прекрасный ресторан и ностальгические танцы. И все-таки не этим был уникален и славен наш Дом, а был он уникален и славен своими летними базами.
Это были палаточные туристские лагеря с прекрасной кухней. Их было довольно много, на все вкусы: «Черноморка» на кавказском побережье, «Архыз» в Кавказских горах, «Саулкрасты» на Балтийском море, «Свента» на литовских озерах, «Гауя» в лесу на речке в Латвии. О «Гауе» и пойдет речь дальше. Там, на Гауе, я встретилась и подружилась с замечательными людьми – счастье, за которое я не перестаю благодарить родителей и судьбу.
Занятная публика съезжалась на речку Гаую в августе месяце. Ученые самых разных специальностей и направлений, оставив на время в Москве учеников, проблемы, заботы и неприятности, набив туристским скарбом свои «Жигули», приезжали сюда мокнуть под прибалтийским дождем, собирать грибы и ягоды и, затаив дыхание, слушать, как поет свои новые песни Булат Окуджава, как читает стихи Пастернака Зиновий Гердт, как поют Татьяна и Сергей Никитины. О своей работе нет-нет да поведает главный режиссер Ермоловского театра Валерий Фокин, о жизни Марины Цветаевой расскажет Лева Шилов…
Жизнь на базах была устроена так. Законодательную власть представляли назначенные Домом ученых официальные лица. На Гауе ее осуществляли две серьезные дамы. Одна из них, высокая, осанистая, с тонким аристократическим лицом, была внешне похожа на Анну Ахматову. На этом сходство безнадежно кончалось, и это было до слез обидно. Дама совсем не аристократично раздувалась от собственной значимости, и я как-то заметила, что у нее такой вид, будто она упала с очень высокого генеалогического дерева.
Исполнительную власть – старостат – мы избирали сами: на своих летних базах ученые играли в демократию. В начале сезона делили портфели: за автомобильный парк отвечал министр транспорта, за байдарочный флот – адмирал, за волейбол – министр спорта. Волейбол на базе был настоящей азартной игрой, подстать рулетке или очку. По вечерам вокруг волейбольной площадки, где собиралась практически вся база, кипели воистину шекспировские страсти. Хорошо играли Сергей Никитин и мой муж Володя. Капитаном одной из команд-фаворитов был заведующий туристической секцией Дома ученых Георгий Георгиевич Конради, по прозвищу «генерал» (а он и был генерал). Мы пели про него такие куплеты:
- Как хорошо быть генералом,
- Как хорошо быть генералом,
- Лучше работы я вам, синьоры, не назову!
- Здесь среди вас я генералом,
- А в волейболе чином малым:
- Лишь капитаном, лишь капитаном я слыву.
Утром мы купались в прохладной душистой реке, над которой маленькими вертолетиками вились прозрачные зеленые стрекозы, завтракали и разъезжались – кто за грибами, кто за ягодами. На грибной ниве отличались Никитины: в самый негрибной год, на зависть базе, они появлялись из лесу с корзинкой отборных белых грибов – знали места. За ними пытались шпионить, но они растворялись в прибалтийском лесу, и, насколько мне известно, никому за десять лет не удалось раскрыть их тайну. В тайну, видимо, был посвящен Гердт, взявший меня как-то с собой за грибами. Это было совершенно безопасно: при моем легендарном неумении ориентироваться я под страхом расстрела не смогла бы объяснить, куда мы ездили. А там, куда мы ездили, небольшие поляны были сплошь усыпаны роскошными белыми грибами, и, собирая их, мы встретили Никитиных – стало быть, бродили по их угодьям. Жена Зиновия Ефимовича Татьяна Александровна тогда с нами не ездила: в тот год, почти не отрываясь, она редактировала перевод «Поднятой целины» на арабский язык. Татьяна Александровна сокрушалась:
– Почему другие собирают грибы, а я должна целый день сидеть, как привязанная, и думать, как перевести на арабский язык «слаба на передок»!
Когда мы вернулись со своей ослепительной добычей, Татьяна Александровна ахнула:
– Где вы были?
Зиновий Ефимович начал рассказывать, как умел только он один: он мычал, не произнося ни единого слова, но ясно было, что он подробно объясняет наш маршрут, и неожиданно совершенно членораздельно закончил:
– И потом сразу налево.
Нравы на базе были язычески простые. Помню, однажды к нам на пару дней откуда-то, наверное, из Риги заскочили Алла и Леонид Латынины. Алла – известный литературный критик, Леонид – поэт и писатель. Может, они и не были в смокингах, может, это мне только так почудилось по контрасту с нашей расхристанностью, но, право же, выглядели они, словно собрались на прием к английской королеве. Леня был в темном костюме, белой рубашке и бабочке, Алла в каком-то платье, показавшемся мне бальным. Они произвели настоящий фурор. Алла спросила у кого-то шепотом, где туалет. Отличавшийся острым слухом Зяма широко распахнул руки, обвел приглашающим жестом лес, поляну, речку и коротко ответил:
– Вот…
Раз в сезон мы дежурили. Дежурили все, невзирая на возраст и титулы, – демократия! Это было скучное и утомительное занятие, на базе ведь отдыхало больше ста человек! Но я дежурила с Гердтами, и это было настоящее счастье. Зяма гениально играл полового. С полотенцем через руку, слегка согнувшись, прихрамывая, он порхал между столами с подобострастной улыбкой:
– Вам супчику не подлить? Картошечки, хлебца не желаете? Сию минутку, я мигом!
Надо сказать, что кормили на базах Дома ученых необычайно вкусно и обильно – такова была традиция.
После ужина, завершив дневные труды, мы должны были расписаться в Книге дежурных. Расписывался обычно Гердт, оставляя таким образом для администрации базы свой автограф.
Однажды за день до нас дежурил доктор Лосев. Стас Лосев был хирургом, работал в Институте Склифосовского и принадлежал к базовской элите. Зиновий Ефимович подозвал меня:
– Посмотри, что написал этот гений русской поэзии! За подписью Стаса было написано: «Накормить не накормили, червячка лишь заморили!»
Герд секунду задумчиво смотрел на меня, потом начал быстро писать:
- Лосеву снятся химеры —
- Спит, вероятно, ничком.
- Он своего солитера
- Нежно зовет червячком!
И еще раз мне выпало счастье наблюдать этот стремительный творческий процесс. Гердт взял меня с собой в гости к Давиду Самойлову. В Пярну от нашей базы было часа четыре езды на машине, и всю дорогу Зяма читал мне стихи Самойлова. Когда подъезжали, он вдруг спохватился: «Я же должен что-то сочинить Дэзику в тетрадку!»
На минуту задумался, потом прочитал:
- Тебя приветствую я снова,
- Как одарённого – простак,
- Как червь – орла, и просто как
- Хромой приветствует кривого!
Дэзик сочинил Зяме ответ:
- Не люблю я «Старый Замок» —
- Кисловатое винцо,
- А люблю я старых Зямок,
- Их походку и лицо.
У Самойловых гостил Козаков, он читал нам вслух из Дэзиковой тетрадки. Такой мне выпал день.
Мое повествование о Гауе было бы неполным, если бы я не упомянула о наших детях. Они представляли особое сословие, отчаянно боровшееся за свою независимость. Это была самостоятельная республика внутри нашей федерации. Даже в столовой они занимали отдельный, так называемый «детский» стол. Дети держались стайкой, сохраняя между собой очень трогательные, совершенно не зависящие от возраста отношения. Очаровательные малыши Сашка Никитин, Гердтовский Орик, красавец Сашка Вишневский по прозвищу «полосатый», Валечка Кокорин и Юлечка Коган были так же уважаемы, полноправны и включены в общую жизнь, как «великовозрастные» Буля Окуджава, Левка Ринг и моя Вика. В этой компании постоянно бурлил скрытый от постороннего взгляда творческий процесс: что-то сочиняли, играли на флейте, рисовали и весьма изобретательно безобразничали.
Наша юная художница Вика как-то нарисовала серию гауянских портретов, одной тонкой линией, иногда очень искусно и похоже: Гердт, Сергей Никитин, Конради, Окуджава, Ипполит Коган… Разбросав листочки на траве, Вика критически их разглядывала. Подошел Никитин:
– Что это у тебя?
– Не видишь, что ли, – ответил за Вику проходивший мимо Валерий Фокин, – портретная галерея Русь Уходящая…
Другой раз Вика налепила из муки и соли разных фигурок, обожгла их в духовке и расписала – получились нэцке. Она их щедро раздаривала. Маленькая внучка Конради была в восторге от Викиного подарка:
– О, Вика, спасибо, большое спасибо! Я сделаю в нем дырочку, продену нитку, и буду всегда носить на шее, как псевдоним!
Я верю, что Гауянские «псевдонимы» помогают от «дурного глаза». Наши дети росли и взрослели в августе на Гауе, и кем бы они ни стали впоследствии, на каких бы меридианах ни жили, я убеждена, что в них и сегодня прорастают зерна, посеянные в те дождливые августовские дни.
Теперь настала пора рассказать о развлечениях взрослых. Ими занималось наше гауянское министерство культуры. Портфель министра культуры был самым тяжелым, трудоемким и ответственным. Этот жребий обычно доставался мне. В обязанности министра входило развлекать публику в длинные августовские вечера. Почти все средства были для этого хороши: околонаучные лекции, рассказы о путешествиях, концерты. Академик Осико, например, рассказывал, как под его руководством в ФИАНе разрабатывали получение искусственных бриллиантов, а профессор радиотехники Ипполит Коган делился своими соображениями о материальных носителях телепатии. Ипполит коллекционировал всевозможных телепатов и ясновидящих, мой муж Володя прозвал его ведьмоведом. Эта тематика захватывала всех.
Сотрудник Литературного музея Лева Шилов подготовил и исполнял замечательные программы о жизни и трагических судьбах Ахматовой, Цветаевой, Пастернака. В начале восьмидесятых он приготовил большую программу о Булате Окуджаве. Премьера этого моноспектакля была на Гауе.
– Первый раз мне предстоит говорить о живом поэте в его присутствии, – волновался Шилов.
– Ничего, это легко исправить, – меланхолично утешил его Гердт…
Особый жанр составляли рассказы со слайдами о путешествиях ученых во всевозможные экзотические страны – Сейшельские острова, Заир, Остров Пасхи… Для меня, невыездной, любая страна дальше Малаховки была вполне экзотической, и я очень любила эти рассказы-показы, этакий «клуб фотопутешествий», хотя и завидовала отчаянно. Рассказчики соревновались в фотографическом искусстве и эрудиции. Некоторые не могли остановиться, пока не продемонстрируют всю коллекцию слайдов, включая испорченные.
Наконец, концерты. Это было особое счастье. Живьем, в двух шагах от вас, в иллюзорной доступности пел свои песни и доверительно разговаривал с вами бог Гауи – Булат Окуджава. Читал стихи и рассказывал свои волшебные байки Гердт. Совсем другие, не экранные, не утвержденные Главлитом песни распевали Никитины. И все это на дистанции в три недели!
Но кульминацией развлекательной программы в конце смены, должен был стать капустник. Он изрядно отравлял мое существование. Судите сами: его надо было сделать так, чтобы расхохотался Гердт (его неподражаемый смех был моей высшей наградой), чтобы улыбнулся Окуджава, чтобы развеселилась публика и чтобы после этого на тебя не написали донос. А доносы писали: как и повсюду в стране, «сообщающие сосуды» соединяли нашу лесную базу с другими Органами. После первого организованного мною на Гауе капустника нас (всю семью) на следующий год не пустили на базу. Кто-то «стукнул» в правление Дома ученых (и не только туда), что я организовала на базе аполитичное действо. Впрочем, через год нас простили и дали путевки. И, конечно, я снова была «министром культуры» и делала новый капустник. После него, чествуя режиссера в узком застолье, Гердт произнес следующий тост:
– Хочу сказать, как мы рады, что в этом году с нами опять Наташа и Володя, и как нам жаль, что в будущем году их опять с нами не будет!
Моего мужа Володю Гердт называл страстотерпцем.
По молчаливому соглашению, профессионалы в капустниках участия не принимали – им отводилась роль благодарных зрителей. Из этого правила было несколько исключений. Во-первых, капустник всегда спасали безотказные Никитины – правда, в ту пору они официально еще не считались профессионалами и работали в академических научно-исследовательских институтах обыкновенными кандидатами физических наук. О втором исключении я сейчас расскажу.
Это был год Олимпиады. Никитины опоздали на базу – выступали в культурной программе. Остальные гауянские завсегдатаи, пожертвовав зрелищем, были на месте и мокли под гауянскими дождями. И вот я решила компенсировать им потери и провести свою маленькую гауянскую Олимпиаду. Страны-участницы были налицо: Зямбия, Никитский Сад, Лосино-Берковское, Булатниково и т. п. Транспаранты с названиями стран должны были нести «девушки в вуалеточках», как это было на настоящей Олимпиаде. Согласно замыслу, роли этих девушек в вуалеточках должны были исполнять наименее подходящие для этого актеры: долговязый Осико, крохотный Орик, огромная дама со сломанной загипсованной ногой – нехитрый, но беспроигрышный трюк. С дамой у меня вышла накладка. Она сначала согласилась на предложенную роль, но к вечеру вызвала меня на конфиденциальный разговор, и я увидела, что она пышет гневом:
– Наташа! Я никогда не думала, что вы можете быть такой бестактной!
Я огорчилась – вот, обидела даму… Но дама продолжала:
– У меня же сломана нога, я хромаю. Гердт может обидеться!
Я не сразу поняла, о чем это она. Потом меня разобрал неудержимый смех: я попыталась представить себе Гердта, обидевшегося на то, что кто-то другой тоже хромает…
Конечно, я тут же ему повинилась. Гердт предложил:
– Слушай, давай я сам пройду девушкой в вуалеточке! А для убедительности я буду чуть-чуть хромать!
И прошел! Нацепив настоящие никитинские удостоверения личности, выданные им на Олимпиаде, Татьянин – спереди, Сергея – сзади, Гердт гордо нес плакатик страны Зямбии, в то время как я комментировала события в небольшой мегафон.
«Первопроходцами идут наши друзья из страны Зямбии. Власть в этой стране до сих пор принадлежит генералам (вспомните Конради). Климат теплый. Туристов привлекает Никитский сад, гордостью которого является расположенный рядом Гердарий. В архитектурном отношении внимания заслуживает Стасская башня, венец творения одного известного зодчего (аллюзия на Стаса Лосева). Северные провинции страны по традиции носят название Кулыма. Здесь в начале сезона идет активный лесоповал». (Друзья Гердтов Зенковы и Кулымановы обычно помогали ставить палатки, рубили мешавшие ветки.)
Ну, и так далее. Пока я читала свой текст, «делегации» циркулировали по небольшому просцениуму.
Неожиданно Гердт подошел ко мне, отобрал мегафон, какое-то время мычал в него по-английски, потом членораздельно закончил:
– Янки – ноу, Зямки – йес!
Потом Сергей Никитин и Зяма пели дуэтом джаз. Аккомпанировало трио: Буля Окуджава на кларнете, Саша Никитин на Булиной пианоле и сам Сергей на гитаре. Это был праздник!
Присутствие Гердта определяло для меня стиль капустников. В лучших модернистских традициях в нем играли люди и куклы, Петрушка и персонажи из гауянской жизни.
Петрушка приезжал на базу, оглядывался, произносил с завистью:
- Живется здесь, наверно, сладко:
- У каждого ума палатка!
В капустнике участвовала кукла-Гердт, она и сейчас живет у меня в Америке. Кукла-Гердт, прихрамывая, ходила по ширме. Помните конферансье из «Необыкновенного концерта»?
– Стуло мне, стуло, – требовал конферансье и обращался к публике с риторическим вопросом:
– Да, я давно собираюсь вас спросить, не слишком ли я культурен для вас?
Моя кукла-Гердт получала на это ответ:
– Да нет, ничего особенного, – говорила «публика», и настоящий Гердт заходился от смеха…
Еще в связи с Олимпиадой на базу приезжал Высокий Гость из неразвивающейся страны.
Высокого Гостя играл мой муж Володя. Он три дня не брился, имел на голове обвязанный бусами белый платок и был до отвращения похож на Арафата. На голой голени он носил четыре пары часов, на которые время от времени рассеянно поглядывал, и непрерывно чесался. Высокий Гость был окружен вооруженными до зубов детьми в юбочках из папоротников. Непритязательный текст его выступления я, к сожалению, не помню – помню только, что номер имел грандиозный успех, за который меня и наградили доносом.
Успеху капустников во многом способствовало их изысканное художественно-музыкальное оформление. С замечательной фантазией и юмором музыкальные аранжировки делал Буля Окуджава (вы его, может быть, знаете под сценическим именем Антон). Неохотно, под давлением превосходящих сил противника, в художественном оформлении помогала Вика Рапопорт. Им было тогда по четырнадцать – пятнадцать лет. Интересно, что для обоих впоследствии это стало профессией.
Социологи делят публику по разным характерным признакам. На Гауе публика четко делилась на лиц, обладающих чувством юмора, и… как бы это сказать… остальных.
К одному из капустников (действие происходило в Одесском увеселительном заведении) архитектор Радий Матюшин нарисовал четыре огромные игральные карты. Четыре Главные Гауянские Дамы разных мастей смотрели на нас с этих карт: две официальные дамы, которых я уже упоминала, плюс председатель Старостата (тоже весьма официальная дама), плюс исполнительный директор базы – милая седовласая старушка. Три первые Дамы, особенно пиковая, смертельно обиделись, и я, как автор безобразия, имела неприятности.
В связи с этим капустником состоялся импровизированный «худсовет». Одесса так Одесса, решила я и сочинила выходную песню на мотив «Дерибасовской», но на сугубо местные темы. Песенка была, конечно, не бог весть что, но я очень старалась и вложила в нее много души. Вот вам несколько куплетов:
- На речке Гауе открылася турбаза,
- Там бродит публика, приятная для глаза,
- Там игры, лекции, и споры, и проказы,
- И во главе наш славный старостат.
- Все полудевочки и тот фартовый мальчик
- Теперь не ездят развлекаться в город Нальчик:
- Они садятся в свои «Волги» и «Фиатки»
- И прут на Гаую в туристские палатки.
- Живем на Гауе, и все мы гауяне —
- Те, кто на «выселках», и те, кто на поляне,
- И даже те, кто в дефицитной финской бане, —
- Все тоже носят званье гауян!
- Сюда я прибыла, представьте, только ради
- Того, чтоб встретиться с Георгием Конради,
- Но благосклонности его мне не добиться —
- Его хранит и бережет его Милица.[18]
- Исподтишка бросаю взгляд на Гердта Зяму:
- Я б для него надела белую панаму,
- Я б для него забыла папу бы и маму,
- Да смотрят Таня, Катя, Орик и Фокин.[19]
- Про биополе весть пришла от Ипполита.
- Врачей Кокориных теперь уж карта бита.
- Лишь биотоки – да, я это точно знаю —
- Нам лечат девушек – Марусю, Розу, Раю.
- Нам пела песенки Никитина Татьяна.
- Ее послушаешь – забудешь текст Корана…
Ну, и так далее. И конец:
- Мы провели здесь три недели с интересом,
- И нам не хочется ни в Сочи, ни в Одессу,
- Теперь выходим на работу мы из лесу,
- До встречи здесь же в будущем году.
Согласно замыслу исполнять эту песню должен был хор, разодетый в костюмы биндюжников и моряков. Хор на базе был, им руководил доктор юридических наук, главный юрист Октябрьского райкома партии. И вот я читаю хору на лесной полянке рожденный мною в муках текст. Гробовое и грозовое молчание, ни тени улыбки. Наконец юрист мрачно произносит:
– Не нравится мне ваш текст. Давайте разбирать его по куплетам.
Первую пару куплетов, с грехом пополам, проскочили. Кое-как урегулировали дело с финской баней, в которой ведь на самом деле никто не живет. Дошла очередь до Конради. Юрист говорит:
– Неужели вы сами не слышите, что последняя строчка: «Его хранит и бережет его Милица» не ложится в размер? Давайте будем петь: «Его хранит и бережет жена».
В этот момент я подумала, что он шутит, и вся эта ситуация – отменный розыгрыш. Но юрист продолжал:
– Теперь о Гердте. «Исподтишка бросаю взгляд на Гердта Зяму..». Это для кого же он Зяма? Это он для Татьяны Александровны Зяма. А для вас и для меня – он Зиновий Ефимович. И Фокин, кстати, не Фокин, а Фокин (здесь игра ударений: на первом или втором слоге).
Тут уж я не выдержала.
– Хорошо, – сказала я с чувством, – давайте петь: «Исподтишка бросаю взгляд на Гердта Зиновия Ефимовича», а еще лучше – давайте споем: «Исподтишка бросаю взгляд на народного артиста СССР, лаурета Государственной премии Зиновия Ефимовича Гердта».
На этом я, что называется, хлопнула дверью и бесславно покинула поле сражения.
Иду расстроенная, чуть не плачу. Навстречу – Фокин.
– Что такая унылая?
Я со слезой в голосе излагаю, что произошло. Ни один мускул не дрогнул на этом неподвижном восточном лице, выслушал молча и безучастно. Я кончила, он произнес свой приговор:
– А что ж, действительно, не Фокин, а Фокин, – повернулся и ушел.
Это было последней каплей. В глубокой печали плелась я в свою палатку, а путь лежал мимо палатки Гердта. Слышу смех: это Фокин в красках излагает Гердтам, Никитиным и Окуджавам ход моего «худсовета». Сердобольный Зяма подозвал меня, расспросил о подробностях, все так хохотали, что даже я постепенно оттаяла. Никитин сказал:
– Не огорчайся! Ей-богу, текст хороший, спой сама, я тебе саккомпанирую.
– Сереж, я не умею петь. Совсем.
– Глупости! Все умеют петь. Я тебе подыграю, ты споешь, получится хорошо. Пошли попробуем.
И уже у него в руках гитара, и мы уходим в леса. Сергей настраивает гитару, проигрыш – и он велит мне начинать. Я начинаю петь и… надо было видеть глаза Никитина! Он просто раньше не знал, что такое бывает!
На этом моя исполнительская карьера была навеки закончена, зато Сергей проникся ко мне нежностью, как к больному ребенку.
Конечно, в конце концов мы набрали новый хор, и все обошлось.
Капустником заканчивалось гауянское лето, начинался разъезд. Ездили домой обычно тандемами. Мы пару раз возвращались в паре с Никитиными. Ни Сергей, ни Володя тогда машины не водили, так что командорами пробега бывали мы с Татьяной. Артистическая натура совершенно не мешает Татьяне быть замечательным водителем, угнаться за ней непросто. Я сильно не дотягивала. К моменту, когда мы, наконец, подъезжали к Москве, я так уставала, что буквально искала тормоз глазами.
Однажды обратный путь чуть не кончился для нас трагически. В тот год мы собрались ехать домой в паре с Окуджавами. В их машине – Ольга и Буля, в моей – Вика и Ира Желвакова (директор музея Герцена в Москве). Маршрут мы разработали феерический: сначала едем в Каунас, отмечаем там мой день рождения, потом – в Вильнюс, и уже из Вильнюса – в Москву. Но все не заладилось с самого начала. Вечером накануне отъезда Буля с Викой поехали на булиной машине прыгать по дюнам, застряли в песке и, пытаясь выбраться, посадили аккумулятор. В поисках пропавших, спасательной экспедиции и зарядке аккумулятора прошла большая часть ночи, поэтому выехали мы значительно позже, чем намечали. Моросил нудный прибалтийский дождь. Мы мчались, пытаясь наверстать упущенное время. Окуджавы неслись впереди, я за ними. Нагруженная доверху ольгина машина загораживала мне перспективу. Въехали на эстакаду. Внезапно ольгина машина круто берет влево и вылетает на полосу встречного движения. У меня сердце упало. К счастью, навстречу никто не ехал, и Ольга благополучно вернулась на свою полосу. Что вызвало этот неожиданный маневр? Перевожу взгляд на дорогу – прямо передо мной на проезжей части стоит автомобиль, «Москвич» с латышским номером. Как позже выяснилось, водитель пропустил свой поворот и остановился в растерянности посреди проезжей части. Я пыталась затормозить, вывернуть – поздно… Удар был такой, что «Москвич» отлетел на тридцать девять метров. К счастью, никто в нем не пострадал. У нас же, как потом выяснилось, Вика получила сотрясение мозга, а Ира Желвакова – травму.
Когда приехала латышская полиция, мы все еще были в шоке. То, что пострадавший от меня автомобиль стоял на середине проезжей части, дела не меняло: я била сзади, и авария – всецело моя вина (что, конечно, правильно). Кроме того, бить латышей на их законной территории неэтично. В довершение всего обнаружилось, что страховка моей машины кончилась два дня тому назад. Недоброжелательная латышская полиция составила протокол, помогла «Москвичу» вправить вывалившийся бензобак и отбыла вместе с ним.
Мы остались один на один со своими проблемами. В этой ситуации наибольшее присутствие духа и неожиданную для нас инженерную смекалку проявил Буля. Ему удалось извлечь переднее крыло моей машины из колеса, в котором оно глубоко увязло, и даже слегка вытянуть мотор машины из салона. Когда колеса и руль стали крутиться, решено было возвращаться на базу и там уже решать, что делать дальше. Окуджавы взяли нас на буксир, и мы двинулись в путь. Печальное это было зрелище… Домой добрались к вечеру. Вся база сбежалась на нас смотреть.
Помните ли вы, чего стоило простому советскому человеку устроить машину на ремонт при советской власти? Ждать надо было минимум полгода, метаться в поисках запчастей, давать взятки налево и направо, и при хорошем исходе дела к концу года вы получали обратно свой автомобиль «на ходу». Прибавьте к этому, что в данном конкретном случае это был московский автомобиль на латышской территории. И денег у меня не было практически ни копейки, и машина моя оказалась незастрахована.
– Что ты так убиваешься, – утешал меня Гердт, – брось эту машину здесь, в Москве новую купишь.
Не хочется вспоминать, какие еще рекомендации и комплименты я выслушала от нелицеприятных друзей… Состоялся «совет старейшин».
Деньги на ремонт машины предложила Ольга и очень сердилась, что я не хочу их брать. В конце концов она меня уломала, и я стала на сто рублей богаче. На первый случай это было огромное подспорье, хотя и при наличии денег ситуация представлялась вполне безнадежной.
Спас нас Гердт. Сам ангел-хранитель не мог бы сделать большего. Да ведь это он, мой ангел-хранитель, наверное, и послал мне дружбу с Гердтами, бесконечно украсившую мою жизнь.
– Поеду торговать лицом, – вздохнул Зяма, посадил в свою машину Вику, и они отправились в соседний крохотный городок, где была авторемонтная мастерская. Городок назывался Стренчи. Гердта узнавали везде, в глухой латышской деревне ничуть не меньше, чем в Москве около Дома кино. Узнали его и на богом забытой латышской автостанции, и согласились взять мою машину в ремонт, если из Москвы пришлют необходимые запчасти. Зяма уже праздновал победу, но тут вдруг у Вики началось сильное носовое кровотечение. Зяма повез ее в расположенную неподалеку деревенскую больничку, где установили сотрясение мозга и приказали лежать. С этими новостями они и вернулись.
Той порой база стремительно пустела. Снимали палатки, и на наших глазах оживленный, кипевший жизнью туристский лагерь, как в сказке, превращался в обыкновенную лесную поляну, ничем не отличавшуюся от соседних полян. Собрались уезжать и Гердты с Никитиными, с ними – Окуджавы и Ира Желвакова. У Иры была иссиня-черная лента через всю грудь от впечатавшегося в нее ремня безопасности. Нас с Викой Гердт перевез в городок при автомастерской и устроил в маленькую гостиницу, где Вика могла лежать, и к ней даже приходила из больнички медсестра делать уколы.
Вот что сделал для нас Зяма.
А зимой я виделась с Гердтами редко, иногда приезжала с ночевкой к ним в Пахру. Какой это был праздник! Вечером заходили художник Орест Верейский и его жена Люся, и я замирала, боясь пропустить хоть слово из волшебных баек гердтовского застолья.
– Дело было в Англии вскоре после войны, в 1948 году, – рассказывал Зяма. – В тот год исполнилось десять лет безупречной службы в королевском флоте боевого английского полковника, назовем его полковник Смит. Этому знаменательному событию была посвящена статья в лондонской «Таймс». Но наборщик перевернул одну цифру, и, согласно статье, выходило, что полковник Смит служит в королевском флоте не с 1938, а с 1638 года… Полковник откликнулся статьей в воскресной «Таймс». Всем известно, – писал полковник, – что английская пресса безупречна, и поэтому не вызывает сомнений, что он служит в королевском флоте с 1638 года, но вот проблема: зарплату он получает только с 1938 года! В связи с этим обстоятельством он просит английскую корону компенсировать ему недоплату за минувшие триста лет, которую он оценивает в один миллион фунтов стерлингов.
Ошеломленная «Таймс» несколько дней молчала, и только в среду или в четверг в ней появился ответ полковнику. «Как справедливо заметил полковник Смит, – писала «Таймс», – английская пресса безупречна, и, действительно, не вызывает сомнений, что полковник служит в королевском флоте с 1638 года, и, действительно, английская корона должна полковнику за трехсотлетнюю службу один миллион фунтов стерлингов. Однако полковник, видимо, забыл о королевском билле от 1263 года, согласно которому каждый офицер королевского флота несет личную материальную ответственность за любое поражение флота в любой битве». Дальше скрупулезно перечислялись все поражения английского флота за минувшие триста лет. Каждому была приписана определенная сумма штрафа, и в результате выходило, что полковник должен английской короне один миллион и один фунт стерлингов. В следующем номере воскресной «Таймс» полковник сообщал, что он полностью согласен с материальными претензиями английской короны и уже внес в банк фунт на имя королевы.
Однажды Гердты приехали к нам в гости – хотели познакомиться с папой. Папа очень радовался предстоящей встрече, волновался, достаточно ли вина, хорошо ли угощение. Словом, был настроен весьма торжественно. Наконец звонок в дверь.
– Здравствуй, Яша, ты сегодня замечательно выглядишь! Это грандиозно, что мы наконец встретились, – прямо с порога стал разливаться соловьем Зяма. Он был младше папы на семнадцать лет, и они никогда раньше не встречались.
Папа мгновенно включился в игру:
– И ты сегодня неплохо выглядишь, а жена у тебя просто красавица!
За столом Зяма расспрашивал папу о тюрьме, о следствии, о дне освобождения – папина рукопись тогда была еще в подполье, о ее публикации и мечтать не приходилось. Зяма ее не читал.
– Господин, который вел мое дело, мой куратор… – рассказывал папа.
– Прокуратор, – поправил Зяма.
Больше я об этой встрече ничего не помню – наверное, опьянела от вина и счастья.
… Через год после отъезда в Америку я приехала в Москву повидать папу и друзей. Позвонила Никитиным. Татьяна тогда еще работала замминистра культуры.
– Приезжай к нам завтра, будет сюрприз, – пообещал Сергей. – Но учти, что плов – дело деликатное, не опаздывай, как это тебе свойственно.
Сергей замечательно готовит плов – не терял времени, учился у таджикских родственников. Гердт называл Сергея «мастером художественного плова».
Я, конечно, опоздала, пытаясь в лабиринте московских лавок отыскать такую, что продавала бы достойную предстоящего ужина водку. В американских эмигрантских кругах тогда упорно циркулировали слухи, что в московских лавках продают смертельное зелье, покупка которого может стоить жизни.
Когда я наконец появилась, Сергей с Татьяной были одни. По квартире плыл восхитительный аромат настоящего, дышащего, веселящего душу, профессионально исполненного восточного плова.
– Ты первая, – сказал Сергей.
– А кого мы ждем?
Сергей с Татьяной оставили мой вопрос без внимания – как не слышали. Но минут через пять – звонок в дверь. На пороге – Гердты. Вот какой сюрприз приготовили мне Никитины!
Гердты тоже очень обрадовались:
– Сергей сказал, что будет сюрприз, но я же думал, что это новый сорт плова, – веселился Зяма.
На этой радостной ноте, пока все любимые еще живы и все мы еще вместе, мне хочется оборвать мои гауянские записки.
Зиновий Ефимович Гердт. Эту замечательную фотографию подарила мне Татьяна Александровна после Зяминой смерти.
Однажды я летела в Америку в одном самолете с Булатом Шалвовичем, Ольгой Владимировной и Булей. Молодой пограничник долго изучал паспорт Булата Шалвовича, смотрел раз десять то в паспорт, то ему в лицо – исполнял службу, потом проштемпелевал паспорт, протянул какую-то бумажку и попросил жалобно: «Автограф дадите?»
Шереметьево, девяносто второй или девяносто третий год.
Это могло бы быть на Гауе – но нет, это в Америке, в горах над Солт-Лэйк-Сити. От Сергея Никитина не ускользнет ни один гриб, русский или американский, как бы замысловато он ни маскировался. Дело тут не в зрении – дело в интуиции.
Так мы праздновали мой день рождения в девяносто седьмом году. Это не Гауя, это провинция Виктория в Канаде. Володя с Сережей готовят шикарный рыбный стол: Сергей поймал в озере форель, Володя поймал в супермаркете лосося.
КАК МНОГО СВЕРХУ НЕБА…
(Ещё о Татьяне и Сергее)
Жизнь певца тебе светила,
Чуть мерцая из угла…
Г. Букалова
В молодости я была к ним глубоко равнодушна. В университете мы были разных поколений – я окончила, они только начинали. Они были физики, я – химик. По неписаной студенческой этике, переведенной на воровской жаргон, физикам с химиками дружить западло.
К тому же с телевизионных экранов семидесятых годов на меня смотрели этакие комсомольские энтузиасты, борцы за мир во всем мире. Они были мне неинтересны. Жизнь наша текла разными руслами. Никитины ездили укреплять дружбу с народами ближнего и дальнего зарубежья, я в это время моталась внутри страны, больно ударяясь о ее железные границы: несла свет популярных знаний работникам химчисток, строителям электростанций, чабанам вместе с их баранами, а, случалось, и зэкам. Путь за границу был мне заказан. Зато уж по Советскому Союзу я наездилась всласть, с южных гор до северных морей, залетая в самые невероятные медвежьи углы…
Дороги наши пересеклись в палаточном лагере московского Дома ученых на латышской речке Гауе.
Помню, мы с полчаса как приехали, ставили палатки. Мимо нас по узенькой тропинке, лихо перескакивая через выступающие корни, неслась на велосипеде шестилетняя Юлька Коган и самозабвенно орала:
– Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить!
– Трогательно, что дети поют наши песни, – сказала откуда-то взявшаяся Татьяна.
Я была смущена. Я не знала, что это песня Никитиных. Более того, я вообще не догадалась, что это была песня. После ужина я подозвала Юльку:
– Что это ты пела на велосипеде?
– «Диалог у новогодней елки» Никитиных. Юлька была откровенно поражена моим невежеством.
– А еще что-нибудь никитинское знаешь?
– Конечно!
– Споешь?
Юлька не заставила себя дважды просить.
Так, в исполнении шестилетней Юльки, началось мое знакомство с никитинским репертуаром.
А вскоре состоялся вечер Никитиных на Гауе. И тут, неожиданно для меня, под телевизионными масками открылись интеллигентные, красивые и обаятельные лица. А репертуар! Я ахнула! Сергей пел:
- Три вещи в дрожь приводят нас,
- Четвертой не снести.
- В великой книге сам Агур
- Их список поместил.
- Все четверо проклятье нам,
- Но все же в списке том
- Агур поставил раньше всех
- РАБА, ЧТО СТАЛ ЦАРЕМ!
- Пусть шлюха выйдет замуж – что ж,
- Родит, и грех забыт.
- Дурак напьется и заснет,
- Пока он спит – молчит.
- Служанка стала госпожой —
- Так не ходи к ней в дом.
- НО НЕТ СПАСЕНЬЯ ОТ РАБА,
- КОТОРЫЙ СТАЛ ЦАРЕМ!
- Он в созиданье бестолков,
- А в разрушении скор…
- Он глух к рассудку —
- Криком он выигрывает спор.
- Когда ж он глупостью теперь
- В ад превратил страну,
- Он снова ищет, на кого
- Свалить свою вину.
- Когда не надо, он упрям,
- Когда не надо – слаб.
- О РАБ, КОТОРЫЙ СТАЛ ЦАРЕМ, —
- ВСЕ РАБ, ВСЕ ТОТ ЖЕ РАБ!
Сергей пел, а у меня мурашки бежали по коже – да и сегодня бегут, когда я слушаю в записи эту песню. Речитатив Сергея был наполнен необычайным внутренним драматизмом. Конечно, это слова Киплинга. Конечно, написал эти слова по-русски не сам Сергей, а его учитель и друг – Лев Блюменфельд. Но чтобы петь такое в начале восьмидесятых годов в присутствии сотни малознакомых людей – а среди них есть разные, – нужно немалое мужество.
Еще они пели тогда Шпаликова, Левитанского, Самойлова, Юнну Мориц, Коротича. «Друзей теряют только раз…», «Каждый выбирает для себя / Женщину, религию, дорогу..», «Давай поедем в город, / Где мы с тобой бывали…», «Переведи меня через майдан…».
Я слушала, затаив дыхание. Они меня пронзили. Они ворвались в мою жизнь без предупреждения, со взломом. Оказалось, что музыка, которую пишет Сергей, – это моя внутренняя музыка. Я писала бы, наверное, точно такую же, если б умела. Барды ведь есть всякие. Иной раз мне нестерпимо хочется извлечь стихи обратно из их песен. А у Сергея абсолютный слух в поэзии, помноженный на замечательное музыкальное дарование. Его музыка органична замечательным стихам, которые он выбирает; мелодия и поэзия в его песнях настолько срощены воедино, что для их разделения потребовалась бы кровавая хирургическая операция. Бывает, хочется просто почитать эти стихи глазами – ан нет, внутреннее ухо уже слышит их мелодию, и внутренний голос их поет…
Думаю, для песенного искусства и для нас с вами большая удача, что Никитин стал заниматься музыкой профессионально. Для физики, наверное, потеря. Недавно Сергей совершенно поразил меня острым физическим умом, интуицией и научной эрудицией. Профессии ведь ревнивы, как женщины, и обычно не прощают, когда их бросают. Физика явно осталась с Сергеем в нежной дружбе. Это было для меня тем более неожиданно, что я наблюдала, как много лет назад Сергей писал на Гауе кандидатскую диссертацию. Татьяна давно уже защитила свою, а Сергей все тянул и вынужден был работать летом. Вся база разъезжалась за грибами и ягодами, а бедняга Никитин оставался сидеть за столом на поляне, обложенный бумагами и графиками. Он терпеливо ждал, когда автомобиль, увозивший двух Татьян – Никитину и Гердт, – скроется из виду. Тотчас из своей палатки появлялся Зяма, в руках у Сергея вместо авторучки оказывалась гитара, и вдвоем с Гердтом они с упоением пели джаз, не забывая зорко поглядывать на лесную дорогу. К моменту возвращения дам из лесу Сергей прилежно работал за столом, и, наверное, жаловался сокрушенно, что день был не особенно продуктивным. Наш общий друг, выдающийся физик, говорил мне, что в конце концов Сергей защитил очень хорошую диссертацию.
Но хватит о Сергее. В творческом союзе Никитиных он играет первую гитару, но не первую скрипку. Каждая семья – это ведь миниатюрное государство. В государстве Никитиных роль премьер-министра явно принадлежит Татьяне, как и другие ключевые портфели. Яркая, красивая, общительная, острая, быстрая в реакциях, очень собранная, Татьяна – прирожденный организатор и лидер. Не удивительно, что именно ей в эпоху «перестройки» выпало представлять советскую культуру в должности замминистра. Со временем Татьяна сошла с административной стези; остался у неё, однако, богатый опыт организационной работы и широкие связи в мире международной культуры. И меня осенила блестящая идея – познакомить Татьяну с моим другом, гениальным художником Михаилом Туровским.
Как раз в это время произошли драматические события в жизни представлявшего Туровского французского художественного агента, и Миша остался без европейского представителя. Татьяна взялась за дело и справилась блестяще. По свидетельству самого Туровского, на открытии организованной ею в Мадриде выставки не было, пожалуй, только короля Хуана Карлоса… Выставка имела и художественный, и материальный успех.
Сергей Татьяной откровенно гордится и в творчестве во многом полагается на ее вкус и интуицию.
Со временем творческий дуэт Никитиных превратился в трио: подрос сын Саша. Быть сыном Никитиных, расти в тени – или в свете – их славы, наверное, очень нелегко. Но Татьяна – незаурядная мать. Саша вырос, умудрившись сохранить удивительную чистоту и трогательную детскость, совершенно непопулярные в наш циничный век. Есть расхожее мнение, что природа отдыхает на детях. Когда появлялся на свет этот ребенок, природа была, по-видимому, в отличной форме и отдых ей не требовался. Саша многообразно одарен литературно и музыкально, артистичен и голосист. Но главное даже не в этом, а в исключительной доброжелательности, открытости и обаянии.
Я очень люблю историю о том, как Саша поступал в музыкальную школу. Учительница выставила взволнованных родителей за дверь, и за происходящим им пришлось наблюдать в щелку. Саша угадал все предложенные ему ноты, взял все аккорды и спел все песенки. Растроганная учительница спросила: «Ты, мальчик, я вижу, очень любишь музыку?» Торжественно одетый в бархатный костюмчик Сашка вытер бархатным рукавом нос, шумно втянул размазанные под носом остатки и сообщил учительнице: «Вообще-то не очень!» Таким трогательно открытым и вырос.
Сергей – человек молчаливый, задумчивый, интровертный, страстный любитель рыбной ловли и других тихих занятий, не требующих интенсивного общения. А впрочем, может, я и ошибаюсь, что Сергей молчалив от природы. Может, ему просто интереснее слушать других, чем говорить самому. Татьяна ведь блестящая рассказчица. Начнет Сергей что-нибудь рассказывать – и максимум через тридцать секунд нетерпеливая Татьяна перехватит инициативу, и вот уже вся аудитория, включая самого Сергея, принадлежит ей. Ему остается самовыражаться в музыке…
То, чем они занимаются, – настоящее миссионерство от поэзии. Уверена, что ко многим замечательные поэты пришли через никитинские песни. Мне Никитины открыли Шпаликова, Левитанского и Юнну Мориц.
Гердт недаром писал о Никитиных: «…Потом, например, меня возвышает их культурность. Да. Да. Культурность во всем – в облике, в манере держаться…»
И тут же со свойственным ему юмором сознавался: «Я глубоко пристрастен к Сергею и Татьяне Никитиным. Мы давно близки не только по стремлению к художественному, но и по человеческому существованию. Так что верить мне не очень-то надо…»
Я тоже глубоко пристрастна к Татьяне и Сергею – наверное, это просвечивает и сквозь мои записки. Но вы все-таки мне верьте. Так много пережито вместе и прекрасных минут, и длинных тяжелых дней. Смерть Сахарова, смерть Гердта, смерть Окуджавы – как-то так случалось, что через эти несчастья мы проходили вместе.
Смерть Зямы… Сообщила мне о ней Татьяна – Никитины в это время были в Америке, у Саши. Таня и Сережа потеряли одного из ближайших своих друзей, и я понимала, как рвутся сейчас их души за океан, в Москву… В моей жизни Гердты тоже играли очень важную роль, возможно, и не подозревая об этом. Смерть Зямы была и для меня огромным личным горем. Я полетела к Никитиным в Калифорнию, чтобы в эти дни быть с ними рядом…
И совсем уж по невероятному стечению обстоятельств мы с Татьяной оказались вместе, когда умер Окуджава. Я была на конференции в Швейцарии; воспользовавшись случаем, навестила своих итальянских коллег и на несколько дней заехала к Татьяне. Накануне отлета обратно в Америку я позвонила Володе, чтобы встречал. Мы долго договаривались и почти уже распрощались, когда он вдруг сказал:
– Знаешь, только что звонил Гришка из Сан-Франциско, у них там говорят, что умер Окуджава…
Очень хотелось думать, что это всего лишь нелепый слух. Звонить кому-нибудь в Европе было уже поздно, и до утра мы жили надеждой. Утром все подтвердилось…
Булат пережил Зяму меньше, чем на год. Не будет больше «божественных суббот». Ушла эпоха – та эпоха, в которой жили мой папа и Сахаров, Даниэль и Канели, Окуджава и Гердт. Моя эпоха…