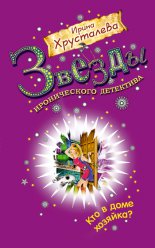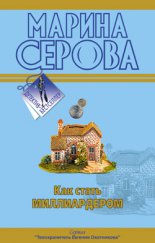То ли быль, то ли небыль Рапопорт Наталья
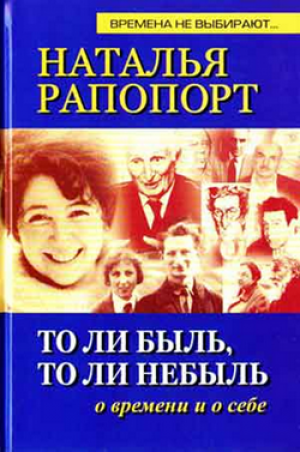
– Бери свою блядь и пойдем гулять, – вдохновенно рифмовала Дуська, указывая на Викину любимую куклу, и Вика долго была уверена, что кукла так и называется.
А ребенок, между прочим, уже начинал говорить.
Однажды к нам в гости пришел мальчик из очень интеллигентной семьи. Кудрявый, аккуратно причесанный, в белоснежной кружевной рубашечке с черным бантиком. Виктория из кожи вон лезла, чтобы понравиться этому принцу. Показывала свои сокровища:
– Смотри, мама мне вчера подарила новую блядь, говорящую!
Мама схватила принца, и больше мы их не видели… Потом Дуська забеременела.
Надо сказать, что родители мои через такие испытания уже однажды проходили. Было это много лет назад, когда родилась моя старшая сестра Ляля. Ту девушку звали Нюра. Нюра гуляла с красноармейцем, в отличие от нашей Евы – с одним, но ведь и время было другое, пуританское.
– Нюр, ты с ним поосторожнее, – посоветовал папа.
– Да что вы, Яков Львович, мы с ним уже два месяца встречаемся и только недавно познакомились! – успокоила Нюра.
Нюра, конечно, забеременела, а солдат сбежал. Нюра знала, где стоит его часть, и написала письмо начальнику.
Вскоре пришел ответ, но не от начальника, а от самого солдата: «Дорогая Нюра, вы написали товарищу начальнику, что я являюсь отцом вашего зачатия…»
Как «отец Нюриного зачатия» солдат себя не оправдал и «знакомство» с Нюрой категорически отрицал. С абортами тогда было сложно, и Нюра уехала рожать в деревню, а сестру мою Лялю отдали в ясли.
Вооруженные этим опытом, родители мои предсказывали близкий конец нашей с Евой эпопеи, и он не заставил себя ждать.
На семейном совете, состоявшемся при деятельном участии самой пострадавшей, решено было устроить Дуську на аборт, а потом немедленно отправить домой к маме, чтобы присматривала за дочерью. Эта последняя часть протокола совершенно не входила в Дуськины планы и вызвала яростное сопротивление, но папа проявил твердость духа и, когда Дуська поправилась, сам отвез ее на вокзал и посадил в поезд.
Сколько раз потом я проклинала себя за этот отвратительный снобизм!
Потому что на смену Дуське пришла по объявлению настоящая ведьма. Высокая женщина лет шестидесяти, с довольно правильными чертами лица, которое почему-то казалось мне безобразным. Вскоре я разгадала тайну ее уродства: лицо безобразили свирепые глаза. Вика стала вздрагивать и плакать по ночам. Какое-то время мы терпели. Первым не выдержал дед:
– Эльвира Петровна, ребенок никогда не перестанет плакать, если на него так злобно кричать!
Реакция была совершенно неожиданной.
– Ага, я так и знала, что вы уже побывали в райкоме, сыщики! – оскалилась наша няня. Увидев полное недоумение на папином лице, осеклась, но было поздно. Папа-таки съездил в райком партии по месту ее прописки. Оказалось, что на склоне лет Эльвира Петровна круто поменяла профессию: в няни она пришла из надзирательниц женских лагерей, откуда была изгнана с выговором по партийной линии за жестокое обращение с заключёнными…
Малютку Еву Моисеевну привез в наше отсутствие ее сын.
С Викой в это время сидела наша соседка, она-то их и впустила. Сын поставил в коридоре сундучок и исчез, не оставив никаких координат.
Вернувшись с работы, мы с Володей застали в нашей постели сладко спавшую крохотную седую старушку.
– Это – мне? – спросил восхищенный зрелищем Володя. Старушку аккуратно разбудили.
– Ева Моисеевна, сколько вам лет? – поинтересовалась я.
– Семьдесят пять, – сказала Ева Моисеевна.
– Она забыла, – прокомментировал папа. – Спроси, не помнит ли она Декабрьское восстание на Сенатской площади и не при ней ли отменили крепостное право?
Трогательно свернувшись калачиком, Ева Моисеевна целыми днями спала на двух составленных около телефона стульях, временами отвечая на звонки, о которых, впрочем, мгновенно забывала. Мы пустились на розыски ее сына. Каким-то чудом нам в конце концов удалось его найти – деталей не помню, но цепочка была длинная. Практичный сын потребовал выкуп – иначе забрать мать никак не соглашался. Мы были в восторге от простоты и изящества всей операции: на месяц избавившись от матери, он еще и заработал на этом деле, и, как видно по отточенности деталей, не впервые…
Нина Дмитриевна приглянулась нам сразу.
– Вешу ровно сто килограмм! – с гордостью сообщила она о своем выдающемся достоинстве.
– Толстая, значит, наверно, добрая, – с надеждой шепнул мне Володя, – давай возьмем!
К сожалению, очень скоро выяснилось, что Нина Дмитриевна совсем не умеет готовить и что ребенок находится совершенно вне сферы ее интересов: основное внимание она сосредоточила на моем овдовевшем отце. Нина Дмитриевна всё живописала ему ужасы холостого и преимущества женатого существования.
– А физиология не нужна, можно и без физиологии, – объясняла папе Нина Дмитриевна, видимо, не очень уверенная в его возможностях.
– То есть как это можно без физиологии! – возмутился папа, – без физиологии никак нельзя!
– Нет, если нельзя без физиологии, можно и с физиологией, – быстро согласилась Нина Дмитриевна.
– Такое весомое счастье само в руки плывёт! – смеялся папа. – Жаль, что она не умеет варить кашу и жарить яичницу.
Потерпев матримониальное фиаско, Нина Дмитриевна ушла сама. Она была симпатичная тетка, и хочется верить, что в конце концов она нашла любителя заниматься физиологией на голодный желудок…
Тетя Шура была гренадерского роста и говорила басом. Вечером первого дня, проведенного с тетей Шурой, Вика с нетерпением ожидала в коридоре у входной двери моего возвращения с работы:
– Мама, ты в какого бога веришь? Огорошенная вопросом, я с ходу ответила:
– Ни в какого.
– Как же так? – удивилась Вика. – Тетя Шура верит в русского бога, я верю в еврейского, а ты в какого?
Спустя пару дней мы ужинали вечером на кухне, и тетя Шура все смотрела на Володю, а потом сказала мне своим густым басом:
– Наташк! А твой муж, наверно, не яврей!
– Почему вы, Тетя Шура, так думаете?
– А лицо такое, приятное!
Не вполне уверенные, что трехлетнему ребенку полезны такие этнические экскурсы, мы расстались с тетей Шурой, но история имела продолжение. Напротив нашей дачи стоял, да и сейчас стоит, дом Федосьи Парфенны; Федосья Парфенна жила там круглый год. В пору моего детства Парфенна носила прозвище «Это Самое», потому что испытывала большие трудности с выражением мыслей и объяснялась примерно так:
– Вчера, это самое, на Фабричной, это самое, клубника, это самое, крупная, это самое…
На лето Парфенна сдавала свой дом, а сама перебиралась в сарайчик. В то лето у нее жила семья с мальчиком Вовкой Викиного возраста; Вика с ним играла. Однажды, вернувшись с работы, я застала Вику в очень дурном расположении духа.
– Что случилось?
– Я с бабушкой Парфенной больше не вожусь!
– Почему?
– Она пессимистка!
– Парфенна?! Пессимистка?!
– Да, пессимистка! Подумаешь тоже, евреев не любит! Может, она сама еврейка, а может даже, еще хуже!
Выяснилось, что утром сосед Вовка забежал сказать Вике, что больше играть с ней не будет, потому что бабушка Парфенна сказала ему, что Вика еврейка, а с евреями водиться не след.
Меня поразил тогда не сам факт – меня сразила каша в трехлетней Викулиной голове. Надо сказать, что такую же кашу я наблюдала потом и у Викиного однокашника Мишки Александрова, чистейших русских кровей, из старой русской аристократии, и, может, поэтому, слегка грассировавшего. Зайдя за Викой в школу, я застала жестокую драку первоклассника Мишки Александрова с первоклассником Ромкой Бухаровым. Ромка, задыхаясь, колотил Мишку:
– Еврей! Запинаешься! Эг не выговагиваешь! – выплевывал Ромка и попутно ругал Мишку матерно.
Мишка, не оставаясь в долгу, колотил Ромку и при этом парировал с достоинством:
– Ну и что, что еврей! Что, что еврей! Евреи умные! А захочу, в Израиль уеду!
К концу школы – да нет, конечно, гораздо раньше – все они уже прекрасно разбирались, кто есть кто…
Вот на какое длинное отступление подвигла меня наша короткая встреча с тетей Шурой…
Елизавета Алексеевна была когда-то инженером-химиком. Узнав, где я работаю, сказала:
– У меня есть кое-какие вопросы к академику Гольданскому по поводу Менделеевской системы. Вы бы не могли устроить мне с ним свидание?
– По-моему, будет больше толку, если она будет ходить вместо тебя в химфизику, а ты сидеть с Викой, – посоветовал папа. Он оказался прав. Потому что уже на следующий день вечером, вернувшись с работы, я застала Володю и папу очень обеспокоенными. Елизавета Алексеевна спала.
– Когда мы пришли домой, она была какая-то очень странная, возбужденная, щеки горят, говорит нечленораздельно, все время повторяет одни и те же слова, – доложил Володя. – Может, шиз?
– Вам не показалось? Вчера ведь была совершенно нормальная, даже с Гольданским хотела беседовать!
Утром все было в порядке, но вечером все повторилось по вчерашнему сценарию. Мы терялись в догадках. Ах, нам бы поднять глаза на кухонный шкаф, где уже несколько месяцев зрела в пятилитровой бутыли чернорябиновая настойка! Володя над ней колдовал и никому не давал пробовать, дожидаясь одному ему ведомого срока. Но мы не подняли туда глаз. А через пару дней на кухню пришел очень рассерженный и расстроенный папа:
– Наташа, ты пила мой коньяк?
У папы была заповедная бутылка армянского коньяка из Шустовских погребов, чуть ли не столетней выдержки, преподнесенная ему ереванским доктором, чью диссертацию он оппонировал. Папа этот коньяк даже не пил, а только нюхал и умилялся. И вот папа спрашивает:
– Наташа, ты пила мой коньяк?
Я просто одурела от этого вопроса. Папа прекрасно знал, что я уже много лет ничего не беру без спроса, а уж то, чем он так дорожит, – тем более.
– Но у меня была полная бутылка, а теперь половина, – недоумевал папа. И тут дал удивительную промашку, простительную, пожалуй, только для ученого-естествоиспытателя его ранга. Он принес карандаш по стеклу и сказал с угрозой:
– Хорошо, ставлю риску!
И с тем провел черточку по уровню коньяка в бутылке.
Надо ли говорить, что риска не понадобилась! На следующий день бутылка была пуста, как барабан, а Елизавета Алексеевна спала мертвецким сном в своей комнате, лежа частично на полу, частично на кровати и благоухая чесноком. Папа не мог успокоиться:
– Такой коньяк закусывать чесноком! Нет, вы только подумайте, такой коньяк закусывать чесноком!
Папа не спал всю ночь – всё дожидался, когда проснется Елизавета Алексеевна, и, едва услышав шевеление в ее комнате, спросил:
– Елизавета Алексеевна, как вы могли такой коньяк закусывать чесноком?!
– Какое вам дело, чем я закусываю свой коньяк, – недружелюбно отозвалась Елизавета Алексеевна.
– Нет, мне совершенно безразлично, чем вы закусываете свой, – отвечал, едва сдерживаясь, папа, – но мне не все равно, чем вы закусываете мой!
Я поняла, что пора вмешаться.
– Елизавета Алексеевна, мне кажется, наша встреча была ошибкой.
– Да, – согласилась Елизавета Алексеевна, – вы мне несимпатичны.
Мы расстались. За проведенную в нашем доме неделю Елизавета Алексеевна осушила пятилитровую бутыль Володиной настойки и бутылку чудесного коньяка.
– Подумать только, и мы ей несимпатичны! – обижался папа.
И тут, наконец, нам улыбнулось счастье. У счастья было лицо бабы Маши – маленькой, суетливой, доброй, заботливой и ворчливой. Словом, настоящей Няни.
– Викуля, принеси, пожалуйста, мячик, – просила я.
– За ним далеко итить. Я его туды положила, – отвечала Викуля, делая ударение на втором О, и показывала мне в книжке: это жароф, это бигамот, а это кенгура. И все мы были счастливы.
Баба Маша прожила у нас несколько лет, пока у нее в Ярославле не родился внук. Мы еще долго дружили. А Вика пошла, наконец, в детский сад.
СТАРАЯ КВАРТИРА
Несколько лет назад я уже летела этим ослепительным маршрутом. Был такой же безоблачный день. Снежные шапки гор и кратеры вулканов сверкали такой белизной, словно это был первый день творенья. Горы были неправдоподобно правильной формы, будто вычерченные циркулем, и невозможно было оторвать от них глаз.
Черт знает по какой причудливой ассоциации – скорей всего, по контрасту – я вдруг вспомнила о нашей послевоенной московской коммуналке, где в коридоре без окон висела на грязном шнуре под потолком тусклая запыленная лампочка, мертвенно-желтого света которой едва хватало, чтобы не заблудиться по дороге в уборную. Я не вспоминала о ней почти полвека, а тут вдруг ясно увидела длинный темный коридор, антресоли под высоким потолком и сползающее с них колесо неизвестно кому принадлежащего велосипеда. Вспомнила я и обитателей квартиры – и рассказала о них приятелю, скоторым мы путешествовали.
– У тебя готовый рассказ, – сказал он. – Ты записала? Нет? Запиши.
Тогда я не записала. И вот теперь я опять летела тем же маршрутом, так же сияли горы и вулканы, но теперь рядом сидел необъятных размеров американец, видимо, купивший сразу два билета, потому что стюардесса забрала два нормальных кресла и вместо них притащила и установила одно огромное, специально сконструированное для такого зада. Необъятный американец ворочался и пыхтел рядом и мешал мне вжиться в проплывавший под окном пейзаж. И тогда я снова вспомнила нашу Воронью слободку, вытащила листок бумаги и стала писать.
Дом стоял на углу Большого Афанасьевского и Сивцева Вражка. Первый этаж его был облицован кафелем: там находился согласно вывеске магазин «Мясо – Рыба». В те годы название это не было метафизическим, мясо и рыба в магазине действительно были. К нам это отношения не имело, потому что их выдавали по карточкам, которые нам не полагались: мы были прикреплены к другому магазину. Около дома всегда было оживленно, сновали туда-сюда тетки с кошелками. Потом карточки отменили, продукты куда-то исчезли, и эфемерное «Мясо – Рыба» поменяли на более земное «Овощи», которых, впрочем, там тоже не было.
Мы переехали в этот дом в сорок пятом году из бывшего борделя на углу Мерзляковского переулка, где занимали крохотную комнату в самом конце казавшегося бесконечным коридора. После борделя квартира на Афанасьевском показалась настоящим дворцом.
Она имела форму буквы «П», повернутой под прямым углом по часовой стрелке и положенной на правую ножку. Входная дверь находилась между ножкой и перекладиной. Семь табличек на ее наружной стороне свидетельствовали о том, что в квартире живет семь семей. Кнопок на двери было две, одна – от нормального звонка, другая – от светового, потому что в квартире жили глухие Надя и Веня; световой звонок был протянут в их комнату. Огромный, как медведь, Веня был глухой от рождения, говорить не умел совсем, а только страшно мычал, пил горькую и бил Надю смертным боем. Надя смиренно переносила побои и никогда не жаловалась. Она была маленькая, круглая, уютная и добрая. Мы дружили. Надя научила меня азбуке глухонемых, и, вернувшись из школы, я подолгу беседовала с ней на нашей коммунальной кухне, где на семи столиках чадило семь примусов. В отличие от немого Вени Надя потеряла слух в отрочестве от скарлатины и немой не была.
– Это же можно питаться и питаться, – сокрушенно говорила Надя своим громким, неестественно скрипучим голосом, глядя на щедро срезанные картофельные очистки, выброшенные в помойную корзину соседкой Диной Николаевной.
Дина Николаевна была типичная квартирная склочница. Невысокая, расплывшаяся, с большой бородавкой над верхней губой, она обычно инициировала квартирные скандалы. Поводов бывало предостаточно, особенно по утрам, когда всем надо было в одно и то же время явиться на работу, а в квартире была только одна ванная и одна уборная. Был установлен строгий регламент, кто, когда и как долго пользуется этими удобствами. Регламент этот, по естественным причинам, не всегда удавалось соблюсти, и тут уж наступал час Дины Николаевны. Она была одержима классовой ненавистью, и ее вопль «Профессора! Нахалы!» до сегодняшнего дня звучит у меня в ушах. Почему-то она была уверена, что именно мои родители не гасят свет в уборной. Но со мной Дина Николаевна бывала ласкова, зазывала к себе, угощала конфетами, расспрашивала, что за люди приходили вчера к нам в гости, чем занимаются, давно ли знакомы. Я по наивности исправно ей все докладывала.
Рядом с Диной Николаевной жила странная молодая пара. Такого агрессивного еврея-алкоголика я больше не встречала никогда в жизни. Раза два в месяц, теперь я понимаю – с получки, Исак напивался до полусмерти, и тогда его начинали преследовать страшные видения Розиной измены. Он бросался на нее с кулаками, а иногда и с ножом. Происходило это обычно во втором часу ночи. Роза с криком неслась к нам спасаться, за ней, рыча и шатаясь, тащился Исак, но не поспевал. Мой папа выскакивал из постели в белых кальсонах, приоткрывал дверь, впускал Розу и тотчас снова запирал дверь на ключ. Исак бесновался снаружи и требовал выдать Розу. Тогда из своей комнаты появлялся Николай Николаевич Воронин. Он говорил что-то Исаку тихим строгим голосом, и тот сразу утихал и убирался к себе, а Роза до утра плакала, сидя у нас за обеденным столом. Уложить ее было некуда. В небольшой проходной комнате, служившей одновременно гостиной, кабинетом и спальней, и так уже спали мама, папа и Розальвовна; в крохотной соседней комнатке располагались я и няня Ксеня. Сестра моя Ляля, уже студентка, жила отдельно у тети Анны. И все-таки у нас, единственных во всей квартире, было целых две комнаты! Соседке Дине Николаевне трудно было это пережить.
Утром смущенный Исак приходил к нам каяться и забирал Розу домой, но через две недели все повторялось с регулярностью часов.
Усмирявший Исака Николай Николаевич был полковником МГБ. В квартире он пользовался большим и заслуженным авторитетом. Высокий, сухопарый, подтянутый, он никогда не принимал участия в квартирных склоках. Вся квартира знала, что Николай Николаевич спит с соседкой, сдобной Ниной Ивановной. Не знал этого только муж Нины Ивановны, тихий бухгалтер Вячеслав Александрович. А когда узнал (думаю, не без помощи Дины Николаевны) – умер от горя и инфаркта.
В квартире была еще одна семья. Мария Яковлевна и Женя Ивановы жили в маленьком чулане при кухне, без окна, рядом с черным ходом. Мария Яковлевна была учительница, Женя – студент, ровесник моей сестры. Почему они жили в чулане при кухне? Тогда я не задавалась этим вопросом. Скорее всего, Жениного отца посадили, квартиру отняли и переселили их с матерью в наш чулан. Впоследствии Женя стал профессором.
В пятьдесят первом году мы переехали из «старой квартиры» в новую, кооперативную. Впервые за двадцать семь лет совместной жизни у моих родителей появилось свое жилье с отдельной спальней. Оттуда через полтора года папу увезли на Лубянку, но история, как вы уже знаете, имела счастливый конец.
В «старой квартире» я больше не бывала, но всегда мечтала посмотреть, что там делается без нас. Несколько лет назад, приехав ненадолго из Америки, я шла со своей подругой, Леной Платоновой по Гоголевскому бульвару и вдруг поняла, что мы находимся в двух шагах от дома, где прошло мое детство. Я безумно захотела туда зайти – и вот мы уже стоим перед знакомой дверью. На ней по-прежнему висит несколько табличек, но кнопка звонка теперь только одна. Фамилии на табличках все незнакомые – прошло ведь ни много ни мало пятьдесят лет! Мы позвонили наугад. Открыла дверь недовольная женщина средних лет. Мы с Ленкой сбивчиво объяснили, зачем явились, но дальше коридора она нас не пустила.
Под потолком висела запыленная электрическая лампочка, освещавшая коридор мертвенно-желтым светом. С антресолей под высоким потолком сползало колесо неизвестно кому принадлежащего велосипеда.
P. S.
Когда через несколько лет я снова попыталась проникнуть в «старую квартиру», на двери подъезда оказалась красивая резная решетка и был установлен домофон.
ЕЩЕ НЕ ГАЗЕЛЬ (ХРОНИКА ОДНОГО МЕНИНГИТА)
Володе
Предисловие
Началось все в субботу с легкого насморка. По привычке выбивать клин клином я отправилась на гору кататься на лыжах. Откровенно говоря, даже по московским масштабам это была не гора, а так – пригорок на канале, однако с собственным нежным именем Лизаветка.
Был лютый январский мороз, я закоченела и помчалась отогреваться в близлежащий бассейн. День клонился к вечеру, дежурная тетя Нюра торопилась домой и выгнала меня из бассейна на улицу с мокрой головой. Волосы сразу обледенели и тускло поблескивали рыжим из-под прозрачной короны. Так, наверно, выглядели Кай и Герда в плену у Снежной королевы.
Понедельник и вторник
Несмотря на принятые крутые меры насморк не прошел. Кто-то все время колотил мне в виски маленьким молоточком. Надо было бы отлежаться, но я не могла: на работе шел эксперимент, почему-то казавшийся тогда очень важным, да плюс к этому я начала изучать японский язык. Наш «сенсей» гнал нас диким темпом – катакана, хирагана, иероглифика – пропустишь один четырехчасовый урок и вовек не догнать. Поэтому и в понедельник, и во вторник я была на работе.
Среда
В среду утром я не смогла оторвать голову от подушки. Это не литературный образ: я пыталась поднять голову, но она была налита свинцом, а приподнимались почему-то ноги. Мысли разбегались, как тараканы из раковины с немытой посудой, когда после войны на нашей коммунальной кухне зажигали свет. Невероятно трудно было сосредоточиться, чтобы что-нибудь разумное предпринять. Все же я заметила, что рядом с кроватью на стуле лежит термометр и стоит телефон: видимо, уходя на работу, Володя почуял неладное. Сделав неимоверное усилие, я поставила под мышку термометр и переставила телефон себе на грудь. Термометр поразительно быстро показал сорок один с хвостиком. Я была в курсе, что сорок два – это предел, и до него сейчас оставалось рукой подать. Все же я еще сумела набрать Володин номер, но говорить уже не могла. Видимо, я потеряла сознание, потому что уже в следующую минуту увидела над собой встревоженное Володино лицо и удивилась, как это он в мгновение ока перелел с Таганки на Сокол. Пришла районный врач, поставила диагноз – грипп и выписала бюллетень.
Четверг
В четверг стало еще хуже. Страшно болела голова, тошнило и рвало. Голова по-прежнему не отрывалась от подушки, а когда ее поднимал Володя, с ней вместе поднимались ноги, изгибая меня причудливой дугой. Володя не ходил на работу и дежурил около меня.
Пятница
Казалось, что хуже не бывает, но все-таки в пятницу стало еще хуже, и решено было пригласить ко мне специалиста по инфекционным болезням. Корифеем в этой области тогда считался профессор Уманский. От папиной просьбы проконсультировать меня он в восторг не пришел. В те годы еще сильны были этические нормы доктора Чехова, и врачи у врачей не брали денег за визит. Может быть, поэтому Уманский приехал очень раздраженный, пощелкал пальцами у меня перед носом и поставил диагноз: холецистит. Диагноз несказанно удивил моих близких, но спорить с корифеем папа не стал. Уманский пропел навязшую в зубах песню про жареное, соленое и острое и собрался уходить.
– Но Наташа совсем ничего не ест и не пьет, не может, – пожаловался Володя.
– А на это вы ей скажите, что тощая корова – еще не газель, – отбрил его Уманский и с этим отбыл.
Я все это знаю больше по рассказам, потому что, периодически теряя сознание, присутствовала при визите Уманского только частично.
Суббота
В субботу стало невыносимо. Рвало почти непрерывно. Володя приподнял мою голову, пытаясь напоить чаем, и вдруг усы его медленно растаяли, а вместо лица перед глазами остался странный прозрачный пустой свет. Я заорала, что ничего не вижу, и потеряла сознание. Когда пришла в себя, Володины усы были на месте. Я очень обрадовалась и хотела сообщить, что опять вижу, но тут оказалось, что я не могу говорить: вместо слов изо рта вырывалось нечленораздельное коровье мычание. Это было очень страшно, еще страшнее, чем ослепнуть, и я опять потеряла сознание. Так стремительно нарастал отек мозга.
Когда я пришла в себя, и зрение, и речь оказались на месте, а рядом со мной сидела моя старшая сестра Ляля.
– Наташка, ты хоть понимаешь, что ты у нас умираешь? – спросила Ляля. Моя сестра умеет в нужный момент ободрить.
Я не то чтобы понимала или не понимала – я этими категориями не мыслила. Мне было все равно. Единственное мое желание было, чтобы перед смертью меня хоть на одну секунду перестало тошнить.
Приехала «Скорая помощь». Молодая симпатичная врач поставила диагноз – менингит и вызвала перевозку.
– Куда вы ее повезете? – спросил папа.
– В ближайшую больницу, первую инфекционную.
– Кто там заведует отделением?
– Профессор Уманский.
Папа вздрогнул. Не далее как вчера Уманский сказал, что у меня холецистит и никакой госпитализации не требуется. Как же теперь везти меня в его отделение и ставить его в такое неловкое положение! Даже в этот вполне трагический момент папа думал об этике. Но молодая врач была непреклонна: первая инфекционная – ближайшая больница, и нельзя поручиться, что меня довезут живой даже туда. Однако довезли. Первую пункцию мне делали тут же по приезде, прямо в коридоре приемного покоя. Когда воткнули иглу в спинной мозг, оттуда ударил настоящий фонтан. Я пришла в себя и услышала возбужденные восклицания врачей. Женщина в белом халате вертела у меня перед носом пробирку со спинномозговой жидкостью и говорила:
– Смотри, смотри, прозрачная! Менингит вирусный! Жить будешь!
Пункция сняла отек мозга, и мне сразу стало легче. Перестало тошнить, по всему телу разлилось блаженство. Меня перенесли в палату, поставили капельницу, и впервые за последние дни я заснула, а не потеряла сознание. И хотя температура у меня то падала до тридцати пяти, то опять подскакивала до сорока одного, воскресенье прошло все в том же райском блаженстве.
Понедельник
В понедельник со свитой придворных в палату вплыл Уманский. Свита подобострастно смотрела ему в рот и записывала каждое слово, по-моему, даже задумчивое «Хм-м». Уманский опять пощелкал пальцами у меня перед носом, приказал сделать эхоэнцефалограмму и поставил диагноз: абсцесс мозга.
Это был не диагноз, это был приговор. Удивительно, но дистанция от холецистита до абсцесса мозга, пройденная Уманским за два выходных дня, его нисколько не смущала. Он объявил свой приговор папе: единственная надежда, и та весьма призрачная, это срочная операция. Надо переводить больную в нейрохирургию. Хорошая нейрохирургия есть в Боткинской больнице.
Чудо все-таки, что папа выжил. В свои восемьдесят лет он бежал бегом почти километр от корпуса, где я лежала, до такси, чтобы нестись в Боткинскую и там договариваться о срочной операции.
Я ничего этого не знала. Обколотая антибиотиками, я лежала с капельницей в теплой палате в полной нирванне, когда вдруг туда явились мужики с носилками, медсестра отсоединила капельницу, и меня в одной рубашонке, набросив какую-то дурно пахнущую черную шинельку, с непокрытой головой вынесли на двадцатиградусный мороз и водрузили в ледяную перевозку. И я поняла, что это конец.
Но, видимо, меня так просто не возьмёшь: мы доехали!
В приёмном покое Боткинской больницы с меня в первую очередь сняли чужую рубаху и отослали законным владельцам, а вместо нее надели рубаху нейрохирургического отделения, порванную от горла до паха, зато украшенную многочисленными штампами и печатями, чтобы другим отделениям или самим больным не пришло в голову эту рубаху, чего доброго, стянуть.
В тот вечер в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы дежурил молодой врач Володя Пумырзин. Как и Уманский, он сделал эхоэнцефалограмму и сказал удивленно:
– Нет у вас никакого абсцесса мозга (а я и не знала, что у меня такой диагноз!). Банальный менинго-энцефалит. Вы не наша больная. Жить будете.
– Не буду! Не буду я жить, если вы сейчас опять выгоните меня голую на двадцатиградусный мороз и отправите к этому тусклому светиле Уманскому! Пожалуйста, оставьте меня у вас! Будьте моим доктором!
С большей мольбой я бы не могла сказать любимому: будьте моим мужем! В этот момент я страстно хотела жить. Пумырзин чрезвычайно удивился этой эскападе.
– Да я и не собираюсь вас никуда отправлять. Вас сейчас отвезут в палату. Для Вас уже готова палата на двоих, у Вас будет только одна соседка.
Только одна соседка
Меня поместили в палату для блатных. Второй блатной в моей палате оказалась огромная седая старуха с торчащими в разные стороны патлами и белыми от безумия глазами.
Впоследствии выяснилось, что она тетка медсестры, обезумевшая после инсульта. Медсестры были на вес золота, и безумную тетку взяли в нейрохирургическое отделение без всяких разговоров. Кстати, нянечки в отделении не было вообще. Вернее, была одна восьмая нянечки – то ли она приходила один раз в восемь дней, то ли приходила каждый день на один час – не знаю, потому что мне эта одна восьмая за два месяца не досталась ни разу. Володе и друзьям пришлось её заменить, но об этом позже.
Когда меня внесли в палату, Тетя Шура (так звали старуху) сидела на кровати и что-то бормотала себе под нос. Едва меня перевалили с носилок на койку, в палату ворвался Володя с ватным одеялом и теплой шапкой – с этим хозяйством он явился в инфекционную больницу, но опоздал к перевозке, и меня, как я уже докладывала, увезли почти голую. Некоторое время тетя Шура внимательно и, казалось, осмысленно разглядывала Володю. Потом вступила с ним в разговор:
– Молодой человек, вы из Подольска? Володя опешил:
– Да нет, я из Москвы.
– Сейчас уже поздно ехать в Подольск, – сообщила тетя Шура. – Ложитесь здесь, хотите – со мной, хотите – с этой блядью.
…Соседка тетя Шура оказалась настоящим проклятием моей больничной жизни. Если бог хотел меня за что-то покарать, более изощренной пытки придумать он не мог. Я была абсолютно беспомощна – месяца полтора голова моя так и не отрывалась от подушки, я даже поворачивать ее могла не больше, чем на миллиметр-два. Так я и лежала, глядя в одну точку, и досконально, до мелких деталей, изучала узор потеков на потолке палаты. Двигались только руки, которыми я на ощупь находила стоявшие рядом предметы первой необходимости – поильник с водой на тумбочке, судно на стуле. Нянечки, как я уже докладывала, в отделении не было, так что в отсутствие Володи или друзей приходилось быть на самообслуживании. А мне, чтобы предотвратить дальнейший отек мозга, давали мочегонные, в результате чего самообслуживаться надо было довольно часто. А тётя Шура, ходячая больная, воровала у меня судно. Она подставляла свое судно под одну половинку своего гигантского зада, мое – под вторую и справляла нужду между ними… На полу стояла не-просыхающая вонючая лужа, которую иногда забегала вытереть ее племянница, а мой мочевой пузырь лопался от напряжения, и я тихо и безнадежно плакала в ожидании своих спасителей. От этой пытки мне становилось все хуже и хуже. В конце концов я взмолилась, и по папиной просьбе меня перевели в другую, не такую блатную палату.
День выборов
Переезд на новое место жительства был целым событием. Вызвали санитаров, они перевалили меня с кровати на носилки, нашли медсестру, которая перестелила на мою новую кровать мою старую простыню. Температура у меня по-прежнему прыгала с сорока до тридцати пяти, я постоянно плавала в липкой жиже, и вскоре надетая на меня в приемном отделении драная рубаха стала похожа на пробитую ятаганом кольчугу, а простыня приобрела цвет какао с молоком. Так я и лежала, как раненый средневековый рыцарь, брошенный на поле боя среди вонючих тел, – домашнее белье в нейрохирургическое отделение приносить было нельзя.
Однажды ночью у меня заболело сердце. Заболело внезапно и сильно, но ночью некого было позвать на помощь. Начинался перикардит, вызванный тем же вирусом, что и менингит: злой вирус докочевал от мозга до сердца. Я мучалась всю ночь и забылась только под утро, когда уже светало.
Проснулась я внезапно, в ужасе от громкого, как выстрел, стука. Сердце бешено колотилось где-то в горле, готовое навсегда вылететь изо рта при малейшем движении или кашле. Надо мной стояли три ангела в белоснежных одеждах и колпаках, один из них держал в руках деревянную урну. В воспаленном мозгу на мгновение мелькнула догадка, что ночью я умерла, и ангел держит в руках урну с моим прахом. В это время второй ангел сунул мне в руку какие-то бумажки и рявкнул:
– Голосуйте!
И тут я разглядела, что у ангела с бумажками зверское лицо старшей медсестры нейрохирургического отделения.
– Голосуйте! – снова приказала ангел с бумажками, дёргая меня за руку, в то время как вторая ангел наклонилась, чтобы подставить урну, а третья ангел произнесла хриплым пропитым басом:
– Поздравляю с днем выборов!
Не могу передать, какое меня охватило отчаяние. Поразительно, как я не умерла на месте от резкой боли в сердце, от беспомощности, от обиды, от ненависти. Но тут внезапно, как в свете молнии, я увидела, что судьба дарит мне, быть может, единственный в жизни шанс поменять простыню. И меня захлестнула и понесла волна гражданского мужества.
– Не буду голосовать! – сказала я твердо. – Перестелите постель, поменяйте рубашку, принесите лекарства от боли в сердце – тогда, может быть, поговорим!
– Голосуйте! – снова рявкнула старшая медсестра. – Вы что, с ума сошли?
Согласитесь, довольно нелепый вопрос, обращенный к больному менингитом. На это я ей и указала.
– Поменяйте белье, – сказала я устало и закрыла глаза, давая понять, что вопрос исчерпан и аудиенция окончена.
Они еще немного постояли надо мной, потом повернулись к соседней койке. В глазах милой моей новой соседки ясно читался ужас от того немыслимого, чему она стала невольной свидетельницей: человек в Советском Союзе отказался голосовать!!!
Соседка послушно бросила свои бюллетени в урну, и ведьмы покинули поле сражения. Следует признать, что бой был мною проигран вчистую: простыни мне так и не поменяли, к тому же не сомневаюсь, что в коридоре ведьмы бросили в урну мои бюллетени. И всё-таки поражение моё не было сокрушительным: меня грело сознание, что даже в менингите я не замарала своих рук вонючими бюллетенями и не приняла участия в этом фарсе – как не принимала его и прежде, в здравом уме и твердой памяти.
Ворохобов
Соседка вернулась с новостью: в коридоре стелют красный ковер, кого-то ждут. Сбегала уточнить: ждали Ворохобова, большую шишку, то ли зав отделом ЦК по медицине, то ли замминистра. Примчалась взмыленная старшая медсестра: немедленно навести порядок в палате! Вещи – в тумбочку, судно – под кровать!
– Обязательно, – сказала я, – так и поступим. А в придачу я откину одеяло – пусть гражданин начальник полюбуется на мою подушку и простыню.
И не поверите: через несколько минут явились санитары с носилками и медсестра с чистым бельем, и вот уже я лежу, как невеста, на хрустящей простыне, благоухая свежепостиранной рубашкой!
Надо ли вам объяснять, что Ворохобов не приехал!
Чистая простыня оказала магическое действие, и с этого дня я уверенно пошла на поправку.
Восьмое марта
Восьмое марта в нашей семье – особый день. Было бы, пожалуй, неправдой отрицать его причастность к всенародному празднику, потому что в тот далекий год, о котором пойдет речь, к двум недавно объявленным выходным дням примкнул третий – 8 Марта. Познакомившись с Володей перед тем за неделю, мы провели эти три дня вместе, и они обернулись почти сорока годами… Володя любит повторять, что его сгубила пятидневка. События тех дней я описала в единственных своих лирических стихах:
- Какое, право, наслажденье
- Отметить день грехопаденья,
- Когда за рыжую косу
- Он полюбил меня в лесу
- И в страсти бурной, как в ознобе,
- Готов был тут же пасть в сугробе.
- Но в нем прочтя свою судьбу,
- Я увела его в избу,
- Где он меня, скажу без лести,
- Весьма лишил девичьей чести,
- Которой, если вспомнить строго,
- и оставалось-то немного!
- С тех пор до гробовой доски
- Попала я в его тиски.
- Но так прекрасна эта клетка,
- Что я о том жалею редко.
В этих стихах всё – чистая правда. В том году папа достал мне путевку в Дом творчества архитекторов в Суханове. Это бывшее имение князей Волконских, спасенное архитекторами от разорения. В моей комнате даже висела табличка, что именно здесь останавливался Лев Николаевич Толстой, приезжая к Волконским в гости. В Суханове я была впервые, окрестностей не знала и, бродя на лыжах по лесу, неожиданно вышла на высокую крутую гору. Виляя коленками, по ней катили горнолыжники, а по проложенной рядом лыжне неслись вниз сломя голову сумасшедшие мальчишки. Я и в мыслях не имела следовать за этими самоубийцами, просто наслаждалась мартовским солнцем да удивлялась горнолыжникам, которых видела впервые в жизни. И тут рядом со мной вдруг возник высокий красивый человек с интеллигентным лицом; на вид ему было лет тридцать. Человек вступил со мной в беседу:
– У вас лыжи намазаны?
– Нет.
– Тогда вам ни в коем случае нельзя ехать с этой горы: здесь раскатывает, а внизу подтаяло и тормозит. Разобьетесь.
Я хотела было ему объяснить, что не настолько уж я псих, чтобы так рисковать своей головой, но почему-то не стала. Человек стоял и смотрел на меня и явно искал повода продолжить диалог, и так же явно его не находил, и мне показалось, что он в конце концов махнул рукой и сейчас уедет. Высокий, красивый, с интеллигентным лицом. И тогда я встала на лыжню, закрыла от ужаса глаза и сиганула вниз.
Все было, как он и предсказал. Вверху разнесло, внизу притормозило. Выкапывая мою голову из пробитого ею наста, Володя приговаривал нараспев:
– Я же вас предупреждал!
Когда теперь, бывает, он упрекает меня в безрассудстве и авантюризме, я напоминаю:
– Ты все знал с первой минуты!
Версии того, что произошло дальше, у нас расходятся. Володя утверждает, что, выкопав меня из наста и поставив на ноги, бросился наутек, а я помчалась за ним. Версия сомнительная и не выдерживает критики: у него был первый разряд по лыжам, а я была сильно травмирована в разных местах и едва держалась на ногах, так что если он и удирал, то, стараясь, чтобы я не отстала. На самом деле он проводил меня до архитекторов, а на другой день, в воскресенье, пришел справиться, как я себя чувствую. Потом у него была рабочая неделя, за которой, как уже сказано, наступило восьмое марта. К этому моменту я твердо знала, что если он не придет, жизнь моя будет навеки погублена. Но он пришел и целый день водил меня по лесу, а к вечеру, когда я уже совсем выбилась из сил, мы вышли к какому-то поселку.
– Скажите-ка, какая неожиданность, – сказал Володя, – моя хата!
Мы зашли. На столе в стакане стоял букетик ландышей, бутылка вина и лежала плитка шоколада. Было очевидно, что маршрут нашего сегодняшнего путешествия был Володей глубоко продуман.
Так это началось.
Через несколько лет мы поженились официально, но отмечаем, конечно, не день регистрации, а восьмое марта. К этому дню я обычно сочиняла какие-нибудь смешные стишки.
Но полтора десятилетия спустя я оказалась восьмого марта прикованной к постели по существенно менее романтическому поводу. Было безумно обидно. Чтобы не нарушать традицию, я решила сочинить стишки. Стишки получились такие.
- Вы решили, что палата здесь больничная —
- Мысль простая, но не слишком симпатичная.
- А у нас внутри – банкетный зал,
- Соки, фрукты, панангин и люминал.
- Две чаровницы вас ждут уже в халатах,
- Пеньюары их в печатях и заплатах.
- Их не надо очень долго умолять —
- Сами лягут, и охотно, на кровать.
- Где найдете столько силы и азарта?!
- Проводите только здесь 8 Марта!
Милой моей соседке так понравились стишки, что она их немедленно под диктовку записала и прилепила пластырем снаружи на дверь. И на этот призыв к нам в палату потянулись нейрохирургические больные – с перевязанными головами, с лысыми черепами, на костылях, на ходунках. Стало душно, шумно и весело. Малину эту разогнал дежурный врач. Он приказал снять стихи с двери, но вскоре вернулся и сказал заговорщически:
– У моей сестры день рождения. Я иду к ней после дежурства. Вы бы не могли написать ей стихи?
Я написала. Весть о моем «поэтическом даре» быстро облетела Боткинскую больницу, и вскоре ко мне потянулись с заказами врачи других отделений. В виде гонорара они заглядывали мне в ухо, горло, нос, в глаза и всюду, где положено, так что я была медицински обслужена по высшему разряду. Я же, со своей стороны, лежа в менингите, изрядно отточила свое поэтическое мастерство.
Это стало частью теста, который, с тех пор как я пришла в себя, занимал все мое время и внимание: я пыталась выяснить, что унес с собой менингит. Одна потеря обнаружилась сразу: исчезла фотографическая память, которую я раньше нещадно эксплуатировала по линии истории, географии, литературы. На их месте остался чистый лист, который мне предстояло заполнять вновь с нуля. Интересно, что совершенно не пострадали стихи, которых я знала великое множество – очевидно, в мгновенном их запоминании участвовала другая – не фотографическая, а эмоциональная память. Сохранились и профессиональные логические навыки, и, глядя в потолок, я сочиняла и решала в уме нехитрые кинетические схемы.
Из потерь самой неприятной, пожалуй, оказалось разрушение связи между знакомым лицом и именем, более того – личностью человека, которому лицо принадлежит. Из-за этой потери я постоянно попадаю в страшно неловкие ситуации. Дорогие, не обижайтесь: всё-таки у меня был – менингит!
На поправку
Наступил день, когда Пумырзин подтянул меня к спинке кровати, посадил и отпустил. Голова моя болталась из стороны в сторону, как у кошерно зарезанной курицы, и бессильно падала на то, что когда-то было грудью; я валилась и валилась в сторону, а Пумырзин сажал меня снова, орал: «Держать голову! Держать голову!» – и предательски отпускал. Сжав зубы, я старалась изо всех сил и в конце концов несколько секунд просидела с поднятой головой. Дома по этому случаю был банкет с водкой. Друзья рассказывали потом, как, отравленные стереотипами, они вздрогнули, когда ликующая Вика сообщила им по телефону: «Маму сегодня посадили!»