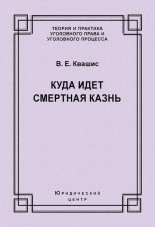Небо цвета крови Попов Сергей

— От аккумулятора и воздушного фильтра паленым запашком несет, — для наглядности стукнул по ним костяшкой указательного пальца, обернулся на Курта: — Немудрено, что больше не работает — там и работать-то нечему, судя по всему. Удивительно, как он вообще не взорвался…
Не в полной мере доверяя словам Дина, Курт забрал с полки старенький серебристый, работающий через раз фонарик и, хлопнув по ладони, выбивая белоснежный электрический конус света, самочинно осмотрел бензиновый генератор. Но уже на исходе следующей минуты понял, что напарник оказался невероятно точен в своем поспешном выводе — в нос билось острое удушающее, как от пожарища, зловоние.
«Отмучился, выходит… — крутилась на уме единственная версия, а после распрощался, как с чем-то одушевленным: — Ну, выходит, расставаться будем? Прощай тогда… Спасибо тебе: послужил ты хорошо, столько зим нас грел и давал электричество…»
И уже голосом, положив руку на мятую, неровно выпрямленную раму:
— Новый брать надо теперь, а ты говоришь, охота… — помассировал вспотевшую шею, — …какая тут теперь, нахрен, охота… до нее ли сейчас? Да и я тоже хорош, блин: «дел на две минуты» — ага, как же…
Дин грузно выдохнул, пригладил волосы, нахмурился.
— Какие твои предложения? Чего делать-то будем? Надо же Джин сказать… — боязливым низким голосом загудел он, поднялся, по-хозяйски подбоченился. Одну ногу выставил вперед, вторую поставил на мысок, скрипнув кожей растоптанного ботинка.
— Джин само собой надо сообщить… — переждав драматическую паузу, изрек Курт, скривил рот, повернулся к Дину — тот глядел на него ожидающе, неподвижно, щемил глаза, — а вообще, руки в ноги — и надо срочно идти в Грим за новым. И чем быстрее — тем лучше. Желательно выйти уже до обеда. Бог даст, если быстро управимся, вернемся в пятницу ближе к вечеру, — призадумался, дополнил: — Самое главное нам с тобой ночлеги надежные подыскивать, когда обратно нашу покупку везти будем, а то — тьфу-тьфу! — дождь зарядит и будет нам радость. К тому же от зверей теперь прятаться предстоит, ухо все время востро держать. Ну и плюсом — бродяги, а ты сам знаешь, что за этот кусок железа на колесиках они могут сделать с простыми обывателями вроде нас…
— В курсе, — кивнул напарник, чуть наклонил голову, втыкая во влажный пол потухший взгляд. Но потом, собравшись, — повернулся, взглянул на Курта исподлобья и сказал строго, рассудительно: — Только на что мы его брать-то с тобой будем? Вещей на обмен лишних у нас нет, денег — тоже… Продукты последние нести, добытые потом и кровью? Или как? За «спасибо» нам его никто не отдаст. Как тогда? Не понимаю…
Курт долго и проницательно смотрел на Дина, кусал нижнюю губу, потом заговорил мглисто:
— Пойдем покурим, — затем продолжил: — Там и обговорим все.
Поднялись, внапашку набросили плащи, вышли, закурили.
Бордовое свободное от облаков небо, нагретое солнцем, горело насыщенно и жарко, жгло глаза. По нему высоко, важно и нахохленно плыли одинокие галочки костоглотов, выдавливая из себя сиплый сонорный клич. Вдалеке обозревались хорошо заметные обрисовки развалин, бедновато затравеневшие луга, полностью облысевшие от дождей холмики, пригорки. На краю канав, затененных широковетвистыми деревьями, одолеваемая неистребимым желанием жить, тянулась ввысь парочка карликовых кустарничков. Кропотливо укутывались в зеленовато-угольные мхи поковерканные столбы. Ветер тихонько пел, всюду носил за собой солено-кисловатый привкус тления, утюжил выдыхавшиеся подсушенные изумрудные лужи. Странное и одновременно смутное спокойствие поселилось в окрестностях, накрыло их как шапкой, выдавая за истину фальшивую картинку безмятежности, искусно сотканное ложное ощущение безопасности.
Ка-а-р… Ка-р-р-р…
После третьей затяжки, морщась от терпкого дыма, Курт, наконец, поведал то, что по каким-то своим соображениям не решился озвучить в кладовке:
— Деньги у меня есть. Огромная сумма. Очень. Такие суммы ни мне, ни тебе не виделись даже во сне… — докурил, кинул под подошву окурок, засмолил второй, — …в сарае лежат, спрятанные в одной из бочек. Поначалу брал оттуда, отоваривался в Гриме, и всегда у разных торгашей, по возможности расплачиваясь маленькими затертыми купюрами, чтобы не было подозрений. А потом опасно стало — начали много интересоваться, подолгу разглядывать деньги, взгляды кривые кидать. Один раз даже охрана спохватилась, долго по пятам шла с оружием… — наморщил лоб, окунаясь в полустертое воспоминание. С минуту мучил безмолвием, потом продолжил тихо, страшно, беспокойно почесывая правую щечку, будто внутренне боролся с собой, ни в чем не хотел признаваться: — Я их у развилки подождал, а уже темнеть начинало… зима все-таки, ветер поднимался холодный… — опять помолчал, сбил пепел, отвисший на краешке сигареты, — ну, слово за слово, так и сяк — двоих в расход, в общем. Ничего брать, конечно, не стал — рискованно, тела в овраг сбросил, снегом прикрыл, чтобы неприметно было, скрыл следы.
Дин, не прерывая, все слушал, курил, пропадал в утлом табачном дыму, а глаза мрачнели, наполнялись тяжестью, изумлением — ломало изнутри раскрываемое перед ним признание, незнание того, как на все это реагировать.
— И… что потом?.. — сплюнув окурок, опешенно сронил он, тоже вынул следующую сигарету, прикурил с третьей попытки. Руки потрясывались, голос подводил, тонул в глотке. — Что было дальше?..
— Что-что… домой пошел. А мог вообще не прийти. Ради всего того, чего я накупил тогда в Гриме, меня обчистить захотел бы любой, даже самый миролюбивый с виду попутчик, — возобновил рассказ Курт, понемногу вскипая от ненужного допроса, повернул голову — напарник смотрел холодно, отчужденно, как на незнакомца. Догадавшись, что в нем зреют какие-то перемены, — спросил прямо, сузив губы: — Что ты так смотришь на меня? Презираешь насилие? Ах, да… ты же у нас пацифист, черт тебя дери, а мне что делать надо было? Отдать все? Голым остаться? А семья чем жила бы? Святым духом? Божьим словом, а? Скажи?.. Нет, ты скажи, не отворачивайся…
Подошел, выплевывая сигарету, взял Дина за грудки, выбив изо рта недокуренный бычок, и прибавил, брызгаясь слюнями, как бешеный:
— Нет, скажи!.. Я плохой теперь, да?! Людей же убил! А ты сам?.. Сам-то?.. — слова вылетали с языка пулями, но разили не насмерть, а вхолостую, быстро слипались в бессвязный набор жарких восклицаний и вопросов. Дин, утираясь от сухих слюней, вовсе не боялся слышать разгневанного друга, напротив — филантропически жалел в нем эти неосознанные порывы. Даже вырваться не старался — просто стоял, видя перед собой уже не взрослого мужчину, мужа и отца, а скорее оправдывающегося, разбитого обидой мальчишку: то же поведение, поток разрушительных эмоций. А тот все не унимался, плевался обвинениями, старательно выискивая больное место: — Что ты смотришь так?.. А в детском саду!.. А?.. Чей труп там лежал?! Кто его завалил там, а?.. Не ты ли? Нет? Не ты ли, спрашиваю?.. — весь в ярости очертил над головой нимб. — Ты же святой у нас! Заслужил, носи — не снимай! Любимчик бога! Апостол!..
Не вытерпев, Дин отпихнул рассвирепевшего Курта, рубанул сплеча:
— Не путай, Курт: я в людей стрелял, чтобы себя защитить, а ты… — договаривать не захотел, отвернулся. Потом, помолчав, все же решил закончить: — А ты бездумно, как клопов, как вшу какую-то… не раскусив толком намерений, — и дальше: — И бога сюда не вплетай, не надо — грех. Он здесь ни при чем! ТЫ кровью руки мажешь, а не ОН. Потом еще удивляешься, почему бог тебе не отвечает. А действительно — почему же?! Ты сам виноват, Курт. Зверь ты… зверем и помрешь…
Замолчали, враждебно смотрели друг на друга, как кобели, жали кулаки, скрежетали зубами.
Заговорили нескоро. На примирение первым пошел Курт. Сняв с лица гримасу злобы — устало подышал, словно все это время таскал мешки, исторг:
— Можешь меня за это ненавидеть, друг мой хороший, но я не считаю себя виноватым, хоть ты тресни. Не считаю — и все! У меня не было времени, чтобы, как ты говоришь, «раскусить их намерений»… на меня два ствола смотрело. Ты понимаешь это или нет? Два ствола! ДВА! Очередями бы дали — и нет у Клер больше папки, а у Джин — мужа. Рисковать прикажешь? Семью под корень подводить? Разговоры разговаривать? О чем ты, Дин?.. Ты что, в сказке, что ли, живешь до сих пор или забыл, в каком мире находишься? — угрюмо, сдержанно улыбнулся и с осуждением: — Вряд ли ты бы стал с ними о чем-то договариваться, когда на кону твоя жизнь и жизни твоих родных. Еще судишь меня тут…
Дин не полез за словом в карман:
— Я не арбитр, чтоб судить… — наморщился, — все равно, как мне кажется, можно было обойтись без лишних жертв.
— Это тебе так кажется. Тебя там не было, я тебя вообще на тот момент не знал… — окрысился Курт, — и не надо языком чесать не по делу. Здесь мы друг друга никогда не поймем — разными глазами смотрим на все…
Умолкли оба. Несколько минут простояли, не разговаривая.
— Поведаешь хоть, откуда у тебя деньги такие?.. — вдруг поинтересовался Дин, прикрыл один глаз, точно целился. Сам откинул голову, рассматривал небо. То кровоточило, полыхало. — Или не станешь?
Курт шельмовато усмехнулся, но ответил, правда несколько облачно:
— Это по дороге. Заодно будет тема для общения, — затем подступился, какое-то мгновение мялся, извинительно разглядывал налитое открытой неприязнью лицо, потом осмелел и сунул руку. Дин посмотрел на нее с какой-то тоской, потом ударил по тому глазами, все же пожал, но без удовольствия, произнес:
— Ладно, так уж и быть, закрою на все глаза, хотя ты и не заслуживаешь этого… — подчеркнул: — Наверно, — и добавил вопросительно: — Джин-то знает?.. — поправился: — Про деньги, в смысле?
— Знает. Про них знает, но разговор на этот счет с ней не завожу — боится она. Боится, что за ними однажды придут… — пояснил тот, — вот и приходится втайне их брать. А как жить-то? Мало ли что…
— Ну, а если спросит, на что будем новый генератор покупать, что ответим?
— Скажем, что автомат один продадим с магазинами и пулеметные ленты. Нам-то они на что? Крупнокалиберного оружия в доме все равно нет, — отбился Курт и прибавил заговорщицки: — А мы их с собой и так и так возьмем — для отвода глаз, а заодно — на всякий пожарный случай: может, продадим за хорошую сумму, и к тем деньгам не надо будет обращаться. Заодно купим тебе противогаз, раз повод представился.
— Хитришь, значит, — с долгожданной для того улыбкой подметил Дин, и от уголков глаз к вискам потянулись расщепы радостных морщин.
— Приходится, а что поделаешь-то?
— Как действовать будем? — вновь закуривая, поднял вопрос тот.
— Сейчас Джин скажем, что в Грим идем за новым генератором, потом я незаметно заберу деньги, соберемся и где-то через часик отчаливаем, — наметил ход действий Курт, кидая в напарника опасливые взгляды, будто чего-то ожидал, — нормально?
— А чего ж нет-то? Конечно, нормально — поваляться даже успею! — заливистым смешком отозвался Дин и, дососав сигарету, протрубил сипло, с басом: — Ну, пошли тогда говорить, что ли?
И направились к теплице, откуда вылетали тихие разговоры и звонкий хохот.
На ночевку общим мнением решили остаться в четвертом, полностью обворованном товарном вагоне поезда дальнего следования, что прервался на затяжную, растянувшуюся более чем на десять лет остановку по «техническим причинам» всего-то в тридцати минутах от пригородной платформы Хайтвэлли. Или же, если не полениться и вспомнить элементарный устный счет начальной школы, как это достаточно часто делают ради хоть какого-то развлечения и коротания времени не раз идущие таковым маршрутом собиратели и охотники, — ровно одна тысяча четыреста пятьдесят шесть шпал. И всякий, кто проходил этой дорожкой к Гриму — к слову сказать, самой безопасной из всего изобилия имеющихся троп, — в благодарность за кров клал возле последней, шестой, какой-нибудь дар. Да пусть даже пустяк — камешек, монетку там, крышечку от газировки, патрон. Некоторые, особенно признательные, бывало, расщедривались на консервы и воду, выцарапывали на рельсах свои имена, пожелания и напутствия другим постояльцам. Так вот и закрепился за этим местом в народе негласный обычай, ритуал, пока еще никем не нарушающийся, потому что свято и истово верили: уйдешь, не сказав «спасибо» — и больше здесь уже никогда не пройдешь. В любом случае храбрецов, отважившихся на такое вероломное кощунство, еще не находилось ни среди простых вольных путников, ни в бандитском стане, как известно не считающимся ни с какими моральными устоями, ни в обществе «Варанов» — те в особенности не скупились на языческие подношения, насыпали горы гильз, точно золота.
Помимо всего прочего, в рассказах многих странников фигурировали случаи встреч с так называемой «провожатой» — одинокой безглазой старушкой, машущей вслед мертвому составу. Однако очевидцев, всецело глаголющих: «Видел своими собственными глазами, как тебя сейчас перед собой!» — не объявилось ни одного. Да, в общем-то, оно и неудивительно: мастеров на пустой треп в округах немало, а выдумщиков, кому чудится разная чертовщина, — еще больше. Следует вдобавок упомянуть о невероятном фольклорном обилии прозвищ, посвященных этому всеобщему убежищу. «Счастливая тысяча», «Дорога 14/56», «Железная долина», «Проход удачи» — вот тот малый список, крутящийся на языке едва ли ни у каждого человека в Истлевших Землях. А родное название — Вествильская железная дорога, соединяющая, собственно, сам Вествиль — незаселенный город далеко на юге — и Нелем — логово фракции «Бесы», — медленно, но верно вымывалось из памяти людей, слышалось отныне все реже и как-то вскользь…
Спали урывками, оружия из рук не выпускали. Поочередно заступали в караул. Ночь стояла дикая, глухая, непроглядная — хоть глаз выколи. Было по-осеннему знобко, пугающе безголосо. Где-то в слабом шорохе ветра с трудом распознавался монотонный шелест и зловещий перестук закостеневших ветвей разлапистых деревьев, пригашенный набат татакающих по оплавленным рельсам, словно пулеметы, камней, немо шебаршила галька. Часто устаивалась бедная на звуки тишь, как будто какая-то мистическая сила, желая потешиться, заливала уши воском, лишала слуха. Но уже в следующий миг ее растерзывал бесноватый неумолкаемый лай потрошителей, рокочущий за оврагами, и тут же оборванным припевом на него откликались другие, шныряющие неподалеку от станции Хайтвэлли.
Гав-ав!.. А-в-в… гав-в-в… ав!
«Перекликаются, спрашивают друг у друга, где можно без опаски ходить и искать пищу. Умные они, чертовски умные, людям у них учиться и учиться… — понимающе и с уважением расценил я. — Значит, не туфта это все… зверье вернулось. Насиделось в пещерах и подвалах, измучилось, сумело-таки уцелеть…»
Поправил омытую чужим потом картонную подстилку, подлил в крышку чая из термоса, заваренного нам в дорогу Джин, отпил, крякнул, взглянул на напарника: тот, завернутый в плащ, по-детски сопя, храпел с ружьем в обнимку на пенопластовой подложке в глубине вагона, елозил головой по рюкзаку-подушке, в беспамятстве чесался, как блохастая собака.
— Вот кому позавидовать-то надо, — и следом без какой-либо корысти в голосе: — Едва голову где-нибудь приклонит — спит без задних ног, десятый сон видит, точно безгрешное дитя, — удобнее обустроился на животе, крепче прижимая к плечу приклад винтовки. Лай вскоре перемежевался с воем, рокотал звонче, ручьисто. Хрупкое безмолвие, проигрывая им с разгромом, поднималось выше, шло, расшевеленное, по ночному сырому воздуху, резонировало неохотно и заторможенно. — У меня так не получается уже давно, а если и засну крепко — боль в ноге, зараза, возвращается, сводит до горячих слез…
Ав-в-в… Р-р-р!!.
Залпом выдул весь крепкий чай, скривившись от ломоты в зубах, без суеты опустил на глаза немалый по размерам, найденный еще давно, у Кипящего Озера, в рюкзаке База, ПНВ с новыми батарейками, включил, всматриваясь сквозь разъезженные дверные створки. Темень, обступившая окружающее пространство, одномоментно сдвинулась куда-то круто вперед, заменилась тусклым смарагдовым цветом, приоткрывающим хоть и размытые, но вполне себе различимые обрисовки местности. Небо чудесным образом омылось темно-пурпурным оттенком, загустело, каракули наваристых облаков — и вовсе посинели, будто от холода, примерзли к одному месту. Ровный позумент горизонта ближе к востоку уже разгорался, сочился, наполнялся живицей — там, за долгой чередой рассыпавшихся по воле времени домов и сооружений, как эдемский плод, вызревал новый день, вбирал энергию еще не показавшегося людям солнца.
«Смешно самому себе признаваться, конечно, но такую красоту за свою прожитую переломанную жизнь еще не видел ни разу, — щелкнуло в уме, — всего навидался, чего только не нагляделся, а вот такого вот — нет, не доводилось. Обходит меня почему-то изящество земное стороной, одну только грязь мне являет да мерзость, от какой уже нутро все очерствело. А теперь вот решило, стало быть, порадовать, побаловать… через столько-то лет… — и тут же: — Отчего это вдруг? Чем заслужил, спрашивается?.. Или так… авансом расплатилось передо мной — мол, все равно скоро предстоит в ящичек сыграть…»
Хорошо слышное шелестение травы поблизости справа метлой вымело все фатальные мысли, затягивая назад, в жестокое настоящее, ошпарило потом спину и лицо, сдавило сердце до удушливого стона. Следом, утопая в ворчливом пыхтении и фырканье, болезненно зашуршала зернистая галька, осыпанная вдоль рельс, напряженно и сочно сломалась парочка-другая веток, с хрипом, рыча, зашумело вразброд дыхание около шести пастей — потрошители, избитые бичами голодомора, уловив наше тепло, запах плоти, расслышав храп, поднялись к железной дороге, опьяненные желанием скорейшего насыщения.
«Все-таки выведали, где мы есть… — опередила мысль, — еще с полминуты — и к вагону подойдут, а там, глядишь, и остальные сородичи подтянутся. Надо срочно будить Дина…»
И, вскочив лягушкой, прокравшись к двери, шепотом, но как можно слышнее позвал напарника:
— Дин!.. Ди-и-н!!. П-с-с!.. — Так и не получив ответа, вгляделся: напарник, посылая в меня заливистый сап, блаженно чмокал в беспамятстве губами, будто соской, безуспешно надрывался хрустнуть суставом большого пальца, никак не поддающегося на его хотение. Беззвучно сплюнув — мысленно отругал: «Говорил же, черт, не доводи себя до глубокого сна! В дреме оставайся! А если чувствуешь, что сейчас забудешься — лучше вообще глаз не закрывай! Просил же по-хорошему!.. Как человека просил! А он взял — и уснул! Да еще и сопит на весь вагон, как сытый поросенок!.. Беда…» — утайкой высунулся, огляделся: группа потрошителей, нюхая рельсы и шпалы, где мы однажды проходили, неукоснительно шла по направлению к четвертому вагону. — И стрелять-то как сейчас?.. Ну, раз пальну — а дальше? Пока целиться буду — сто раз задрать успеют. Они же ведь тоже не бараны на убое: стоять и ждать, пока по ним попадут, — не будут, увертливые все, засранцы, бегают. Тут бы, конечно, автоматом хорошо… очередью — вжик! — и все. Взять, может, а?.. Хоть прихватить с собой додумались…
Но волки передвигались очень быстро, рысью, по цепочке, часто разъединяли звенья: попасть в них даже из автомата — задача непростая и для опытного штурмовика. К тому же само оружие: довериться ему сейчас, когда оно пристреливалось в последний раз больше месяца назад, — неправильная и неразумная затея, граничащая с самоубийством — подвижные части при долгом бездействии, несомненно, обросли маслянистыми тромбами и грозили обязательным заклиниванием. Плюсом калибр, не вполне годящийся для боя волков, — другими словами, ничему путевому из такой стрельбы получиться не светит.
— Нет, не вариант, — пришел я к однозначному выводу, — тут надо их или отпугнуть как-то, или створки запирать, вот только без напарника здесь никак — руки все переломаю…
Не медля, внутренне поторапливая самого себя, кинулся к Дину. Теребя за плечо, будто какого-то подвыпившего проходимца, — начал будить, проговаривая:
— Проснись, Дин!.. Волки рядом!.. Не слышишь, что ли, горе-охотник?.. — Потом, одним ухом улавливая ближе подступающий рык потрошителей, — с удвоенной силой, яростью, затряс, чуть ли не крича: — Дин!!. Черт тебя возьми!!. Очнись уже, блин…
С десятого раза, но все же получилось растрясти — тот спросонья дернулся как ошпаренный, отмахнулся и, по-черепашьи отпрянув назад, — ткнул мне в живот дуло ружья. Чуть оклемавшись — заморгал, признавая, с облегчением дыхнул через нос, виновато улыбнулся, отставил оружие. В ночном видении глаза не по-настоящему истлели, залились черным глянцем, зрачки, почти не различимые, искорками носились по ним, излучали снежный отблеск. Просторный ворот плаща оттенял лицо, подчеркивал неестественную бледность щек, а капюшон, прикрывающий придавленные волосы, старил, туманил чернью веки, лоб. Сам весь потрясывался, отчего-то поджимал правую ногу, точно приготовился к прыжку с места, но не совсем понимал зачем.
Досыта наглядевшись на меня, напарник по-дедовски ссутулился, прислушиваясь к волчьему рычанию, заговорил трезво, заполошно, расстреливая вопросами:
— Близко совсем! Сколько их, Курт?.. Много? Считал? Видел?.. Отбиться успеем? — басовитый голос то затихал, то ломался, выдавал нотки животного страха, беспочвенной злости. — Как думаешь, Курт?.. А?.. — и вдруг поменял тактику, начал не к месту извиняться, искать оправдание: — Прости, я не удержался, заснул… Получилось так, извини…
— Ладно, что уж… — недовольно обронил я, выдавил холодную улыбку, — дело сделано. — Потом продолжил: — От волков отстреляться не получится, друг, — просто-напросто не успеем, поэтому давай-ка поднимайся и шуруй к двери — будем пытаться закрыться от них, пока еще не поздно.
Не вставив ни слова против, Дин поднялся и — стремглав к проему, откуда вылетал редкий сухой лай, цокот когтей.
«Дай бог получится, — подумал я, — другого раза не будет…»
Потом метнулся к рюкзаку, положил рядом винтовку, захватил автомат, убрал с предохранителя и встал слева от двери, разглядывая обрюзглую, распоротую чужими клыками морду одноухого волка, идущего впереди всех. Брел уверенно, подкрадываясь, напоминая лисицу, собирающуюся влезть в чужой курятник, пока хозяева заняты крепким сном, только, в отличие от нее, потрошителя интересовала не пернатая закуска, а человеческое мясо. Глазища размером с солидную пуговицу полыхали ультрамариновым порочным светом, глядели на все пугливо, бегло, по-заячьи, короткошерстая грудина с глубокими залысинами низко опустилась к земле, являя абрисы костей, мозглявые растопыренные и безволосые передние лапы при каждом шаге отталкивающе и нелицеприятно дрыгались. Те, что следовали за ним, помахивая куцыми хвостами, стучали клыками, поскуливали, разами грызлись между собой, но свергать действующего лидера желания не изъявляли — доверялись, знали, что никто, кроме него, не сможет обеспечить стаю достаточным пропитанием, взвалить на свои хрупкие спины такую ответственную ношу.
— Вот тебе и охота… — буркнул под нос и — Дину: — Попробуй-ка сдвинуть правую створку! Получится?
Дин с натугой, мыча, как бык на водопое, подергал, еще — безрезультатно: та побилась роликами по дверному рельсу и — застопорилась, наотрез отказываясь сдвигаться.
Плюнув — хлопнул своей медвежьей ладонью, вышибая притушенный звон, чертыхнулся и негодующе процедил:
— Вот же дьявол, а?.. Как вкопанная встала, зараза, — ни вперед, ни назад не хочет! — потом прибавил, не меняя лютующего тона: — Видать, кислота ее замучила, все же немножко умудрилась погрызть. Вагоны хоть и прочные, из качественного нержавеющего металла сложены, но годами принимать на себя удары ядовитых ливней тоже не могут, вот и дают слабину. Да еще и не смазывает никто…
Дослушав, я обреченно дыхнул, прошелся одним глазом по подходящим волкам и ответил:
— Сейчас тогда вместе будем пробовать… — повесил автомат на плечо, встал возле напарника, хватаясь за ручку. — На раз…
С ором, колью в мышцах, умываясь соленым потом, толкнули — створка, гремя, послушно пошла влево, наполовину закрыла вагон. Обрадовавшись, отряхивая руки от ржавчины — взялись за вторую, однако предпринять что-либо не хватило каких-то секунд — громыхнул разноликий вой, и волки, привлеченные грохотом, в слюнях, черными пятнами потекли к нам со страшной скоростью.
У-у-у!!. Р-р-р…
«Вспугнули…» — схватила за горло первая мысль и — к напарнику:
— Живее дергай!.. Сильнее… ну… давай же… еще…
Как мы ни пыхтели, ни матерились и ни крыли белый свет — створка категорически не желала подчиняться, упорно стояла на своем, как припаянная, награждая за тщетные труды только сдавленным скрежетом да дробным скрипом. Чтобы выдернуть ее на середину, требовалась сила еще как минимум шестерых человек, и то это, наверно, показалось бы недостаточным — уж очень цепко засела.
И здесь Дин выступил с неожиданным заявлением:
— Я, кажется, понял, почему мы ее сдвинуть-то не можем! Она с той стороны наверняка закреплена! Знаешь, чем-то вроде крупного шпингалета или засова! — А следом продолжил: — Надо срочно глянуть!
— Понял, — сунул автомат, — держи, прикроешь. Только смотри: осечку дать может — давно не стреляли из него.
— Курт!.. Стой!.. Я… как…
Не дав договорить — спрыгнул, с парализующим спокойствием скосился на потрошителей — они подбегали все ближе, щелкали акульими пастями, показывая гнилые десны и наточенные зубы-стилеты.
«Секунд двадцать у меня, — отвел себе время, — провожусь дольше — мне конец…»
То, что имел в виду Дин, нашлось быстро — толстый литой запор на самом краешке, намертво блокирующий движение дверной створки. Служил он скорее для облегчения загрузки вагона товарами, дабы предотвратить непреднамеренное захлопывание.
— Попробуем… — А затем резво ухватился, превозмогая невероятное жжение от содранных мозолей, повел вверх и вправо. Тот, к радости, подчинился легче, многообещающе щелкнул. — Получилось!..
Пчелами вжикнули две короткие очереди, звонкоголосый волчий вой, трубящий над округой, захлебнулся, поменялся на жалобное взвизгивание. Посыпалась галька. Оглянувшись — остолбенел: Дин из положения сидя вел прицельный огонь по волкам, не подпуская к вагону. Один из потрошителей — по-видимому, возглавляющий нашествие, — смертельно задетый пулями, поджав лапы, лежал у рельсов с вытянутым языком, устало уронил голову. Совершенно никак не ожидающие такого сильного отпора, оставшиеся волки засуетились, закружились, бесцельно и разрозненно забегали друг за дружкой, уподобляясь слепым котятам.
«Ай да Дин! Вот молодец! — запело в голове. — Как он их быстро в чувство-то привел! Да и с автоматом, смотрю, язык-то быстро нашел!»
— Ну, ч-ч-что там?!. Порядок??. — поплясывающим от перевозбуждения голосом, заикаясь, окрикнул Дин. — Разобрался?.. — не вытерпел, подогрел ошарашенную группу следующей парочкой выстрелов. Белые росчерки пуль, задавленные глушителем, вылетели молча, невероятно метко вспороли почву в полушаге от задней лапы невысокого высушенного, точно мумия, волка, сыпанулись черным снопом. Но уже на третьем надавливании на спусковую скобу автомат глуховато клацнул и замолчал, отказывая стрелку. Поменявшись лицом — заторопил: — Отвоевался я — заклинил автоматик! Надеюсь, ты закончил там, Курт! Я их уже не сдержу!!.
«Как знал прямо, что подведет», — вспомнилось мне, а потом напарнику:
— Порядок, Дин, тяни ее!
Ау-у-у…
Полетел к двери, намереваясь опередить потрошителей. Волки, получившие шанс на контрнаступление, воспользовались им в полной мере, с удвоенной прытью бросились к нам, жаждая любой ценой вцепиться в сопрелые отпотевшие глотки.
— Руку!! — крикнул Дин, помог подняться. — Сдвигаем!..
Но едва, наваливаясь телами на дверную ручку, сдвинули створку до самого конца, первый, самый усердный потрошитель изволочился-таки засунуть голову в образовавшийся проем и, распаленно хватая воздух вытянутой, хмельно пахнущей гнилью пастью, задумал пропихиваться вовнутрь. Через мгновение подтянулись и сородичи. Бессовестно, невзирая на его страдальческое скуление и вопли, — додумались прыгать на загорбок, проламывая хребет, кусать, хищно рвать. По двери прошла дрожь, ударная волна. Снаружи, пропадая в кипучей кутерьме брехливых лаев и кровожадных рычаний, заслышалось безрассудное царапанье, скреб.
— Курт… Они сейчас сюда залезут!.. М-м-м… долго не удержу дверь… — надрываясь, сдерживая напирающих волков, прохрипел напарник, — делать надо… что-то…
Ничего не отвечая, я выдернул у него из-под мышки автомат и, колотя прикладом по ободранным носам и зубам волков, лавиной лезущих без приглашения, заголосил:
— Тащи ее на себя! Тащи… — вытолкнул одного, вовремя выставил подошву, принимая всю силу крепких челюстей другого, — Дин, быстрее… — с горем пополам отбился, прибавил: — Задерут же нахрен…
Выиграв секунду — помог Дину. Смыкающейся створкой кому-то из потрошителей прищемило шею, лопнул хруст. Та застопорилась. Как ни старались, не шла — упиралась.
— Проверь! — приказал Дин. — Живее!.. По ходу в волка уткнулась.
Кое-как, кулаками отбиваясь от хищников, уже принявшихся пожирать и когтить труп погибшего собрата, я выбросил того из вагона. Только тело свалилось — туча окружила, вгрызлась в холку, голову, топча тщедушными лапами нос, погасшие глаза, вылезшие из орбит, вывалившийся из искривленного агонией рта мокрый черный язык.
Ар-р-р!.. Гав!..
Пока потрошители довольствовались вожделенной трапезой, деля меж собой куски от общей добычи, мы с Дином преспокойно задвинули створку, надежно обезопасили убежище. И долго еще слышали шакалий ор, чавканье, треск костей, хрящей и разрыв сухожилий, поневоле представляя себя на месте мертвого волка. А исход этот нависал так рядом, всего в каком-то шаге: зазевались бы хоть на миг — обоих перекусили бы пополам и не подавились.
— Повезло, — прекратил тишь Дин, — быстро про нас пронюхали!
Выключив ПНВ, убирая в рюкзак, я сердито взглянул на напарника, сидящего на корточках возле стены, отрезал:
— Что ни говори, а косяк здесь твой! Надо было не рожу мять на рюкзаке, а в оба уха слушать, что творится вне вагона! Сиди теперь в наказание мой сон охраняй… — и, выкурив четверть сигареты, убрал в кармашек рюкзака «на завтрак», повалился на подстилку, накрываясь плащом. — Будет тебе уроком…
Дин же отнесся к назиданию с непонятным весельем, принял как нечто должное, с энтузиазмом:
— А чего ж не поохранять-то? Дело-то не пыльное, ума особого не надо! А слух у меня… дай бог какой! Так что спи спокойно, утром разбужу! — посмеялся. — Не подведу!
— Да знаю я твой слух уже — волки вплотную подошли, а он и глазом не шевелит, храпака дает!
— Ну, выключился я, бывает. Не человек, что ли?
— Бог с тобой, в общем. Спокойной ночи, Дин, — и отвернулся, ложась щекой на руку.
— Доброго сна.
Среда, 27 мая 2015 года
В ночь заболела малышка Клер. Острый приступ удушья и палящий жар застали девочку невинно спящей, беззащитной, тиранически разрушили сладкие и далекие видения, обрекая на тяжкие муки. Мгновенная слабость обездвижила все тело, разлилась расплавленным железом по мышцам, пот градом ударил в лицо, а сильный спазм, застрявший в горле, крал дар речи, не позволяя докричаться до матери. Но вскоре ослабевал, разрешая сделать единственный короткий вздох, и подло менялся тошнотой, пьяной одурью. Потом к нему присоединялся озноб, ломота, беспрестанная дрожь. Спасаясь от обжигающего холода, пробирающегося под кожу, Клер укутывалась одеялом, отыскивая ушедшее тепло, поскуливала от беспомощности. Так, во всепоглощающем одурманивающем бреду, трясясь, силком убаюкивала себя, желая как можно скорее заснуть, освободиться от страданий…
Обо всем том кошмаре, что претерпевала дочь, Джин стало известно на рассвете. Распознав неутихающее детское кряхтение и сиплый кашель, она, как обожженная, оторвала голову от подушки, оставляя мокрый потный след от закончившегося ужаса, сбросила тонкое, еще дышащее мужем и пряным солонцеватым запахом одеяло, встала. Небо только-только прояснялось, вылезало из-под уютной и гладкой шелковины ночи, светлел грядущий день. Вязкие туманы водили по земле свои непролазные ватные бороды, послушно и бесстыдно кудрявились под ласковыми, сонливыми руками утренников. Они любовно гладили их, гнали к низинам, точно пастух свою отару овец к загону. Текла тишина. Лишь изредка портило ее сварливое клокотание костоглотов.
«Что такое с моей девочкой? — вихрем взвилась беспокойная мысль. — Плохо стало? Почему же тогда меня не зовет?..»
И с забившимся в нахлынувшем волнении сердцем заспешила одеться. Окончив, шурша непослушными после пробуждения ногами — заторопилась в детскую. Кухня начинала наполняться светом, безупречным рубином горело в огне зари алюминиевое ушко кружки на столе. Приторно-шоколадный дух кофе, недопитого со вчерашнего вечера, выплывал из нее тонкой струйкой, нечаянно пробивался в нос при каждом вдохе. Открыв дверь, высвобождая полнозвучный хрип, Джин зашла, негромко, с материнским испугом позвала дочь, лежащую на боку раненой птицей:
— Доченька?.. Принцесса моя?.. Что с тобой? Где же ты такой кашель-то успела заработать… — и подсела, без спешки перевернула — Клер, сбиваясь на медный рык, засеянная мурашками, сахарно-белая, как лист бумаги, безостановочно колотилась в судороге, стучала зубками. Спутавшиеся волосики разбежались по подушке, прилипли к влажным височкам, лоб омыли мутные хрусталики пота. Они падали на такие же влажные брови, щечки, сползали по хрящику носика. Необычайно ясные, лазурные глазки, подчеркнутые искусственной болезненной синью под нижними веками, чуть подернулись серой пленкой, окровенели в белках. Губки, посохшие, полопавшиеся, в слюнных меловых разводах, смыкались и расходились, порывисто дергались. Потрогала личико — оно пылало, обжигало ладонь. Изо рта при дыхании рвался горячий пар. Затем, не убирая руки, — к дочери: — Да ты вся горишь, Господи!.. Заболела ты у меня… — А следом сокрушенно, с самобичеванием: — Ох, моя это вина!.. Распарила тебя в теплице вчера, а потом на улице продуло! Глупая я, совсем забыла…
Клер, не отводя глазок-льдинок от мамы, шепотом, каким-то грубым мужским баритоном прошелестела:
— Не говори так… про себя… — закашляла, — я сама виновата — бегала много: то в дом — попить и в кладовку спуститься, то обратно к тебе. Вот и простудилась, — тяжко, со стоном вобрала воздух, — не ругай… себя…
Обращение дочери немного успокоило Джин, из души быстринами понеслись прочь дурные думы, предчувствия. Улыбнувшись, она чмокнула Клер в пламенный лобик, укрыла до подбородка одеялом и промолвила тихо, утешающе:
— Ты полежи пока, моя хорошая, полежи, а я тебе сейчас градусник принесу, лекарства и чайку налью. Будем тебя на ножки поднимать! — уже у двери спросила: — Тебе чего к чаю хочется? Вафлей, пряничков?
— Конфеток, мамуль… если можно…
Включив крохотную туристическую газовую плитку с последним полупустым баллончиком, Джин наполнила старенький белый чайник, поставила греться, а сама — опрометью в спальню. Под столом отыскала большой темно-зеленый пластмассовый контейнер с остатками медикаментов, открыла. Долго перебирала ворох упаковок с болеутоляющими средствами, лечебных мазей, лейкопластырей, конвалюты активированного угля и аскорбиновой кислоты, блистеры противовоспалительных препаратов, забрала пачку жаропонижающего, из пластикового футляра извлекла треснувший градусник. Вернувшись на кухню — зачерпнула чашкой воды из ведра, поспешила к дочери. Та пребывала в полудреме, вздыхала, в пылу кидала голову то влево, то вправо — лихорадило, истязала температура.
— Давай-ка тебя померяем, — озвучила Джин, приспустила одеяльце, пихнула под мышку термометр. Подождав — вытащила, взглянула, перепугалась: «39,2». Холодея, подумала: «Какая же сильная зараза пристала к моему ребенку…» — потом продолжила: — Так, малышка, сейчас тебе дам жаропонижающее. Должно легче стать, а попозже — аспирин, хорошо?
Дочка через силу, но кивнула.
Джин выдавила таблетку, разломила на две части, положила один кусочек ей в рот, дала запить. Клер, исказившись от привкуса, с остервенением выпила все до дна, много пролила, намочив пижаму.
— Очень горькая? — поинтересовалась та, вытирая дочке облитый подбородочек. — Или как?..
— Нет, ничего, можно потерпеть… — еле слышно ответила Клер, прикрыла глазки. Какое-то время берегла тишину, потом заговорила: — Мамуль, ты принеси мне еще водички, пожалуйста, а то у меня все горит внутри, пить постоянно хочется…
— Конечно, принесу! — пообещала Джин, провела тылом ладони по дочкиной правой щечке. В ответ она заалела, наполнилась краснотой. — А покушать сделаю тогда попозже, хорошо?
Клер заерзала на кроватке, сказала:
— Мам… у меня аппетита нет совсем… — и здесь же: — Я если захочу — сама скажу, ладно?.. Только не обижайся…
— Ну что ты?.. На что же мне обижаться? — Джин раскидала дочурке волосики, улыбнулась: — Не насильно же кормить, в самом деле.
Положив градусник рядом с Клер — убрала вторую дольку обратно в пачку, отнесла все на кухню. К тому времени чайник уже вскипел, курился седым, безвкусным дымом. Погасив плиту, она навела чай, высыпала на блюдце разных конфет и вместе с табуреткой отнесла в комнату дочери, где расставила принесенное перед ней. Далее вернулась обратно, наполнила водой другую кружку, намочила и отжала тряпку. Ей Джин протерла вспотевший лоб ребенка, шею, сделала холодный компресс.
— Пока подержи на голове — пусть жар немножко снимет, заодно и чаек как раз остынет, а то горячий получился слишком. Потом с конфетками попьешь. Водичку тебе вот принесла, как ты и просила — пей на здоровье. Выпьешь — еще принесу, — на одном дыхании отчиталась она, помешала ложкой необычайно экзотический для нынешних времен вишнево-мятный чай, подула, направляя на дочку облачко вкуснейшего, непередаваемого аромата, подвинула ближе. С родительским немым удовольствием любуясь тем, как Клер, нащупав конфетку, нетерпеливо развертывает и кидает в рот, — пожелала: — Выздоравливай скорее, девочка моя, не надо болеть…
— Я постараюсь, мамуль!.. — дала Клер наивное обещание, обсасывая затвердевшую сладость. А когда расправилась, раскусила-таки начинку своими молодыми крепкими зубками — легла на другой бочок и, покашляв каким-то нездешним, далеким голоском, почти неразличимо произнесла: — Мам, я, наверно, посплю немножко… Так хочется просто…
«Спадает температура, значит, — обрадовалась Джин, — помогает все же…»
И сразу:
— Поспи-поспи, милая, поспи, конечно, поспи! — бережно сокрыла Клер одеялом, поцеловала ручку, височек со вспухшими распутьями вен. — Набирайся сил!
С этой минуты не отходила от дочки ни на шаг, берегла сон, молилась. На кухню выходила, только чтобы приготовить новый чай, взамен остывшему напитку, из дома — ради ведра чистой воды. В спальню наведывалась реже, и то исключительно по делу: посмотреть, какие еще остались лекарства, способные противостоять вспыхнувшей, словно стог сена, болезни. Из всего имеющегося нашлась маленькая коробочка сильных антибиотиков в ампулах, вводящихся внутримышечно. Однако к такому методу лечения Джин собиралась прибегнуть лишь в случае крайней необходимости и полной безвыходности — слабый, не до конца отошедший от голода организм Клер мог просто-напросто не пережить такой экстремальной нагрузки, а сердечко — не выдержать и остановиться.
«Дай бог, до этого не дойдет… — вспыхивало в мыслях, — уже ведь боролись с таким, переживали… и сейчас справимся! Минует нас беда и в этот раз!»
А когда Клер проснулась с криками «мамочка, я задыхаюсь! Мне жарко!» — поняла: недуг легко сдаваться не собирается и не уйдет, пока не заберет с собой безвинное дитя. Черный, смрадно-гибельный подол одеяния смерти раздувался над ребенком, пытал пеклом, тянул жизнь, точно пиявки, дорвавшиеся до чужой плоти. Таблетки жаропонижающих больше не оказывали никакого действия, не сбивали температуру, аспирин — не забирал головную боль, вода — не утоляла жажду: бесполезны были все потуги борьбы. Ртутный столбик, будто бы мрачное предзнаменование близящегося конца, победоносно и безоговорочно полз вверх, рисуя раз за разом страшные цифры: «39,4», «39,6», «39,7».
— Как же тебе помочь?.. Как?.. — перепуганная, надломленная горем голосила мать, вытаскивая огненный градусник. — Доченька, ты скажи мне: что у тебя сейчас сильнее всего болит? Голова? Давай я тебе еще водички принесу и компресс сделаю?..
Выпившая уже шестую кружку, дочь, облепленная каплями пота, выбивающимися из-под высохшей тряпки, в беспамятстве отзывалась страдальческим оханьем, вертела головой и говорила требовательно, почти крича, срываясь:
— Воды хочу! Воды… воды! Жарко, мама!.. Дай воды… еще… — и опять пропадала в обмороке на несколько минут, а очнувшись, то кашляя, то усердствуя сделать вздох, взирала на мать мертвецки белыми глазами, как одержимая, тянулась скрюченными неузнаваемыми пальцами, в гневе верещала: — Воды мне!.. Хочу пить! Пить!! Воды!! Воды-ы-ы…
Плача, Джин упоенно целовала их, опять шла наполнять новую кружку, делать очередной компресс. Приходя — укладывала на лоб, с ошалелостью и страхом следила за тем, как тот, словно на раскаленной сковородке, иссушается прямо на глазах и не приносит никакой пользы, отдавала воду. Клер, давясь, по-звериному опорожняла ее в два глотка, просила еще.
«Неужели укол придется делать?.. — возникала у Джин пугающая мысль. — Как же тогда сбить температуру?.. Ничего же не помогает! И генератор сломан — суп не приготовишь, ведро не погреешь, а то хоть пропарила бы ее. Курт еще ушел… как же без него нелегко…»
В панике, напуганная, ослепленная простым желанием помочь своему чаду, она всерьез начала допускать такой вариант, хотела идти за ампулами, однако неожиданный стук в дверь понудил остаться на месте, напрячься.
— Это… не папа и дядя Дин… — трудно протянула Клер, простонала, вновь истекая потом, обрастая мурашками, — …они по-другому стучат, когда вдвоем приходят… и «это мы!» говорят…
— Да и рано что-то слишком — к пятнице-субботе ждем… — поддержала Джин, — я посмотрю, может, путники какие, — и добавила: — Не бойся ничего!
Сполна испив чашу горького опыта — на одних мысках прошла к двери, не глядя, извлекла из-под кипы тряпок заранее заготовленный заряженный пистолет, поздно отозвалась на чей-то зов:
— Вам чего? Новости нам не нужны — нечем заплатить. Уходите… — Прислушалась: у самого порога рвался детский плач, непонятная, бегучая речь. Повторила: — Уходите, говорю…
Ответили быстро.
— Мир вашему дому! Мы — кочевники! Просим помощи у вас! — с ярко выраженным восточным произношением обратился мужской голос. На заднем фоне слышались и женские реплики, но адресовались заливающемуся истерикой ребенку — спокойные, ласковые, неторопливые. Затем проговорил далее: — Мы долго шли, дожди отняли у нас еду и часть вещей! Нам больше нечего есть! Моя жена и сын умирают от голода! Если у вас имеется что-нибудь лишнее — поделитесь, пожалуйста! Будем благодарны вам!..
Джин сначала собиралась прогнать их прочь, да слезы чужого ребеночка растопили сердце, восторжествовало материнское чувство. Не распознав никакой опасности от гостей, доверившись — убрала оружие, ответила:
— Проходите, — и, откупорив щеколду, отворила дверь.
Возле нее стоял мужчина — смуглый, среднего роста, с большими добрыми карими глазами и длинным клинышком сальной бороды — и женщина — низкая, щупленькая, арабской наружности, черноволосая, держащая на руках хныкающего грудничка, замотанного в грязные тряпки. Оба были одеты в кислотостойкие, как у Курта, плащи, но совсем уж переношенные, пахучие, давно не стиранные и кое-где даже рваные. На голове отца семейства, под свободным капюшоном, выглядывал бледно-розово-белый платок, на шее болтались белые деревянные четки, респиратор, тело прятала футболка, ноги — брюки, подпоясанные кожаным ремнем, где на нем, справа, висел зачехленный продолговатый охотничий нож. Обувь — не по сезону теплые смятые ботинки, за плечами — рюкзак, торчащие из него колышки для закрепления палатки, расколотый приклад огнестрельного оружия. У супруги — синяя кофта, висящая мешком, такой же рюкзак, противогаз, маскировочные штаны, убранные в обрезанные до голенища сапоги. Она косилась на хозяйку как-то забито, щурилась, постреливала коричневыми глазами. Муж, невзирая на приглашение, пока не осмеливался войти в дом, чего-то ждал, топтался.
— Проходите-проходите! — повторила Джин, заметив растерянность новоиспеченных визитеров. — Не стойте же, проходите скорей! Не стесняйтесь!
Закрыв за ними дверь, отошла. В доме замаячили запахи долгой дороги, пыли, скитаний, сырой земли, давно не мытых тел. Путники, от всей души поблагодарив за приглашение, сняли капюшоны, начали разуваться, боясь запачкать пол. Удивленная такой воспитанностью, та поспешила остановить:
— Ну что вы, что вы! Не надо разуваться! — и приветливо добавила: — Полы все равно еще не вымыты, да и не до этого сейчас…
Из детской вылетел кашель, вздохи.
— Мама… кто к нам пришел?.. — Помолчала и опять: — Кто пришел?..
— У вас ребенок болеет? — вежливо поинтересовался мужчина, метнув туда навостренный взгляд. Дитя на руках жены не то от незнакомой обстановки, не то от стенаний другого ребенка еще сильнее раскапризничалось. Она незамедлительно прошла к столу, присела на свободный стул, закачала малыша, напевая какую-то колыбельную. Следом посмотрел на Джин и продолжил: — Я прав?
Хозяйка, заслушавшись иноземной песней, застопорилась, не отводя глаз от зажатой, одичалой матери с дитем, ответила нескоро:
— Да, дочка. Двенадцать лет, заболела ночью, температурит сильно, — и — Клер: — Доченька, к нам зашли ненадолго. Не волнуйся.
Клер ничего не сказала.
— Лечите? Что даете?.. — задал вопрос тот, пожевывая бронзовые губы, опоясанные гладким аспидным волосом. На лице изворотливо шевелилась левая загущенная скула, разлинованная высветленными неровными шрамами от чьих-то когтей, глаза горели тепло, беззлобно.
— А зачем вы спрашиваете? Какое вам дело до моего ребенка? — настороженно резанула Джин и далее строго: — Давайте не будем лезть не в свое дело, хорошо? Я вас впустила не для того, чтобы слушать советы…
— У меня было два сына. Двойняшки. Одного болезнь забрала два месяца назад. Долго не понимали, как с ней справиться. Его звали Имар… — перебил мужчина, померк в лице, — сам Аллах оплакивает его, и мы вместе с ним…
Опешив, она принялась извиняться:
— Мои соболезнования, простите… — и аккуратно: — Если бы я знала…
— Ничего, откуда вы могли это знать. — После представился: — Я — Саид, а это… — показал на женщину и кроху, — …моя жена Ясмин и сын — Аман. Мы пришли сюда, в Истлевшие Земли, из далекой и сухой Арании — так когда-то называлась наша страна Иран. Теперь там ничего нет: ни людей, ни животных. Дожди и туда дошли, посеяли голод. Нам пришлось перекочевать сюда, думали, что здесь лучше, а у вас тоже ничего нет. Долго добирались — почти два года. Две зимы пережили, но следующую зиму без теплых вещей уже не выдержать — по весне ливень все пожег…
Проникшись глубоким сочувствием, Джин поспешила тоже назваться:
— А меня зовут Джин, а дочку — Клер. — Потом прибавила хлопотливо: — Я сейчас принесу вам одежду и продукты. Много, конечно, дать не смогу — самим иначе ничего не останется, а вот вещей отдам хоть целую коробку. Все равно мы уже ими не пользуемся. Там и на осень, и на зиму есть, обувь разная, даже на малыша найдется. Моя-то уже из них выросла давно, а вашему мальчику — в самый раз будет.
— Спасибо вам, — сдержанно, улыбающимися глазами поблагодарил Саид, — но прежде разрешите посмотреть на вашу дочку. Я, кажется, смогу помочь…
— Хорошо, — перешагнув через недоверие, все же согласилась Джин, — но при условии, что я буду присутствовать.
— Конечно, слово хозяйки — закон для меня.
Пройдя, Саид поставил у входа свой огромный рюкзак, оглядел комнату, помолился, сложив ладони у рта, поцеловал четки, пригладил бороду, прошел к кашляющей Клер, опустился на колени у изголовья. Джин тенью встала в конце комнаты, созерцала происходящее с любопытством пополам с волнением — все еще ожидала какого-то подвоха со стороны чужеземца. Дочь, представлялось, вовсе не обращала внимания на зашедшего с матерью человека, смотрела все время в окно полузакрытыми глазами.
— Храни тебя Аллах, дитя! — поприветствовал Саид. — Я — Саид, ты меня не бойся, хорошо? Я пришел, чтобы помочь тебе. — Затем любезно попросил: — Посмотри сейчас на меня.
Клер, превозмогая страшную слабость, повернула к незнакомцу голову. Омытая потом, обессиленная, она с надеждой в блестящих, расширенных болезнью глазах глядела на того, редко моргала, сглатывала слюнки.
— Я сначала подумала, что это простой грипп… — проговорила Джин, — но потом…
— Это не грипп, — знающе прервал тот. Обернувшись — объяснил: — Это лихорадка, — потрогал лобик Клер, прощупал горлышко, осмотрел глаза, — я это знаю, потому что уже такое видел… — и — к девочке: — Клер, лучик света, сейчас прикрой глазки.
Клер послушно зажмурилась. Саид, сняв с шеи четки, намотал на руку и аккуратно провел ими ото лба к подбородку, проговаривая слова на своем родном языке.
Такого рода врачевание Джин опешило, обескуражило.
— Что же вы делаете?.. — полюбопытствовала она. — Как это может помочь?..
Саид, добродушно посмеиваясь, сказал:
— Я очищаю ее дух, а поможет не это… — вновь продолжил шептать не то молитву, не то заклинание.
— Я давала ей жаропонижающее… — следом же вставила: — Уже даже хотела открывать ампулу и сделать укол антибиотика…
— Выбросьте это все. Этим вы только сильнее навредите, — закончив — встал, достал из рюкзака маленький белый тканевый мешочек и целлофановый пакетик с засушенными коричнево-черными листьями. Потом подошел к Джин и исторг: — Это листья и коренья дикой розы с многолетней выдержкой. Ее уже не найти. Все это ко мне и самому попало не сразу — подарил один странствующий торговец. Если бы раньше — может быть, и сын остался жить… — Помолчал. Глаза остыли, с лица исчезла привычная улыбка. — Коренья заварите сразу, отвар давайте пить каждые два часа. Закончится — сделайте еще. Листья размочите — пусть подышит над ними. Тоже как можно чаще повторяйте. Гущу не выбрасывайте — сделайте чай, — поглядел на хозяйку, — и не волнуйтесь — все будет хорошо. Аллах не оставит вашу дочь в беде.
Попрощавшись с дочерью Джин, Саид благословил, пожелал скорейшего выздоровления и, забрав рюкзак, покинул комнату. Подойдя к супруге — долго кивал, целовал малютку. Оставив их одних, Джин быстро спустилась в кладовку, забрала вещи, упаковку крупы, овощные и рыбные консервы, отсыпала соли, специй.
— Спасибо вам, Саид, за все! — выразила признательность она и, вручив часть запасов, обратилась к жене, почему-то всячески избегающей любого внимания с ее стороны: — И вам спасибо… Ясмин, — а сама подумала: «Неуютно ей здесь, видимо, или боится меня…»
Ответом послужил лишь недолюбливающий, пронзающий взгляд.
Усмотрев это, Саид успокоил:
— Вы только не сердитесь на нее, она давно такая. Говорит только со мной. Остерегается новых людей…
— Ничего, — изрекла Джин, — я не сержусь.
Позвав супругу — неразлучно с ней направился к двери. Распрощались. Отойдя от дома, Саид спросил:
— А вы же не одна с дочкой живете? Где же ваш муж? Или овдовели? У многих ведь так…
— Нет-нет… муж ушел в город.
— Он охотник?