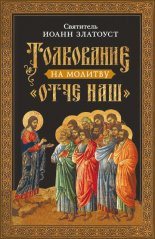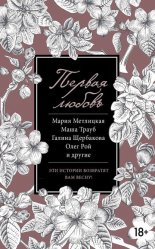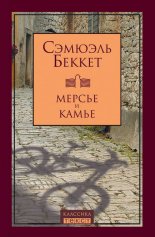Цветы тьмы Аппельфельд Аарон

– Не беспокойся, он в хороших руках, лучших, чем мои.
– Все еще ищут евреев?
– Сейчас доносчики рыщут по всем закоулкам. Им платят за каждого еврея.
– Я вижу, евреи – товар, пользующийся спросом. Как Хуго себя чувствует?
– Он очень подрос с тех пор, как ты оставила его. Он теперь во всех смыслах юноша, в которого легко влюбиться.
– Боже милостивый! – не сдержалась мама.
– О чем ты беспокоишься? Школа жизни – это такое заведение, которым не следует пренебрегать.
Сон прервался, и Хуго пробудился. В отличие от Марьяны Наша умеет организовывать свою жизнь. После ночи, проведенной с гостями, она спит часов до трех дня. После этого прибирает в комнате, моется, натирается ароматическими мазями, и когда она появляется ближе к вечеру, выглядит спокойной и ни на что не жалуется. Иногда Хуго замечает на ее лице недовольные морщинки или улыбку, отмеченную сдерживаемой болью, но большей частью она спокойна или безразлична. В отличие от Марьяны она не обнимает и не целует его, не осыпает похвалами и не называет ласковыми именами.
Иногда она просит Хуго вымыть пол и убрать в ванной. Комната, которую он продолжает называть Марьяниной, изменилась до неузнаваемости. Теперь здесь нет картинок, нет бутылочек на комоде и на тумбочках и нет маленьких примет не слишком добросовестной уборки.
В те короткие минуты, что Хуго проводит в Марьяниной комнате уже не как гость, а как прислужник, в его памяти встают открытое Марьянино лицо и проведенные бок о бок с ней ночи. Острая тоска переполняет его. Накануне Наша сказала ему:
– Ты должен прибраться в чулане. Нельзя жить в таком беспорядке.
В основном в чулане Марьянина одежда: халаты, платья, блузки, туфли, корсеты, лифчики и шелковые чулки. Марьянины вещи – это тоже Марьяна. В негустой темноте чулана они продолжают дышать и без нее.
Каждый предмет одежды придавал ей иную форму. Цветастые платья и блузки освещали ее лицо и пробуждали в ней радость, а черные и серые – добавляли угрюмости к той, что уже гнездилась в ней. Не раз она жаловалась на тесные ей корсеты и лифчики. Шелковый чулок она натягивала, вытянув ногу вперед – движение, которое он полюбил с первого раза, как увидел его. Есть одежда, которую она долго не использовала, и запахи улетучились из них, но большинство вещей хранят ее запахи. Хуго подносит их к своим ноздрям, и Марьяна словно оживает. Он долго сидел и разбирал вещи. Был бы шкаф, Хуго разложил бы их по полкам, но раз уж его не было, то он складывал на скамью.
Хуго показал Наше, как он прибрался, и она осталась довольна. Это удовлетворение не выражается восторгами. Если она довольна, то говорит „годится“ или „отлично“. В отличие от Марьяны она держит свои чувства при себе и не выказывает их. Когда Хуго хвалит ее платье или прическу, она без всяких эмоций говорит: „Очень мило, что ты заметил“.
Как-то вечером она обратилась к Хуго и сказала:
– У меня есть к тебе просьба, помоги мне подстричь ногти на ногах, мне трудно самой их стричь и покрывать лаком.
Хуго удивился – он не ожидал, что она может обратиться к нему с подобной просьбой.
– С удовольствием, – ответил он.
Нашины ступни и лодыжки приятны и нежны, и он стриг ей ногти осторожно и потихоньку, как она ему объяснила.
– В нашей профессии ноги на фасаде, – сказала она со сдержанной улыбкой.
Хуго не понял точного смысла этой фразы. Во всяком случае прикосновение к ней не доставляло ему удовольствия, оттого, может быть, что она его не поблагодарила, а лишь сказала:
– Очень хорошо, – но тут же добавила: – Вдобавок к требованиям профессии всегда лучше выглядеть достойно. Твои родители заботятся о внешнем виде?
– Мои родители – фармацевты.
– Беспорядок выводит меня из себя, а здесь никто не соблюдает порядок и чистоту.
– Почему? – неосторожно спросил Хуго.
– Потому что каждый заботится лишь о себе.
Этой ночью он слышал, как один из гостей сказал:
– Теперь здесь больше нет евреев, они уже доставлены по назначению, а тех, кто еще скрывается, вытащим по одному. Мы сумели очистить от евреев всю округу. Теперь здесь можно дышать.
– Все уже уехали? – спросила Наша.
– Все без исключения.
– И теперь больше не будет евреев?
– Мы выполнили свой долг, раз и навсегда.
Хуго понял большинство слов, а чего не понял, о том догадался. И все-таки утешал себя тем, что его мама скрывается в дальней неведомой деревне, где ее бережет подруга юности – так же, как Марьяна и Наша берегут его.
Утром Хуго проснулся в панике: из Марьяниной комнаты доносился шум. Трудно было понять, из-за чего суматоха. На миг ему показалось, что солдаты проводят обыск, а женщины пытаются преградить им путь в чулан. Хуго поднялся на ноги и приготовился юркнуть в лаз наружу. Тем временем шум перешел в плач. Среди рыданий послышалось имя Наши.
Хуго слушал и непроизвольно ежился. Плач продолжался долгое время и постепенно переместился куда-то еще. Несколько женщин остались в коридоре и разговаривали со странной серьезностью. Из их разговора он понял, что с Нашей стряслось несчастье, но что именно – они не говорили.
Он сидел на месте и видел перед своими глазами ее длинные свежие ноги, ногти, которые он стриг и мазал лаком. Он обратил внимание, что в отличие от Марьяны Наша не обнажала свои ноги с такой легкостью, она как будто опасалась, что ей сделают больно. Все время, пока Хуго стриг ей ногти, она кусала нижнюю губу, а когда он закончил наносить лак, подобрала ноги движением, выдававшим боязнь возможной боли.
Попозже он услышал, как одна из женщин, задыхаясь, говорит:
– Как закончила свою работу, она вышла из комнаты. Она была одета в теплое пальто, причесана и накрашена, и ничего в ее виде не предвещало беды. Сторож был уверен, что она идет в город навестить двоюродную сестру и купить в кондитерской плитку шоколада, как иногда она делала.
– Кто же все-таки видел, как она утонула? – спросила другая женщина.
– Рыбак. Он видел, как она прыгнула в воду, и попытался вытащить ее, но безуспешно. Течение было сильное.
– И где она сейчас?
– Есть у тебя еще вопросы? – сердито ответила женщина.
Внезапно послышался голос другой женщины. Она спокойно, но не без чувства рассказывала, как больше года назад Нашу взяли на работу и как она приспособилась к этому месту.
– Скромная женщина, преданная. Если одна из нас чувствовала себя неважно или нуждалась в помощи, Наша первой ей помогала. Она помогала не из корысти, ни разу не сказала: я дала тебе, помогла тебе, а ты неблагодарная.
Ее дедушка был священником, и от него она, как видно, унаследовала хорошие качества. Она ни разу не пожаловалась ни на товарок, ни на клиентов. Она страдала молча, с благородством. Она не ходила в церковь, но Бог был в ее сердце. Жалко, что мы не смогли уберечь ее. Она давала всем, а ей никто не давал.
– Почему же она свела счеты с жизнью?
– Видно, она была очень одинокая. Более одинокая, чем все мы. Она никогда не говорила о своих родителях или о сестрах. Всегда поминала дедушку. Говорила, что он был Божий человек в полном смысле этого слова.
– Мучили ее угрызения совести?
– Наверное, но она об этом не говорила. Она была очень сдержанной. Раз сказала мне: „Чего только не делают ради заработка“. Она не выражала сожаления или отвращения, как это бывает со всеми нами. Она выполняла свою повседневную работу без жалоб на головную боль или боли в животе. Не раз я говорила себе: „Наша сильная, а нас она презирает“. Выходит, что я ошибалась.
Хуго слышал голоса, и чем дальше слушал, тем яснее видел, как бурные воды обволакивают ее белые ноги. Что будет дальше и как теперь сложится его жизнь, было ему неведомо. Он представил себе, как ближе к вечеру Наша удивит всех, встанет в дверях и скажет: „Тот рыбак ошибся, это была не я, а я вот стою перед вами“. А потом скажет, что была в церкви своего дедушки и навестила его могилу. Он встретил ее с распростертыми руками и назвал своей дочерью.
Так Хуго сидел в своем углу и грезил. Тем временем заведение вернулось к обычному распорядку. Слышны были обычные вопросы и обычные на них ответы.
Внезапно послышался голос пожилой женщины:
– Сколько приготовить?
– Порций тридцать, не больше.
– И бутербродов тоже?
– Разумеется.
Его мучил голод, и он с нетерпением ожидал прихода Наши.
Ближе к вечеру дверь чулана отворилась и показалась Виктория.
– Чем ты занимаешься? – спросила она, как будто снова застала его за каким-то неподобающим занятием.
– Ничем, – ответил он и поднялся на ноги.
– Наша утонула, а ты тут сидишь, как будто тебе все положено.
– Я не знал, – слукавил он.
– Наша утонула, и я не знаю, кого поселят в ее комнату. Не каждая захочет присматривать за тобой. Это дело опасное. Ты всех нас подвергаешь опасности. Понимаешь?
– Да.
– Если обыски усилятся, тебе придется убраться отсюда. Мы не сможем больше держать тебя тут.
– Куда же я пойду?
– В лес. В лесу есть евреи.
– А кто присмотрит за Марьяниной одеждой?
– Это не твоя забота.
Попозже Виктория принесла ему супу и котлет и сразу ушла, а он тут же набросился на вкусную еду. Мучившие его весь день страхи и тревоги исчезли. Он успокоился и сказал себе: „Если придется бежать, так убегу. Теперь лето, по ночам тепло. В лесу есть ягоды. Крестьяне меня не распознают. Я блондин, ношу крестик на груди и свободно говорю по-украински. В лесу найду Марьяну и вместе будем жить среди природы, подальше от людей и их злых замыслов“.
Последующие дни были нервными: женщины в заведении спорили, ссорились и проливали горькие слезы. Смерть Наши продолжала волновать их сердца. „Злые рыбы пожрали ее плоть“, – слышался из коридора полный отчаяния голос. Виктория была иного мнения: „Сейчас Наша на небесах, и добрые ангелы сопровождают ее от одного райского места к другому. Беспокоиться не о чем. С ней уже все в порядке. Нам бы так“. Но с Хуго она разговаривала другим тоном:
– Ты должен уйти, а если не уйдешь, мы тебя выгоним.
– Я жду Марьяну.
– Нечего тебе ждать, она не придет. Ты должен уйти в лес, там есть еще евреи.
Он презирал обуявший его страх, но страх был сильней его. Ночью ему приснилось, что он с родителями едет на скором поезде по дороге в Карпаты. Карпатские горы покрыты снегом. Поезд остановился, как всегда, на станции, которую все называют „Вершина“. Хуго прикрепляет лыжи к ботинкам и съезжает прямо с платформы. Он катится легко и всем телом чувствует парение. Едущий вслед за ним папа кричит: „Хуго, ты прекрасно катаешься, гораздо лучше, чем в прошлый раз, когда мы были здесь. Где ты научился? Это не получается само собой“. Хуго, ободренный папиной речью, увеличил скорость и воспарил над снегом, крича громким голосом: „Я преодолел страх. Теперь я больше не боюсь“.
На следующий день Виктория разговаривала с ним жестко:
– Евреев ищут, проходят дом за домом. Ты подвергаешь всех нас опасности. У тебя есть несколько часов, собирай рюкзак, ползи через лаз, исчезни. Если не сделаешь этого, сторож сдаст тебя полиции.
– И куда ж я пойду? – Голос его дрожал.
– Я уже говорила тебе – в лес, там есть евреи. Не будь трусом. Рискни – и будешь жить. Кто не рискует, того страх убивает.
– Ночью я уйду, – сказал он.
– Если утром я открою чулан и обнаружу тебя, пеняй тогда на себя.
Это был приговор, он представил, как сторож тащит его.
Для себя он уже решил, что чемодан оставит тут, а вместе с ним книжки Жюля Верна и Карла.
Мая и учебники по арифметике и геометрии. Возьмет с собой немного теплой одежды, тетрадку и Библию. „Если Бог захочет, чтобы я вернулся сюда, я найду все на своих местах, а если он захочет, чтобы я остался в лесу, тогда делать нечего“ – такие слова крутились у него в голове. Позже он осознал, что это Марьянина манера разговора, которую он от нее воспринял.
Почему-то перед его глазами предстала домработница София. Она являла собой противоречие всем принципам, принятым у них в доме. Ее деревенские привычки, религиозность, поверья и непоследовательность выказывали ее уверенность в себе и в своем образе жизни. Ее настроение никогда не омрачалось сомнениями. Не раз она говорила: „Евреи чересчур раздумчивые, я еще не видела еврея, который давал бы волю своей злости. Почему евреи не сердятся?“ Не раз Хуго слышал, как по возвращении из церкви она говорит:
– Почему вы не ходите в молельный дом? Я прихожу из церкви другой женщиной. Молитва, музыка и проповедь связывают меня с Богом и его Мессией. Разве вы не тоскуете по Богу?
– Тоскуем, – отвечал папа то ли всерьез, то ли полушутя.
– Коли так, почему ж вы в субботу сидите дома?
– Бог находится везде, и дома тоже, разве не так говорят? – пробовал перемудрить ее папа.
Услышав такое оправдание, София махала рукой, как бы говоря: „Это только отговорки“, и иногда добавляла: „Евреи – странный народ, никогда их не пойму“.
София была очень жизнерадостной, и родители любили ее. На каждый праздник покупали ей подарок или давали денег, чтобы купила себе что-нибудь сама. Примерно за месяц до прихода немцев она вернулась в свою деревню. Мама снабдила ее одеждой и выдала выходное пособие. София плакала, как маленькая девочка, и вопрошала:
– Зачем я оставляю вас? Вы ко мне добрее, чем мои родители и сестры.
– Ты можешь остаться, – тут же ответила мама.
– Я пообещала родителям, что вернусь. Обещания надо выполнять.
Они втроем проводили ее на железнодорожную станцию и не уходили, пока она не уселась в вагоне у окна.
Хуго очнулся от видения. Было два часа ночи. Конура под названием „чулан“, в которой он был заточен почти год, внезапно показалась ему убежищем, которое не только защищало его, но и питало волшебными видениями. Каждый раз, что он выползал наружу, темнота казалась ему густой и враждебной.
Время уходило, но Хуго не спешил. Марьянины одежды, заполнявшие чулан и его стены, были ему теперь дороги и как бы принадлежали его внутреннему миру. Если уж умирать, так лучше здесь, а не снаружи, сказал он себе, не отдавая себе толком отчета в своих словах.
В четыре часа он выпихнул рюкзак в лаз и выполз вслед за ним. Тьма окутывала столбы забора и стволы деревьев. В небе уже были рассеяны бледные ночные отсветы. Он мог легко перелезть через забор и очутиться в поле, но ноги отказывались ему повиноваться. Он застыл на месте. Но потом зашел в дровяной сарай и свернулся там в уголке.
Хуго сидел и ждал, не послышатся ли шаги сторожа. Раз он видел его сквозь щель, высокого широкоплечего мужчину. Он ругался с одной из женщин:
– Ты в точности то, что ты есть, убирайся в свою комнату.
– Не уйду, ты мне не начальник, – повысила женщина голос.
– Услышу еще слово – раздавлю тебя, – ответил он и пригрозил ей кулаком.
Хуго пожалел себя за то, что ему предстоит быть раздавленным здоровенными ручищами сторожа и он больше не увидит своих родителей, но встать и перебраться через забор в плотную тьму – это его ноги отказывались делать. Он достал из рюкзака тетрадку и написал:
Дорогие папа и мама!
Какое-то время назад я ушел из чулана. Марьяна не вернулась ко мне, как обещала, а повариха Виктория угрожала меня выдать. У меня нет иного выхода, кроме как бежать в лес. Сейчас я сижу в дровяном сарае и готовлюсь уходить. Не волнуйтесь, я доберусь до леса и найду там убежище, но если удача мне не улыбнется и меня поймают или я исчезну, то знайте, что все время мои мысли были с вами.
Он убрал тетрадку в рюкзак и по его щекам покатились слезы.
Небо поменяло цвет, и из-за горизонта пробились розовые лучи. Из дровяного сарая ему были видны пастбища и увитый плющом дом. Все это время он мог видеть лишь кусочки от них, а сейчас они открылись ему целиком. Я начинаю новую жизнь, сказал он себе и собрался с духом.
Пока он стоял в дверях сарая, собираясь перебросить рюкзак через забор и перелезть вслед за ним, послышался полный отчаяния голос: „Хуго, Хуго, где ты?“, и на мгновение он испугался, что это галлюцинация, но голос снова прозвучал с тем же отчаянным выражением.
– Я тут, – ответил он.
– Я тебя не вижу.
– Я снаружи.
– Возвращайся ко мне.
Хуго бросился к лазу и пополз внутрь. Высунув голову из темноты, он увидел стоящую на коленях Марьяну.
– Марьяна… – прошептал он.
– Боже милостивый, зачем ты вылез наружу?
– Виктория угрожала меня выдать.
Даже в темноте было видно, как она переменилась: лицо похудело, волосы стянуты на затылке, глаза провалились. Изменилась и ее манера обхватывать себя обеими руками.
– Я бросила пить, – сказала она и понурила голову.
Хуго не стерпел и расцеловал ее.
– Я пережила тяжкие дни и решила я завязать с выпивкой и вернуться сюда. Тут у меня есть своя комната, еда и жалованье, а там надо мной издевались.
Хуго помнил ее прежние приступы уныния, но такого не припоминал. Марьяна сообщила ему, что вот уже неделю ни капли в рот не брала. Воздержание от спиртного угнетает ее, но у нее нет выхода.
– Я помогу тебе, – сказал он.
– Без коньяка мне жизнь не в жизнь. И радость, и желание жить покинули меня, но у меня нет выхода. Снаружи меня гоняли, будто прокаженную собаку.
Хуго взял ее за руку, поцеловал и сказал:
– Марьяна, не бойся. Я буду делать все, что ты скажешь.
– Я очень тебе благодарна, – сказала она голосом, которого он от нее еще не слышал.
Она сразу же начала прибирать в комнате, мыть пол и расставлять картинки по тумбочкам. Марьяна снова глядела изо всех углов – молодая, гладкая и полная жажды жизни.
– Что ты делал, пока меня тут не было?
– Сидел в углу и думал о тебе.
– Я искала подходящее для нас место, но не нашла. Скиталась от одного к другому, и всюду меня узнавали и гнали меня, а над тобой издевалась эта лицемерка Виктория. Что ты собирался делать?
– Хотел сбежать в лес и искать тебя.
– Герой ты мой!
После полудня она приготовила ему ванну и сказала:
– А сейчас я выкупаю своего мужчину. Я его бросила надолго, а теперь он снова будет мой, – и на миг к ней снова вернулся ее прежний голос, а лицо снова засветилось.
Этой ночью Хуго спал с Марьяной в большой кровати. От ее мягкого тела и ароматов духов он испытывал острое наслаждение. „Ты мой, ты весь мой, мужчины хамы и грубияны, и только ты сильный и сладкий“. И так мановением руки она разогнала тьму, что лишь за несколько часов перед тем почти удушила его.
Но последующие дни не были светлыми. Марьяна все время повторяла, что без коньяка сойдет с ума. Гости на нее не жаловались, но говаривали: „Что с тобой стряслось, куда девался твой огонек?“
Марьяна страдала, и это ощущалось во всем, что она делала. Каждый день она драила комнату, вытряхивала матрас и одеяла. Хуго обратил внимание, что ее движения стали резкими, а когда она закуривала сигарету, пальцы ее дрожали.
Гостями были солдаты и офицеры, и от них Хуго узнал, что теперь война пошла тяжелее и многих солдат послали на фронт. Раз он услышал, как один из солдат говорит ей:
– Завтра нас отправляют на восток. Возьми колечко, на котором выгравировано мое имя. С тобой я провел самые прекрасные часы за всю эту долгую войну.
Услышав такие слова, Марьяна разразилась рыданиями.
– Почему ты плачешь?
– Жалко мне тебя, – ответила она и заплакала еще сильнее.
Как-то вечером она принесла Хуго бутылку коньяка и сказала:
– Ты будешь хранить ее. Не позволяй мне пить больше, чем следует. Я буду пить по чуть-чуть перед утренним сном и по ночам, когда у меня нет клиентов. А ты будь начеку и говори мне: „Марьяна, сейчас тебе пить нельзя“. Ты умница и знаешь точно, когда мне можно пить, а когда нельзя. А я теряю счет. Ты будешь мой счетовод.
Хуго в глубине души знал, что это неблагодарная должность и недалек тот день, когда Марьяна скажет: „Не суйся, не указывай мне, что делать“, но он согласился и сказал:
– Я буду стеречь бутылку, и когда потребуется, стану напоминать тебе.
– Ты мой самый лучший друг, только на тебя я могу положиться.
Той же ночью ему приснилось, что он в поле, усеянном цветами и обсаженном деревьями, и родители сидят с ним рядом. Они ездили в Карпаты во всякое время года, но весна и лето были их любимыми. Они гуляли, любовались видами, сидели на земле и легко закусывали, особенно не разговаривая. Подвозивший их извозчик ожидал их у одного из высоких деревьев. Обычно он выпивал лишнего и был навеселе.
По дороге домой он подшучивал над евреями, которые не пьют и всегда сохраняют трезвость ума.
– Здравомыслие, чтоб вы знали, доктор, – обращался он к папе, – не всегда помогает в жизни. Здравомыслие портит вкус жизни. Выпьешь три-четыре рюмашки, и сразу мир вокруг становится лучше.
– Излишняя выпивка вредна для здоровья, – отвечал папа.
– И тот, кто заботится о здоровье, в конце концов заболеет.
– Лежать в больнице – удовольствие незавидное.
– Все мы рано или поздно там будем, – провозглашал победным голосом извозчик.
Папа любил извозчиков. Он прислушивался к их просьбам и признаниям, иногда пытался слегка развеять их надуманную самоуверенность, но тут, разумеется, ничего не помогало, и они упрямились, скалой стояли за свой образ мыслей. В конце спора они говорили:
– Евреи упрямый, жестоковыйный народ, они своего мнения не меняют. Услышав эту фразу, папа разражался хохотом и говорил:
– Вы правы.
– И что мне толку от того, что я прав? – говорил извозчик и смеялся вместе с папой.
Но на этот раз было по-другому. Мама смотрела на Хуго в недоумении, как будто спрашивая:
– Почему ты мне не рассказываешь, что с тобой происходит?
Хуго уклончиво сказал:
– О чем рассказывать? Я был в Марьянином чулане.
– Это я знаю, это ведь я привела тебя к ней, но что ты там видел, что слышал, как проводил время?
– Это долгая история, – ответил он уклончиво.
– Мы когда-нибудь удостоимся услышать от тебя всю эту историю?
– Да что тут рассказывать? – попытался он снова увильнуть.
– Нам все интересно, – сказала мама со знакомой ему интонацией.
– Бывали дни длинные, как преисподняя, и дни короткие, как дуновение ветра, – ответил Хуго, радуясь, что нашел подходящие слова.
– Я не представляла себе, что получится еще прийти сюда.
– Невозможно забыть лето в Карпатах! – Речь вернулась к Хуго.
– Слава Богу, что мы снова вместе.
– Ты веришь в Бога? – он обрадовался, что в состоянии спрашивать, а не только выслушивать вопросы.
– Почему ты спрашиваешь?
– В нашей предыдущей жизни я не слышал, чтобы ты говорила „слава Богу“.
– Моя мама, твоя бабушка, иногда говорила „слава Богу“. А теперь я позволяю себе говорить ее языком, ведь в этом нет греха?
Тут вмешался папа – одетый, кстати, в белый костюм, придававший его фигуре ненавязчивый лоск – и сказал:
– Верования не приобретают и не переменяют с легкостью. Я остался тем, кем был.
– Я не верю своим ушам, – сказала мама и подняла голову.
– Разве я изменился? – спросил папа мягким голосом, чтобы разрядить создавшуюся напряженность.
– По-моему, все мы изменились. Ты около двух лет провел в рабочем лагере и строил мосты через реку Буг, Хуго был у Марьяны, а я работала как батрачка в поле. Разве это не изменило нас?
– Я чувствую, что постарел, но не переменился.
– А я изменился, – сказал Хуго и тронул крестик, висевший у него на груди. – Этот крестик спас меня.
Это заявление лишило родителей дара речи – так изумило их сказанное сыном, и ясно было, что они не будут больше спрашивать его, что и почему.
Марьянины муки без выпивки продолжались целый день. Каждое утро после завтрака Хуго подает ей бутылку, она делает несколько длинных глотков и говорит:
– Ты мой секрет, ты мой эликсир жизни, ты меня оживляешь.
Ради предосторожности она опрыскивает свое тело и одежду духами, говоря при этом:
– Никто не почует, что я выпивала.
Когда она грустна или подавлена и ей совсем невтерпеж, она говорит:
– Только один глоточек, не больше.
Хуго протягивает ей бутылку, она глотает и шепчет:
– Быстренько прячь бутылку, чтоб я ее не видела.
Когда ее товарки обнаруживают, что она выпила, они укоряют ее:
– Снова согрешила?
– Только глоточек.
– Поостерегись, у мадам нюх как у собаки.
Иногда в Марьянину комнату заходит ее подруга Кити. Кити очень маленького роста и похожа на девушку, которую по ошибке занесло сюда из школы. Она изящна, весела и развлекает своих товарок, и у нее, как выясняется, есть собственные клиенты, которые выбирают только ее.
Кити любит рассказывать о своих ощущениях, и иногда она повествует о них пространно и в подробностях. Марьяна и ее подруги о своих ощущениях не говорят. Их впечатления чаще всего выражаются одним словом или короткой фразой: „Скотина, отвратительный, мерзкий, чего еще можно ожидать от необузданного быка? Меня тошнит от него“. Лишь в редких случаях можно услышать: „Принес мне коробку конфет; рассказал о своем доме в Зальцбурге“.
Из их рассказов Хуго узнал, что в городе есть специальное подразделение, занятое охотой на евреев. Каждую неделю они отыскивают еще нескольких. Большинство из них казнят, а некоторых пытают до тех пор, пока они не выдадут убежища, где прячутся их знакомые. Немцы намерены истребить всех до последнего, услышал Хуго, и мурашки поползли у него по спине.
В один из дней дверь чулана открылась, и вошла Кити.
– Я пришла поглядеть на тебя, Марьяна мне много о тебе рассказывала.