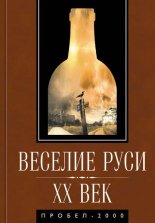Фея Альп Вернер Элизабет
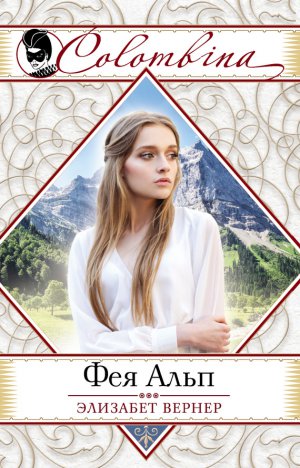
Барон не мог сомневаться относительно того, что это за частное дело, но так как поневоле должен был принять Герсдорфа в качестве юриста, то холодно произнес:
— Послезавтра, в пять пополудни, я к вашим услугам.
— Я буду пунктуален, — заверил его адвокат, прощаясь с Валли поклоном.
Последняя нашла, наконец, нужным покориться родительской власти и дать себя увезти, но на лестнице объявила с величайшей энергией:
— Папа, послезавтра я не позволю себя запереть: я должна присутствовать, когда он будет просить моей руки.
— Послезавтра ты будешь уже в деревне, — отчеканил Эрнстгаузен. — Ты отправишься с первым же поездом. Для верности я сам отвезу тебя на вокзал, а на станции тебя встретит дедушка, у которого ты пока и останешься.
Личико Валли, полное ужаса, выглянуло из-под белого капора, но затем она приняла в высшей степени воинственный вид.
— Этому не бывать, папа! Я не останусь у дедушки, я убегу, пешком вернусь в город!
— Посмотрим, как ты это сделаешь! Полагаю, ты знаешь старика и его принципы. Не забывай, после его смерти ты будешь блестящей партией.
— Ах, как мне хотелось бы, чтобы дедушка отправился в Монако и проиграл там все свои деньги! — гневно воскликнула Вали. — Или чтобы он усыновил какого-нибудь сироту и завещал ему свое состояние!
— Бога ради, дитя, что за ужасы тебе приходят в голову! — испуганно воскликнул Эрнстгаузен, но дочь продолжала, вне себя от возмущения:
— Тогда уж я не была бы «партией» и могла бы выйти за Альберта! Я каждый день буду молить Бога, чтобы дедушка выкинул бы какую-нибудь глупость, несмотря на свои семьдесят лет!
Навepxy парадные залы начинали пустеть и затихать; гости разъезжались, и, наконец, Нордгейм, проводив последних, остался в большом приемном зале один с Вольфгангом.
— Вальтенберг приглашает нас приехать осмотреть коллекцию редкостей, собранных им во время путешествий, — сказал он. — Едва ли у меня найдется на это время, но ты…
— А у меня еще меньше, — перебил его Эльмгорст. — Все три дня, которыми я могу еще располагать, уже заняты.
— Я знаю, и все-таки ты должен сопровождать Алису: она и Эрна обещали приехать, и я не желаю, чтобы приглашение было отклонено.
Вольфганг быстро спросил:
— Кто и что такое этот Вальтенберг? Ты относишься к нему как-то особенно предупредительно, а между тем он в первый раз сегодня в твоем доме. Ты знал его раньше?
— Да, его отец принимал участие в некоторых из моих предприятий.
Это был серьезный, осторожный делец и мог бы заработать миллионы, если бы прожил подольше. К сожалению, сын не унаследовал его практических наклонностей, он предпочитает разъезжать по свету и проводить время среди дикарей. Положим, его состояние позволяет ему предаваться подобной экстравагантной жизни, а теперь оно еще почти удвоилось, потому что несколько месяцев назад умерла его тетка и завещала все ему. Он для того только и вернулся, чтобы привести в порядок дела, и уже говорил об отъезде. Чудак!
Тон, которым Нордгейм говорил об этом человеке, показывал, что он не чувствует лично к нему ни малейшей симпатии, а между тем он только что отличал его среди всех гостей. Эльмгорст, видимо, был одного с ним мнения, потому что тотчас подхватил:
— Я нахожу его невыносимым! Он разглагольствовал за столом о своих путешествиях так, точно читал о них доклад. Только и слышалось, что «голубые бездны океана», «величественные пальмы» да «мечтательный цветок лотоса». Это было нестерпимо! Впрочем, фрейлейн фон Тургау, кажется, совсем увлеклась. Признаться откровенно, я нахожу, что поэтический восточный разговор носил слишком интимный характер для первого дня знакомства.
В этом замечании инженера слышалось с трудом сдерживаемое раздражение. Нордгейм, однако, не заметил этого и спокойно ответил:
— В данном случае я ничего не имею против короткости, даже напротив.
— То есть у тебя определенные намерения относительно их двоих?
— Да, — ответил Нордгейм. — Эрне девятнадцать лет, пора серьезно подумать о ее замужестве, и я как родственник и опекун, обязан возможно лучше ее обеспечить. За ней ухаживают, но с серьезными намерениями к ней никто не подойдет: она не партия.
— Она не партия, — машинально повторил Вольфганг, и его взгляд устремился в соседнюю комнату, где были дамы.
Алиса сидела на диване, а Эрна стояла рядом, и дверь образовывала как бы раму для стройной фигуры в белом.
— Я не могу винить за это мужчин, — продолжал Нордгейм. — Все наследство Эрны состоит из нескольких тысяч марок, полученных за Волькенштейнергоф, и хотя, само собой разумеется, я дам приданое своей племяннице, но это все равно, что ничего, для человека, привыкшего много требовать от жизни. Вальтенбергу нет надобности думать о деньгах — он сам богат, он из хорошего дома, словом, блестящая партия. Как только он вернулся, у меня сейчас же возникла эта мысль, и я думаю, дело сладится.
Он говорил таким деловым тоном, как будто речь шла о новой спекуляции. В сущности «обеспечение» племянницы было для него только сделкой, точно так же, как помолвка его собственной дочери: в первом случае девушки шла в обмен на состояние, а во втором — на ум и талант; и Нордгейм мог, не стесняясь, говорить об этом с будущим зятем, который смотрел на дело с той же точки зрения и действовал на основании тех же принципов. Однако в настоящую минуту лицо Эльмгорста было необычно бледно и его глаза с каким-то непонятным выражением не отрывались от ярко освещенной картины в раме открытой двери.
— И ты думаешь, что фрейлейн фон Тургау согласится? — спросил он, наконец, медленно, не сводя с нее взгляда.
— Не будет же она так глупа, чтобы оттолкнуть свое счастье! Правда эта девушка — такая же фантазерка и упрямица, как ее отец, и в некоторых пунктах с ней не справишься; но на сей раз, я думаю, мы будем одного мнения: Вальтенберг с его эксцентричными наклонностями как раз во вкусе Эрны. Мне кажется, она была бы в состоянии разделить с ним его сумасбродную кочевую жизнь, если он не решится отказаться от нее.
— Почему же нет! — жестко проговорил Вольфганг. — Ведь жизнь в чужих странах, без дела и забот, так бесконечно поэтична и интересна! Обязанностей никаких, любуйся и мечтай под пальмами, и так всю жизнь, ничего не делая и наслаждаясь! Я нахожу жалким человека, который не умеет сделать ничего большего из своего существования. Я не мог бы так жить!
— Ты положительно горячишься! — сказал Нордгейм, удивленный его запальчивостью. — Ты забыл, что Вальтенберг родился богатым и с самого начала уже стоял на высоте. Такие люди редко годятся для серьезной деятельности.
Он повернулся к вошедшему лакею, чтобы отдать какие-то распоряжения. Вольфганг, мрачный, неподвижный, продолжал стоять, не отрывая глаз от белой фигуры, от этого «существа, как бы сотканного из воздуха и снега горных вершин со сказочными цветами их вод на белокурых локонах». Едва слышно, но с выражением глубокой горечи он прошептал:
— Да, он богат и к тому имеет право быть счастливым!
7
Дом Вальтенберга располагался довольно далеко от центра города. Эта большая красивая вилла, стоящая среди сада, была выстроена отцом теперешнего владельца. Со времени его смерти она пустовала, потому что сын постоянно путешествовал; он поручил присмотр за виллой управляющему, который в числе других обязанностей, должен был также распаковывать посылки, приходящие время от времени из дальних стран, и расставлять присылаемые предметы. Наконец, по прошествии десяти лет, запертые ставни и двери опять отворились, и комнаты ожили.
Большая средняя комната с балконом сохраняла обстановку, заведенную при жизни старика. Здесь все было солидно и комфортабельно, как в старинных мещанских домах. Впрочем, люди, находившиеся в комнате в настоящее время, составляли весьма резкий контраст с ее обстановкой: негр с курчавыми волосами и стройный мальчик-малаец, оба в фантастических и живописных одеяниях хлопотали вокруг стола, расставляя на нем цветы и десерт, в то время как третий давал им нужные указания. Это был пожилой человек, высокий, костлявый, но, видимо, обладавший большой физической силой. В его коротко остриженных волосах уже пробивалась седина, морщинистое, обожженное солнцем лицо мало отличалось цветом от коричневой физиономии малайца, а на этом темном лице блестела пара чисто германских голубых глаз, и с губ срывались грубые, неподдельно немецкие звуки.
— Цветы на середину! — командовал он. — Стол должен иметь поэтический вид, сказал хозяин, значит, извольте постараться, чтобы это была сама поэзия. Саид, дурень, ну можно ли ставить две вазы с фруктами рядом, точно двух гренадеров! Ставь по концам стола! А ты куда лезешь с бокалами, Джальма? Вино должно быть на боковом столе, понял?
— О jes, master[1], — заверил негр, но немец накинулся на него, а заодно и на мальчика.
— Говорите по-немецки! Еще не выучились? Вы теперь в Германии, в этой покинутой Богом стране, где в марте еще можно отморозить нос, а солнце светит раз в месяц, да и то лишь по распоряжению начальства. Я так же не переношу ее, как и господин Вальтенберг, но если вы не научитесь у меня говорить по-немецки, то помилуй вас Бог!
— Я уже говорить немецки, мастер Хрон, чудесно! — объявил Саид с величайшим самодовольством.
— Чудесно, еще бы! Даже мое имя не умеешь выговорить. Меня зовут Фейт Гронау, а не «мастер Хрон», сто раз повторяю тебе одно и то же, но где же понять такому язычнику!
При этом упреке физиономия Саида выразила высшую степень оскорбления.
— Извините, я тож быть добрый христианин.
— По крайней мере, ты крещен, — сухо сказал Гронау. — А все-таки ты — полуязычник, а Джальма и совсем язычник: у него никакими силами не выбьешь из головы его Аллаха да Магомета и не втиснешь туда взамен Господа Бога. Джальма, отчего ты вытаращил глаза? Опять не понял, что я сказал?
Малаец отрицательно замотал головой, так что Саид со своим «чудесным» знанием языка счел себя обязанным прийти ему на помощь и перевести слова Гронау.
— Все это оттого, что господин постоянно говорит с вами на вашем тарабарском языке, — ворчал Гронау. — Ну, стол готов. Одни цветы да фрукты, а путного ничего, ни съесть, ни выпить. Надо полагать, в этом и заключается поэзия, по-моему же — просто сумасшествие. Впрочем, это одно и то же.
— И леди приедут? — с любопытством спросил Саид.
— Дамы! — поправил ментор. — Да, к сожалению, приедут. Удовольствия мало, зато честь, потому что в этой стране с ними обращаются до безобразия почтительно, совсем не так, как с вашими черными и коричневыми женщинами, так что вы подтянитесь!
Дверь отворилась, и вошел хозяин дома. Он мельком осмотрел стол, велел Саиду отправиться в переднюю, сказал несколько слов по-малайски Джальме, который вслед за этим тоже исчез, и обратился к Гронау:
— Господин Нордгейм просит извинить, что не может приехать, но остальные будут, господин Герсдорф тоже обещал. Следовательно, вы избежите на сегодня встречи, которой боялись, Гронау.
— Боялся? — повторил Фейт. — И не думал бояться! Конечно, невелико удовольствие получить милостивый кивок от товарища детских игр, с которым был когда-то на «ты», и представиться ему в некотором роде в качестве слуги.
— Моего секретаря, — с ударением поправил Вальтенберг. — Мне кажется, в этой должности нет ничего унизительного.
Гронау пожал плечами.
— Секретарь, дворецкий, компаньон — все в одном лице. Впрочем, вы всегда обращались со мной как с соотечественником, а не как с подчиненным. Когда вы выудили меня в Мельбурне, я почти умирал от голода, да и умер бы без вас, награди вас Господь!
— Вздор! — сказал Эрнст. — Вы стали для меня неоценимой находкой благодаря вашему знанию языков и практической опытности, и я думаю, мы оба вполне удовлетворяли друг друга в течение этих шести лет. Так вы с Нордгеймом были друзьями?
— Да, мы вместе выросли, как дети соседей, и потом наша дружба продолжалась, пока жизнь не разбросала нас. Он заранее предсказывал мне, что я останусь бедняком, — мне и Бенно Рейнсфельду, который был третьим в нашей компании.
Вальтенберг подошел к окну и с нетерпением смотрел на улицу, но слушал внимательно.
— Разумеется, мы все трое строили грандиозные планы, — продолжал Гронау с добродушной иронией. — Я собирался пуститься в Божий свет и вернуться набобом с мешками золота, Рейнсфельд хотел удивить человечество каким-нибудь изобретением, только умный Нордгейм молчал и поливал холодным душем наши горячие головы. «Из вас обоих ничего не выйдет, — говорил он, — потому что вы не умеете рассчитывать». Мы смеялись над этим двадцатилетним мудрецом, проповедующим трезвые взгляды и расчетливость, но он оказался прав. Я немало шатался по свету и за что только ни брался, всякий раз, что наживал, то и спускал, и остался беден, как церковная мышь. Рейнсфельд со всем своим талантом застрял где-то жалким инженеришкой, а наш товарищ Нордгейм стал миллионером, железнодорожным королем, и все оттого, что умел рассчитывать.
— Да, он всегда был на это мастер, — холодно сказал Вальтенберг. Однако вот и наши гости.
Он быстро отошел от окна и пошел встречать приехавших. Перед подъездом остановился экипаж, в котором сидела баронесса Ласберг с Алисой и Эльмгорстом. Вольфганг не мог уклониться от обязанности сопровождать невесту, а отказаться всем от приглашения под каким-нибудь предлогом казалось невозможным, так как его будущий тесть настойчиво желал, чтобы оно было принято. Эльмгорст покорился необходимости, но всякий, кто знал его ближе, мог бы видеть, что он приносит этим жертву, хотя у него, как и у хозяина, не было недостатка в любезности. Оба с первой минуты знакомства почувствовали друг к другу инстинктивную антипатию и проявляли только холодную вежливость.
— Фрейлейн фон Тургау немножко опоздает: она заехала к Эрнстгаузенам за баронессой Валли.
Сообщившая это баронесса Ласберг сама недоумевала. По ее расчетам, Валли еще вчера должна была уехать в деревню под надежную охрану дедушки и вдруг сегодня утром прислала Эрне записку с просьбой захватить ее с собой, когда они поедут к Вальтенбергу; следовательно, отъезд был на несколько дней отложен. Но неудовольствие баронессы превратилось в негодование, когда она увидела входящего Герсдорфа. Значит, настоящее свидание! И они осмелились приплести сюда еще и нордгеймских дам, встречаясь, так сказать, под их прикрытием! Это не могло, и не должно было оставаться скрытым от родителей, они сегодня же должны узнать все — и баронесса Ласберг, не имевшая ни малейшего расположения к роли ангела-хранителя, оказала Герсдорфу ледяной прием. Увы, это не произвело на Герсдорфа никакого впечатления, его лицо прямо-таки светилось, и он был необыкновенно оживлен и весел.
Тем временем Эрна, по уговору, подъехала к дому Эрнстгаузенов и послала наверх лакея. Через пять минут появилась Валли; она прыгнула в экипаж и бросилась на шею подруге так бурно, что та в испуге отшатнулась.
— Что с тобой, Валли? — спросила она. — Ты себя не помнишь!
— Я помолвлена! — ликовала Валли. — Я невеста Альберта, и через три месяца свадьба! О, чудный, несравненный дедушка! Я бросилась бы ему на шею, как сейчас тебе, если б только он не был такой противный.
— Твои родители согласились? Так вдруг? Ведь еще несколько дней назад это казалось невозможным.
— Нет ничего невозможного на свете! О, как я молила небо, чтобы Дедушка выкинул какую-нибудь глупость, но что ему придет в голову такая штука, мне и во сне не снилось!
— Да говори же толком! Скажи, наконец, в чем дело, — воскликнула Эрна, с неудовольствием глядя на сияющее счастьем лицо маленькой баронессы.
— Он женился, — выпалила Вали, — женился в семьдесят лет, и теперь он — новобрачный! Умереть можно со смеху! — И она, бросившись в подушки кареты, хохотала до того, что слезы выступили у нее на глазах.
— Старый барон… женился? — переспросила Эрна, не веря своим ушам.
— На какой-то девице из древнего-предревнего рода. Оказывается, все было решено, только дедушка держал это в тайне, потому что боялся сцен с моими родителями. Он для того и приезжал, чтобы взять назад из суда свое завещание, а как только вернулся, то сейчас же женился и все свое состояние отказал жене, и мы не получим ровнешенько ничего, и я больше не «партия»… Подумай только, какое счастье! Папа и твоя мудрая воспитательница составили настоящий заговор! Меня решили упаковать, как почтовую посылку, и отправить по адресу дедушки. Все мои слезы ни к чему не привели, и чемоданы были уже уложены. Вдруг приходит письмо от дедушки с уведомлением о свадьбе. У папы был такой вид, точно его хватил удар, у мамы сделалась истерика, а я протанцевала вокруг своей комнаты и выкинула вещи из чемоданов, потому что о поездке не могло быть и речи. На другое утро у нас в доме царило такое настроение, как будто целых десять громов грянуло. Дедушка попал в немилость, папа и мама вели долгие тайные переговоры, а когда после обеда явился Альберт, его сейчас же приняли.
— И ты чувствовала себя безгранично счастливой — могу себе представить! — вставила Эрна.
— Нет, сначала я была возмущена до глубины души!.. Альберт держал себя невыносимо прозаично, когда просил моей руки! Вместо того чтобы говорить о нашей вечной, безграничной любви и наших уже наполовину разбитых сердцах, он принялся самым точным образом высчитывать моим родителям, что приносит ему практика, сколько он уже заработал и сколько еще надеется заработать. Я была вне себя от этих отвратительных расчетов, разумеется, я опять стояла у замочной скважины и все слышала, — но папа и мама становились все приветливее. Под конец позвали меня, и пошли объятия, растроганные речи и слезы. Я тоже плакала и очень рассердилась на Альберта за то, что он не пролил ни единой слезинки. Дедушке отправили телеграмму — пусть немножко испортит ему медовый месяц, а завтра будет напечатано объявление о нашей помолвке, и через три месяца свадьба!
От избытка блаженства маленькая баронесса опять бросилась на шею подруге. Но в это время экипаж остановился перед виллой Вальтенберга, и для Валли наступил момент великого торжества, которым она насладилась вполне.
Пока хозяин здоровался с Эрной, Герсдорф поспешил навстречу невесте, чем навлек на себя мечущий молнии взгляд баронессы Ласберг.
— Я думала, что вы уже в деревне, баронесса, — сказала она Валли как нельзя более резким тоном.
— О нет, — возразила та с невиннейшей и кротчайшей улыбкой. — Я действительно собиралась съездить к дедушке, но так как он женился…
— Кто? — спросила старуха, думая, что ослышалась.
— Мой дедушка, барон Эрнстгаузен из Франкенштейна. А я тоже помолвлена: позвольте представить вам, баронесса, моего жениха.
Улыбка, с которой Вальтенберг принял это известие, показывала, что он уже знает новость. Зато баронесса Ласберг буквально лишилась языка и только когда кругом посыпались поздравления, овладела собой настолько, чтобы выговорить пожелание счастья; впрочем, оно звучало весьма холодно и церемонно, и было принято молоденькой невестой с самой прелестной злостью. Но Валли не могла долго злиться сегодня, избыток счастья и бьющая через край веселость заставили ее забыть все.
Вследствие этого обстановка стала очень непринужденной и оживленной, хотя на столе и не было «ничего путного ни съесть, ни выпить» по выражению Гронау. В таком же веселом настроении все встали из-за стола, чтобы идти осматривать коллекцию, под которую был отведен весь второй этаж дома.
Когда перед гостями отворилась высокая дверь, им в самом деле показалось, будто их перенесли на ковре-самолете в залитые солнцем, блещущие красками чужие края. Сокровища всех стран и широт были собраны здесь в таком громадном количестве, какое было доступно только человеку, путешествовавшему много лет и располагавшему неограниченными средствами. Однако расстановка этой во многих отношениях бесценной коллекции привела бы в отчаяние человека науки, потому что она не подчинялась никаким правилам, а имела единственную цель — произвести художественный эффект. И он был достигнут вполне.
Настоящие восточные ковры разнообразных рисунков и цветов покрывали стены и драпировали окна и двери. В простенках висело оружие самого странного вида, военное снаряжение различных племен, живущих вдали от всякой культуры, пестрые украшения из перьев, опахала из пальмовых листьев. Рядом с блестящими шелковыми тканями и затканными золотом вуалями располагалась удивительная утварь и посуда, начиная с глиняной кружки для воды и кончая драгоценными кубками из благородных металлов, лежали редкие раковины и подымались исполинские ветки кораллов. Тут на полу расстилалась львиная шкура, там пестрая змея с высунутым жалом выползала из мха у подножия группы растений; стаи птиц, блещущих яркими красками юга, как живые, качались на ветках, а огромный тигр смотрел на вошедших желтыми стеклянными глазами так грозно, точно готовился сделать прыжок. Саид и Джальма в своих живописных одеяниях дополняли эту фантастическую картину.
Вальтенберг был столь же сведущим, как и любезным гидом. Он вел своих гостей из комнаты в комнату, с удовольствием отмечая, что его сокровища вызывают восторг. Само собой выходило, что, давая объяснения, он говорил и об обстоятельствах, при которых приобрел то или другое свое сокровище, и о месте, где это было, и таким образом развертывал перед глазами слушателей картину жизни, пестрой сменой опасностей и удовольствий, походившей на опьяняющую волшебную сказку. То, что он обращался преимущественно к Эрне, было вполне естественно: она одна действительно понимала и чувствовала своеобразный фантастический характер окружающего — он видел это по ее замечаниям. Эльмгорст, очевидно, нарочно не хотел показывать интереса и хранил вежливую, холодную сдержанность, Алиса же и баронесса Ласберг проявляли только поверхностное любопытство, которое всегда возбуждает все необычное.
Герсдорф служил проводником для своей невесты, но это была нелегкая задача, потому что Валли хотела все видеть и всем восхищалась, но видела, в сущности, только своего Альберта и не отпускала его от себя ни на шаг. Она порхала вокруг него, подобно одному из легкокрылых колибри из коллекции, кричала от восторга при виде какого-нибудь незнакомого удивительного предмета, как расшалившийся ребенок, к великому неудовольствию баронессы Ласберг, которая, наконец, почувствовала себя обязанной вмешаться, хотя по опыту знала, как мало это принесет пользы.
— Милая баронесса, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что и невеста должна соблюдать приличия, — начала она свое поучение в одной из оконных ниш. — Ей следует помнить о своем женском достоинстве, а не показывать всем и каждому, что она вне себя от счастья. Помолвка — это…
— Нечто дивно прекрасное! — перебила ее Вали. — Интересно было бы знать, как держал себя в день помолвки дедушка: хотелось ли ему так же танцевать, как мне?
— Можно подумать, что вы еще совсем дитя, Валли! Посмотрите на Алису: она тоже невеста и тоже всего несколько дней, как стала ею.
Валли с выражением комического ужаса сложила руки.
— Да, но быть такой невестой — не дай Бог! Впрочем, пардон, Алиса совершенно довольна, а господин Эльмгорст ведет себя в высшей степени примерно. Только и слышно: «Что угодно, милая Алиса?», «Как прикажешь, милая Алиса!» Но если бы мой жених высказывал по отношению ко мне такую скучную, холодную учтивость, я сию же минуту вернула бы ему кольцо.
Баронесса Ласберг, вздохнув, отказалась от надежды внушить чувство приличия молодой девушке. Валли стрелой вылетела из ниши и тотчас повисла на руке жениха.
Эльмгорст разговаривал с Гронау, который был представлен ему, как и остальным, в качестве секретаря. Разговор шел, разумеется, о коллекции; указывая на негра и малайца, которые по знаку своего господина подавали то один, то другой предмет, чтобы его могли рассмотреть вблизи, Вольфганг сказал:
— Господин Вальтенберг, кажется, любит чужеземное и в своем ближайшем окружении: он взял себе прислугу из разных широт, да и вы, несмотря на ваше имя и немецкий язык, кажетесь иностранцем.
— Совершенно справедливо, — подтвердил Гронау. — Я не был в Германии двадцать пять лет и уже не думал, что когда-нибудь еще увижу старую Европу. Мы с господином Вальтенбергом встретились в Австралии; этого чернокожего, Саида, мы привезли с собой из турне по Африке, а Джальму нашли всего год назад на Цейлоне, вот отчего он так еще глуп. Теперь нам не хватает китайца с косой и каннибала с островов Тихого океана, тогда зверинец будет полон.
— О вкусах не спорят, — ответил Эльмгорст, пожимая плечами. — Боюсь только, что господин Вальтенберг по всем своим привычкам станет до такой степени чужим родине, что, в конце концов, окажется не в состоянии жить здесь.
— Да мы и не имеем ни малейшего намерения здесь жить, — заявил Гронау с грубой откровенностью. — Мы уедем, как только будет можно.
При последних словах из груди Вольфганга невольно вырвался вздох облегчения.
— Вы, кажется, не особенно высокого мнения о своем отечестве? — заметил он.
— Далеко не высокого. Надо стоять выше национальных предрассудков, говорит господин Вальтенберг, и он прав. Он прочел мне целую лекцию на эту тему, когда я на обратном пути сцепился с хвастунишкой-американцем, осмелившимся ругать Германию.
— И вы с ним из-за этого поссорились?
— В сущности, нет, я только разбил ему нос, — хладнокровно ответил Гронау. — До ссоры дело не дошло, потому что он сию же минуту очутился на полу. Понятно, он вскочил и в ярости побежал к капитану требовать удовлетворения, и капитан явился ко мне с выговором, но получил в ответ несколько немецких грубостей; под конец вмешался господин Вальтенберг и заплатил этому человеку за разбитый нос, а ко мне все на пароходе почувствовали необычайное почтение.
— Да, мне стоило труда замять эту историю, — сказал Вальтенберг, услышавший последние слова. — Если бы американец не удовлетворился деньгами, то за нарушение порядка на судне пришлось бы серьезно поплатиться. Вы вели себя, как рассерженный боевой петух, Гронау, а между тем дело выеденного яйца не стоило. Кому какое дело до чужих мнений? Этот человек отстаивал свою точку зрения, как вы свою, и имел на это полное право.
— Кажется, вы действительно выше «национальных предрассудков», господин Вальтенберг, — сказал Вольфганг с иронией.
— По крайней мере, я считаю честью для себя быть по возможности свободным от них, — прозвучал вполне определенный ответ.
— Есть обстоятельства, когда человек не может и не должен быть от них свободен. Возможно, вы и правы, но я в данном случае на стороне господина Гронау и поступил бы точно так же.
— В самом деле? Удивительно, я менее всего ожидал бы этого от вас. По-моему, вы вряд ли способны позволить себе увлечься. Весь ваш облик дышит такой уверенностью и спокойствием, таким полнейшим самообладанием, что я убежден — вы при любых обстоятельствах хорошо знаете, что делаете. Мы, идеалисты, к сожалению, не таковы, нам следовало бы поучиться у вас.
Слова Вальтенберга звучали вежливо, даже любезно, но Вольфганг почувствовал скрытую в них шпильку и, смерив противника взглядом с головы до ног, произнес:
— Вот как! Вы считаете себя идеалистом?
— Разумеется. Или, может быть, вы причисляете себя к идеалистам?
— Нет, — холодно сказал Вольфганг. — Но я причисляю себя к людям, которые не сносят оскорблений, и в случае надобности докажу это.
Он поднял голову так вызывающе, что Вальтенберг понял необходимость пойти на попятную. Но вся его душа восставала против того, чтобы уступить «карьеристу», и, может быть, разговор принял бы весьма серьезный оборот, если бы не вмешался Герсдорф. Не подозревая, что тут происходит, он совершенно непринужденно обратился к Вольфгангу:
— Я только что узнал, что вы завтра уезжаете. Могу я просить вас передать от меня поклон моему кузену Рейнсфельду?
— С удовольствием. Можно сообщить ему также о вашей помолвке?
— Пожалуйста. Я напишу ему подробно и, возможно, заеду с женой во время свадебного путешествия…
Вальтенберг отошел. Он вовремя вспомнил, что как хозяин дома не должен вызывать ссору со своим гостем, и потому разговор прервался для него чрезвычайно кстати. Но Гронау остался и слышал слова Герсдорфа.
— Виноват, господа! — вмешался он. — Вы упомянули сейчас имя, знакомое мне с детства. Вы говорите об инженере Бенно Рейнсфельде из Эльсгейма?
— Нет, о его сыне, — сказал Герсдорф, немного удивленный, — о молодом враче, товарище господина Эльмгорста.
— А отец?..
— Давно умер, больше двадцати лет назад.
Коричневое лицо Гронау как-то странно передернулось, и он быстро провел рукой по глазам.
— Да, конечно, я и сам мог бы это сообразить. Когда спрашиваешь о ком-нибудь после двадцати пяти лет отсутствия, то должен ожидать, что смерть уже похозяйничала в рядах старых друзей и товарищей. Так Бенно Рейнсфельд умер! Он был лучшим из всех нас и самым даровитым. Но богатства он, верно, не нажил при всем своем таланте изобретателя?
— Разве у него был такой талант? — спросил Герсдорф. — Я никогда не слышал об этом. Во всяком случае, он не достиг известности, потому что умер простым инженером. Его сын пробился в люди исключительно собственными силами, но стал дельным врачом, спросите господина Эльмгорста.
— Даже превосходным врачом, — подтвердил Вольфганг. — Только он слишком скромен, не умеет обратить внимания на себя и свою деятельность.
— Это у него от отца, — сказал Гронау. — Тот всегда оставался на заднем плане и позволял эксплуатировать себя всякому, кому не лень. Царствие ему небесное! Это был самый лучший, верный товарищ, какого только посылала мне судьба…
Тем временем Вальтенберг стоял с Эрной в другом конце зала. Показывая ей редкие кораллы, он спросил:
— Так вам интересно? Я был бы очень счастлив, если бы мои «сокровища», как вы их называете, возбудили нечто большее, чем мимолетный интерес. Может быть, они до известной степени оправдают меня в ваших строгих глазах, в которых я до сих пор читаю упрек. Признайтесь, вы не можете простить всесветному бродяге того, что он стал чужим своей родине?
— Но, по крайней мере, я нашла ему теперь извинение, — ответила Эрна с улыбкой. — В этом сказочном мире, который окружает нас здесь, в самом деле, есть что-то чарующее: невозможно не поддаться его обаянию.
— А между тем это только немые, мертвые свидетели жизни, которая кипит там, вдали, во всей своей никогда не иссякающей полноте. Если бы вы увидели все это живым и на своем месте, то поняли бы, почему я не могу долго выдержать под здешним холодным северным небом, почему меня неудержимо тянет назад, в страны, где светло и тепло. Вы и сами не уехали бы оттуда.
— Может быть. Но может быть и так, что в ваших солнечных странах мною овладела бы тоска по моим холодным родным горам. Однако не будем спорить, решить этот вопрос можно было бы, только попробовав, а я едва ли когда-нибудь попробую. Мы, женщины, не пользуемся безграничной свободой, не можем разъезжать по свету одни, ни о чем не заботясь, как вы.
— Одни! — повторил Эрнст, понижая голос. — Вы могли бы вверить свою охрану человеку, который показал бы вам этот мир, и для которого было бы счастьем ввести вас в царство света и тепла. Может быть, вы вступите в него когда-нибудь об руку… с мужем.
Последнее слово было произнесено так тихо, что Эрна одна могла слышать его. Пораженная, она вопросительно взглянула на собеседника и встретилась с устремленным на нее жгучим, страстным взглядом. Она побледнела и невольно отшатнулась.
— Это в высшей степени неправдоподобно, — проговорила она, — для такой жизни надо иметь природные задатки, а я…
— У вас есть задатки! — перебил Вальтенберг почти бурно. — У вас одной из сотен женщин! Я убежден в этом!
— Неужели вы такой знаток людей? — сдержанно спросила Эрна. — Мы видимся сегодня только второй раз, при таких условиях судить о чужом характере довольно смело.
— Вы правы, фрейлейн, — ответил Вальтенберг обиженно. — В здешнем мире формальностей и церемоний легко ошибиться в суждении о чьем-либо характере. Здесь не признают горячих душевных движений, и пылкое слово, невольно сорвавшееся с языка, считается дерзостью. Здесь на все есть свое время и свои правила… Прошу извинить, я забыл об этом!
Он поклонился и отошел к другим дамам.
Эрна с облегчением перевела дух. Она принимала явное предпочтение хозяина дома без всякой задней мысли, не придавая ему значения и не подозревая о планах дяди. Именно поэтому она не могла сердиться на этого человека, далекого от всяких расчетов. С его стороны, конечно, смело делать такие намеки уже при второй встрече, но они отнюдь не были оскорбительными, а Эрна даже любила все смелое, необычное, все, что не следует принятым правилам и формам. Почему же ее испугало это полупризнание, почему ее охватил такой жгучий страх при мысли, что она действительно может быть поставлена в необходимость дать решительный ответ. Она сама не могла объяснить это себе.
Баронесса Ласберг напомнила, что пора ехать. В самом деле, гости засиделись и начали поспешно прощаться. Последовал обмен приветствиями и выражениями благодарности. Вальтенберг прилагал все усилия, чтобы до последней минуты оставаться любезным хозяином, но ему никак не удавалось справиться с дурным настроением, в которое привело его окончание разговора с Эрной. В его поведении чувствовалась натянутость, когда он провожал гостей, и для него было облегчением, что они, наконец, уезжают. Мрачно посмотрел он вслед отъезжающему экипажу и пошел назад в только что покинутые комнаты.
Вальтенберга глубоко рассердил полученный от Эрны отпор, подействовавший на этого страстного человека, как дыхание ледяного севера, и он искал успокоения в своем возлюбленном Востоке, окружавшем его своей красочной роскошью. Но как будто и здесь остался след от пронесшегося холодного дыхания: все вдруг показалось Эрнсту бесцветным, безжизненным! Это было лишь мертвое подражание действительности.
— Мастер Хрон, что с господином? — спросил Саид, входя с Джальмой через некоторое время в комнату с балконом, чтобы убрать со стола.
— Он хочет быть один, он в очень дурном духе.
— Да, в очень дурном, — подтвердил Джальма, научившийся пока лишь нескольким немецким словам.
Гронау и сам заметил, что Вальтенберг расстроен, но не мог объяснить себе причины, а потому помедлил с ответом. Но он никогда не лез за словом в карман и на этот раз, сам того не подозревая, напал на истину, когда заявил коротко и ясно:
— Это оттого, что он пригласил дам. От них всегда бывают неприятности.
— О! Всегда? — спросил Саид, которому дело казалось не совсем ясно.
— Всегда! — решительно повторил Гронау. — Белые они, черные или коричневые — безразлично: все приносят с собой неприятности, а потому надо обходиться без них и держаться от них подальше. Зарубите это себе носу, повесы вы этакие!
8
Наступило лето — впрочем, для гор только начало лета, потому что была всего половина июня, но леса и луга уже оделись свежей зеленью, и только снежные вершины стояли в своем белом одеянии, которого никогда не снимали.
Величественная альпийская долина, еще три года тому назад не тронутая людьми, строгая и пустынная, теперь всюду носила следы деятельности человека, вторгшегося сюда с полчищем служащих ему сил. В каменных стенах зияли отверстия туннелей, снизу змеей поднималась тонкая линия железной дороги, которой лес и скалы вынуждены были дать место, а над ущельем висел шедевр всего грандиозного сооружения — Волькенштейнский мост, почти уже законченный и как бы парящий на головокружительной высоте.
Нелегко было провести здесь дорогу, и именно волькенштейнский участок представлял для этой смелой затеи самые большие затруднения. Тщательным образом продуманные планы оказывались ошибочными, вспомогательные средства, на которые рассчитывали с полной уверенностью, не давали желаемого результата, происходили непредвиденные катастрофы, и не раз возникало сомнение в возможности окончания работ.
Но во главе волькенштейнского участка стоял человек, которому это трудное дело было по плечу; его не пугали никакие препятствия, и никакая катастрофа не лишала его мужества. Несмотря ни на что, он подвигался со своими рабочими вперед и шаг за шагом подчинял себе горы.
Железнодорожное общество оценило теперь выбор Нордгейма, против которого сильно возмущались вначале. Мало-помалу Эльмгорст получил почти неограниченную власть и сумел удержать ее в своих руках и пользоваться ею. Главный инженер давно уже давал делу только свое имя; каждая новая мысль, каждое решение исходило от энергичного и талантливого начальника его штаба, то есть Эльмгорста, а с тех пор как последний обручился с дочерью Нордгейма и за ним стояли миллионы, всякая оппозиция смолкла.
От Волькенштейнергофа не осталось и следа; дом был разрушен вскоре после того, как закрыл глаза его владелец, и на том месте, где стояло старое родовое гнездо Тургау, возвышалось теперь внушительное здание, будущая станция, расположенная у самого начала большого моста. До открытия железнодорожной линии в нем временно помещалось техническое бюро, а верхний этаж занимал Эльмгорст. Здесь была, так сказать, главная квартира волькенштейнского участка и, таким образом, центр всей железнодорожной линии.
Вольфганг и тут устроился с комфортом. Высокие, светлые комнаты имели очень уютный вид, особенно рабочий кабинет с темно-зелеными драпировками и коврами, с резной дубовой мебелью и шкафами, полными книг. Из углового окна открывался вид на мост, так что сооружение постоянно находилось перед глазами своего творца.
Эльмгорст сидел у письменного стола и разговаривал с только что пришедшим Бенно Рейнсфельдом. Молодой врач нисколько не изменился, разве только стал еще более неуклюжим и массивным. Сказывалось продолжительное пребывание в захолустном горном местечке, утомительная деревенская практика, оставлявшая ему очень мало свободного времени, и общение исключительно с людьми, не обращавшими никакого внимания на внешность.
Впрочем, в настоящую минуту доктор был в полном параде — на нем был черный сюртук, в котором он щеголял лишь в чрезвычайных случаях и который отстал от моды, по крайней мере, на десять лет. Но и в нем Рейнсфельд выглядел не слишком респектабельно, потому что сюртук сильно стеснял его, гораздо лучше чувствовал он себя в своей серой куртке и войлочной шляпе. Доктор несколько омужичился и, очевидно, сам чувствовал это, потому что с самым сокрушенным видом выслушивал упреки товарища, который, осмотрев его, покачал головой и спросил с раздражением:
— И ты хочешь, чтобы я представил тебя дамам в этом одеянии? Почему ты не надел фрак?
— У меня его нет, здесь он совершенно не нужен. Зато я дал заново вычистить мою старую шляпу и купил в Гейльборне перчатки, — произнес Бенно и вынул из кармана пару исполинских перчаток кричащего желтого цвета.
Эльмгорст, в ужасе вытаращив на них глаза, воскликнул:
— Но, чудак ты этакий, неужели ты собираешься надеть эти чудовища? Ведь перчатки велики тебе!
— Зато совсем новые и такого красивого желтого цвета! — обиженно возразил Бенно, так как рассчитывал, что эта принадлежность туалета, на приобретение которой он решился лишь после долгих колебаний, непременно заслужит одобрение.
— Ты будешь представлять у Нордгеймов весьма интересную фигуру! — сказал Эльмгорст, пожимая плечами. — Просто не знаю, как и быть с тобой!
— Вольф… неужели нельзя обойтись без этого визита?
— Нельзя, Бенно. Я хочу, чтобы ты лечил Алису, пока она здесь, потому что меня серьезно беспокоит ее болезненность. У нее перебывали всевозможные врачи Гейльборна и столицы, но каждый ставил новый диагноз, а помочь ни один не смог. Ты знаешь, как я доверяю твоей профессиональной проницательности, и не откажешь мне в этой дружеской услуге.
— Конечно, не откажу, но ведь ты знаешь, почему мне неприятно вступать в сношения с Нордгеймом.
— Неужели из-за той его ссоры с твоим отцом? Кто станет вспоминать об этом через двадцать лет? До сих пор я, как ты просил, избегал упоминать там твое имя, но теперь, когда мне нужно, чтобы ты помог моей невесте, волей-неволей должен представить тебя. Впрочем, сегодня вы даже не встретитесь с моим тестем: он собирался уехать утром. Признайся, Бенно, истинная причина вовсе не в этом: ты просто боишься дамского общества, потому что привык к своей деревенской практике.
Рейнсфельд ничего не возразил и только глубоко вздохнул.
— Такая жизнь, в конце концов, совсем засосет тебя, — продолжал Вольфганг. — Уже целых пять лет ты сидишь в этой жалкой деревушке и возишься с практикой, которая требует от тебя неслыханного напряжения сил, а приносит самый скудный заработок. Пожалуй, ты и всю жизнь просидишь здесь единственно потому, что у тебя недостает мужества протянуть руку, когда тебе представляется что-нибудь получше. Как только ты выдерживаешь в такой обстановке?
— Да, моя квартира действительно немножко отличается от твоих салонов, но, видишь ли, надо по одежке протягивать ножки, а моя одежка коротковата. У тебя всегда были замашки миллионера, ты еще юнцом дал себе слово сделаться им и, надо отдать тебе справедливость, умеешь ловить случай.
Эльмгорст, нахмурившись, ответил с раздражением:
— Вечно и всюду намеки на богатство Нордгейма! Право, можно подумать, будто все мое значение единственно в том, что я — жених его дочери. Неужели сам по себе я ничего не значу?
— Что это тебе пришло в голову, Вольф? — с удивлением взглянул на него врач. — Ты знаешь, что я от души рад твоему счастью. Ты становишься удивительно щепетилен, как только речь заходит об этом, а между тем имеешь полное основание гордиться: уж если кто достиг своей цели быстро и блистательно, так это ты.
На письменном столе Вольфганга стоял портрет Алисы. Он был похож, но далеко не льстил ей, потому что нежные, мягкие черты ее лица расплылись на фотографии, а глаза были почти лишены выражения. Эта девушка в чересчур богатом туалете производила впечатление нервной, разочарованной дамы, каких немало в большом свете. Казалось, доктор Рейнсфельд был именно такого мнения; он взглянул на портрет, потом на товарища и сухо заметил:
— Но счастлив ты от этого не стал.
— Почему? Что ты хочешь этим сказать?
— Ну, чего ты кипятишься? Я не знаю, в чем дело, но ты переменился в последние месяцы. Когда я получил из города известие о твоей помолвке, то думал, что ты вернешься сияющий, потому что твои мечты осуществились, а ты все время серьезен, не в духе и раздражителен в высшей степени, тогда как прежде отличался спокойствием и рассудительностью. Что с тобой? Если бы в твоей помолвке играло роль сердце, то я подумал бы, что здесь что-нибудь не в порядке, но…
— У меня нет сердца, ты достаточно часто говоришь мне это, — с горечью перебил его Вольфганг.
— Да, у тебя есть только честолюбие, больше ничего, — серьезно сказал Бенно.
— Не начинай проповеди, Бенно! Ты знаешь, что мы расходимся в этом пункте. Ты всегда был и будешь…
— Экзальтированным идеалистом, готовым скорее есть со своей возлюбленной сухой хлеб, чем разъезжать в экипаже рядом с супругой-аристократкой. Уж я от природы такой непрактичный, и пока у меня даже хлеба не хватит на двоих, так что счастье мое, что у меня нет возлюбленной.
— Пора идти, — сказал Вольфганг, желая прекратить этот разговор, — Алиса ждет меня в двенадцать. Сделай одолжение, последи за собой хоть немножко. Я думаю, что ты и поклониться-то как следует не умеешь.
— С моими пациентами мне в этом и надобности нет, — упрямо ответил Бенно. — Они довольны и тем, что я помогаю им без поклонов; если же я осрамлю тебя перед твоей знатной невестой, то ты сам виноват: зачем тащишь меня к ней, как овцу на заклание? Надеюсь, по крайней мере, что хоть фрейлен фон Тургау приехала вместе с ней?
— Да.
— Может быть, и она стала важной дамой?
— В твоем понимании — разумеется.
Эти сухие ответы звучали далеко не утешительно для бедного доктора, но он не осмелился сопротивляться, так как привык, чтобы товарищ командовал им. Поэтому он взял со стола свою «заново вычищенную» шляпу и, принимаясь натягивать желтые перчатки, покорно проговорил:
— Ну, что же! Уж если нельзя иначе, так и быть, пойдем, благословясь!
Несколько выше железнодорожной линии, на расстоянии получаса ходьбы от будущей станции, стояла новая вилла Нордгейма, к которой вела специально проложенная удобная дорога. Дом был выстроен в обычном для этой горной местности стиле и гармонировал с окружающей природой, но, несмотря на наружную простоту, как нельзя лучше отвечал требованиям Нордгеймов. Местоположение было выбрано превосходно, отсюда открывался вид на самую красивую часть горного хребта. Луг, окружавший дом, был превращен в цветник, а ближайший лес — в небольшой природный парк. Все это стоило большого труда и невероятных издержек, но Нордгейм не останавливался перед расходами, когда затевал что-нибудь, и предоставил архитектору неограниченные полномочия. И Эльмгорст действительно создал маленький шедевр из горного замка, предназначавшегося в приданое его невесте.
Во внутреннем убранстве о простоте уже не заботились. В вестибюль и на лестницы свет проникал сквозь стекла, покрытые драгоценной живописью; устланная коврами лестница вела в длинную анфиладу комнат, которые мало чем уступали в роскоши и комфорте салонам в городском доме Нордгейма. Это были прелестные гнездышки, и из каждого открывался восхитительный вид.
Нордгейм прибыл с семьей в свои новые владения несколько дней назад. Алиса, которой доктора рекомендовали горный воздух, должна была провести здесь два летних месяца. Сам Нордгейм приехал лишь ненадолго для осмотра работ на линии и только остановился на вилле, вместо Гейльборна, где останавливался прежде. В настоящее время дела снова отзывали его в город. Он уехал бы еще утром, но получил письма, требовавшие немедленного ответа, и это задержало его на несколько часов. Экипаж уже подали, однако Нордгейм зашел еще к племяннице, с которой хотел поговорить до отъезда.
Комната Эрны находилась в верхнем этаже; дверь на веранду была отворена, и перед ней, растянувшись на солнышке, лежал Грейф. Собака была по существу единственным, что она взяла с собой из родного дома, но зато это единственное она отстаивала со всей страстностью своей натуры против дяди и баронессы Ласберг, не желавших терпеть в доме эту «несносную тварь». Собака осталась, но после бурной сцены: Эрна решительно отказывалась покинуть дом, если ей не позволят взять с собой Грейфа, и Нордгейм уступил, наконец, с условием, чтобы собака не показывалась в комнатах, занимаемых семьей. И Грейф никогда не показывался в них.
Очевидно, что-то необыкновенное привело Нордгейма к Эрне, потому что вообще у него не было свободного времени для семьи, члены ее видели его всегда только за обедом и то, если он не был в отъезде, а уезжал он часто на несколько дней или недель. Даже к дочери он относился очень холодно, а с племянницей обращался совсем как с чужой. Он жил исключительно своей деятельностью, все другое, и семейные отношения в том числе, имело для него второстепенное значение. Он был уже в дорожном пальто и заговорил, не садясь, вскользь, точно мимоходом:
— Я хотел сказать тебе, Эрна, что час назад получил письмо от Вальтенберга. Он приехал вчера в Гейльборн и собирается провести здесь несколько недель; вероятно, завтра он сделает вам визит.
Девушка приняла это известие равнодушно и спокойно ответила:
— Да? Так я предупрежу Алису и баронессу.
— Баронесса уже знает и сумеет оказать гостю должное внимание, но я желаю, чтобы он встретил это внимание и… с твоей стороны. Слышишь, Эрна?
— Я никак не думала, дядя, чтобы меня можно было упрекнуть в недостатке внимания к твоему гостю.