Сердца в Атлантиде Кинг Стивен
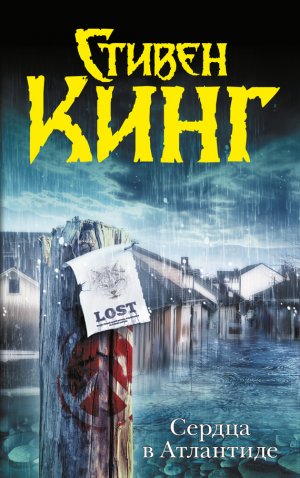
— Никаких катаний.
Мы пошли дальше. В те дни стоянка казалась мне огромной — сотни машин, десятки и десятки в каждом облитом луной ряду. Я с трудом вспомнил, где поставил «универсал» моего брата. Когда я последний раз побывал в УМ, стоянка оказалась в три, если не в четыре раза шире и вмещала тысячу с лишним машин. Проходит время, и все становится больше. Кроме нас.
— Пит? — Идет. Опять смотрит вниз на свои кроссовки, хотя теперь мы шли по асфальту, и листьев, чтобы загребать их ногами, там не было.
— А?
— Я не хочу, чтобы ты порвал с Эннмари из-за меня. Потому что мне кажется, у нас это… временно. Ведь так?
— Угу. — Мне стало горько от ее слов. На языке граждан Атлантиды это называлось получить по шеям — но удивлен я не был. — Наверное, так.
— Ты мне нравишься, и сейчас мне нравится бывать с тобой, но это только симпатия и ничего больше. Будем честны. Так что если хочешь держать рот на замке, когда поедешь домой на каникулы, то…
— Держать ее дома на всякий пожарный случай? Как запаску в багажнике на случай прокола?
Она посмотрела на меня с недоумением, потом засмеялась.
— Touche[29], — сказала она.
— В каком смысле touche?
— Даже не знаю, Пит… но ты мне правда нравишься.
Она остановилась, повернулась ко мне и обняла меня за шею. Некоторое время мы целовались между двумя рядами машин, пока у меня не встало настолько, что она не могла не почувствовать. Тут она чмокнула меня в губы, и мы пошли дальше.
— А что тебе сказал Салл? Не знаю, имею ли я право спрашивать, но…
— …но тебе нужна информация, — сказала она резким голосом Номера Второго. Потом засмеялась. Грустным смехом. — Я ждала, что он рассердится или даже заплачет. Салл могучий парень и до чертиков пугает противников на футбольном поле, но чувства у него все нараспашку. Чего я не ожидала, так это облегчения.
— Облегчения?
— Облегчения. Он с месяц, если не дольше встречается с девушкой в Бриджпорте… только мамина подруга Рионда сказала, что она, собственно, женщина лет двадцати четырех — двадцати пяти.
— Прямо-таки защита от бед, — сказал я, надеясь, что прозвучало это спокойно и задумчиво. На самом деле я возликовал. Ну, а как же? И если бедненький нежносердечный Джон Салливан вляпался в сюжет песни в стиле кантри-вестерн в исполнении Мерль Хаггард, так четыреста миллионов красных китайцев насрать на это хотели, а я так вдвойне.
Мы уже почти дошли до моего «универсала». Еще одного драндулета среди таких же, но по доброте моего брата он принадлежал мне.
— У него есть кое-что поважнее нового любовного увлечения, — сказала Кэрол. — Когда в июне он окончит школу, то пойдет в армию. Уже поговорил с вербовщиком и все устроил. Ждет не дождется отправиться во Вьетнам и приступить к спасению мира для демократии.
— Ты с ним поспорила из-за войны?
— Да нет. Что толку? И что я могла бы ему сказать? Что для меня тут дело в Бобби Гарфилде? И что все словеса Гарри Суидорски, и Джорджа Гилмена, и Хантера Макфейла только дымовая завеса и игра зеркал в сравнении с тем, как Бобби нес меня вверх по Броуд-стрит? Салл подумал бы, что я сбрендила. Либо сказал бы, что я чересчур умна. Салл жалеет чересчур умных. Говорит, что умничанье — это болезнь. И, может быть, он прав. Я ведь его вроде бы люблю, знаешь ли. Он очень милый. И еще он один из тех ребят, которые нуждаются в ком-то, кто их опекал бы.
«Надеюсь, он найдет какую-нибудь другую опекуншу, — подумал я. — Лишь бы не тебя».
Она взыскательно осмотрела мою машину.
— Ну, ладно. Она безобразна и настоятельнейшим образом нуждается в том, чтобы ее вымыли, но при всем при том это средство передвижения. Вопрос: что мы делаем здесь в то время, когда мне следовало бы читать рассказ Флэннери О'Коннор?
Я достал перочинный нож и открыл его.
— У тебя в сумочке есть пилка для ногтей?
— По правде сказать, имеется. Мы будем драться? Номер Второй и Номер Шестой выясняют отношения на автомобильной стоянке?
— Не остри. Просто достань ее и следуй за мной.
К тому времени, когда мы обошли «универсал», она уже смеялась, и не грустным смехом, но заливчатым, который я впервые услышал, когда на конвейере прибыл похабный человек-сосиска Скипа. Она наконец поняла, зачем мы пришли сюда.
Кэрол принялась соскабливать наклейку на бампере с одного конца, я с другого, пока мы не встретились на середине. И мы смотрели, как ветер кружит обрывки на асфальте. Au revoir[30] Au H2O–4–USA. Прощай, Барри. И мы хохотали, просто не могли остановиться.
22
Пару дней спустя мой друг Скип, который приехал в университет с политической сознательностью моллюска, повесил на своей половине комнаты, которую делил с Брадом Уизерспуном, плакат, изображавший сияющего улыбкой бизнесмена в костюме-тройке. Одну руку бизнесмен протягивал для рукопожатия. Другую — прятал за спиной, но она сжимала что-то такое, из чего капала кровь в лужицу между его ботинками. «ВОЙНА ДОХОДНОЕ ДЕЛО, — гласила надпись. — ВЛОЖИТЕ СВОЕГО СЫНА!»
Душка пришел в ужас.
— Так ты что — против войны во Вьетнаме? — спросил он, увидев плакат. Думаю, воинственно выставленный вперед подбородок нашего любимого старосты маскировал шок и растерянность. Как-никак Скип в школе был первоклассным бейсболистом. И считалось, что он будет играть за университет. Его уже обхаживали «Дельта-тау-дельта» и «Фи-гамма», самые наши престижные спортивные общества. Скип был не какой-то болезненный калека вроде Стоука Джонса (Душка Душборн тоже завел манеру называть Стоука Рви-Рви) или пучеглазый псих вроде Джорджа Гилмена.
— Так ведь этот плакат просто показывает, что много людей наживаются на этой мясорубке, — сказал Скип. — «Макдональд — Дуглас», «Боинг», «Дженерал электрик», «Доу кемикалс», «Пепси-бля-кола». И еще всякие.
Глаза-буравчики Душки дали понять (или попытались), что он размышлял над этими вопросами куда глубже, чем Скип Кирк вообще способен.
— Разреши спросить тебя вот о чем: ты думаешь, что мы должны остаться в стороне и позволить дядюшке Хо прибрать там все к рукам?
— Я пока не знаю, что именно я думаю, — ответил Скип. — Пока еще. Я вообще заинтересовался этим только недели две назад. И все еще играю в салочки.
Разговор происходил в семь тридцать утра, и вокруг двери Скипа столпились те, у кого занятия начинались в восемь. Я увидел Ронни (плюс Ника Прауди — к этому времени они стали неразлучными), Эшли Райса, Ленни Дориа, Билли Марчанта и еще четверых-пятерых. Нат прислонился к двери 302 в майке и пижамных штанах. На лестничной площадке опирался на костыли Стоук Джонс. Видимо, он направлялся вниз и остановился послушать спор.
Душка сказал:
— Когда вьетконговцы входят в южновьетнамское селение, первым делом они ищут людей, носящих распятие, образок со святым Христофором, Девой Марией или еще что-нибудь такое. Католиков убивают. Убивают людей, которые верят в БОГА. Ты думаешь, мы должны стоять в стороне и позволять коммунистам убивать людей, верящих в Бога?
— А почему бы и нет? — сказал Стоук с лестничной площадки. — Стояли же мы в стороне и позволяли нацистам шесть лет убивать евреев. Евреи верят в Бога, во всяком случае, так я слышал.
— Хренов Рви-Рви! — завопил Ронни. — Кто, бля, тебя спрашивает?
Но Стоук Джонс, он же Рви-Рви, уже спускался по лестнице. Отдающийся эхом стук его костылей напомнил мне про недавно отбывшего Фрэнка Стюарта.
Душка снова повернулся к Скипу, упираясь в бока кулаками. К его белой майке на груди были приколоты личные знаки. Его отец, сообщил он нам, носил их во Франции и в Германии, носил, когда лежал за деревом, укрываясь от пулеметного огня, который скосил двух человек в его роте и ранил еще четырех. Какое все это имело отношение к конфликту во Вьетнаме, никто из нас толком не понял, но Душка, видимо, придавал знакам особую важность, а потому никто из нас спрашивать не стал. Даже у Ронни хватило ума заткнуть пасть.
— Если мы позволим им захватить Вьетнам, они захватят Камбоджу. — Глаза Душки перешли со Скипа на меня, на Ронни… на всех нас. — Потом Лаос. Потом Филиппины. Одно за другим.
— Если они способны на такое, так, может, заслуживают победы, — сказал я.
Душка обалдело посмотрел на меня. Я и сам немножко обалдел, но назад свои слова не взял.
23
До каникул Дня Благодарения оставался еще один раунд зачетов, и для юных школяров третьего этажа Чемберлена это была катастрофа. В большинстве мы уже понимали, что допрыгались до катастрофы, что мы совершаем что-то вроде группового самоубийства. Кэрби Макклендон выкинул свой хренов фокус и исчез, будто кролик в цилиндре фокусника. Кенни Остир, обычно сидевший в углу во время марафонских партий и ковырявший в носу, когда не мог решиться, с какой карты пойти, просто смылся. На своей подушке он оставил даму пик, поперек которой написал: «Я пас». Джордж Лессард присоединился к Стиву Оггу и Джеку Фрейди в Чэде, общежитии умников.
Шесть вычеркиваем, остается тринадцать.
Казалось бы, достаточно. Черт, да одного того, что случилось с беднягой Кэрби, было больше чем достаточно. Последние три-четыре дня перед срывом руки у него так тряслись, что ему трудно было брать карты со стола и он подскакивал на стуле, если кто-нибудь хлопал дверью в коридоре. Кэрби следовало быть больше чем достаточно. Но не было. Как и моего времени с Кэрол. Когда я был с ней, да, я оставался в норме. Когда я был с ней, я не хотел ничего, кроме информации (и, возможно, оттрахать ее до опупения). Однако в общежитии, и особенно в чертовой гостиной на третьем этаже, я становился другим вариантом Питера Рили. В гостиной третьего этажа я был кем-то, мне незнакомым.
С приближением Дня Благодарения всеми овладел какой-то слепой фатализм. Только никто из нас об этом не заговаривал. Мы говорили о фильмах или сексе («Я перепробовал больше задниц, чем карусельный конь», — имел обыкновение кукарекать Ронни, как правило, ни с того, ни с сего), но больше всего мы говорили о Вьетнаме… и «червях». Разговоры о «червях» сводились к обсуждению, кто в выигрыше, кто в проигрыше и кто словно бы не способен усвоить несколько простых принципов игры: избавляйся хотя бы от одной масти, сплавляй червей среднего достоинства тому, кто любит рисковать, а если вынужден взять взятку, бери самой старшей картой, какая у тебя есть.
Единственной нашей активной реакцией на надвигающийся третий раунд зачетов было превращение игры в своего рода нескончаемый турнир. Мы все еще играли по пять центов очко, но теперь еще ввели «очки за партию». Система получения очков за партию была очень сложной, но Рэнди Эколс и Хью Бреннен за две лихорадочные ночные игры разработали хорошую рабочую формулу. Оба они, кстати, прогуливали курс введения в математику, и после завершения осеннего семестра ни тот, ни другой не был приглашен продолжать занятия.
Тридцать три года прошло с того раунда зачетов перед Днем Благодарения, но мужчина, которым стал тот мальчишка, все еще ежится при воспоминании о них. Я провалил все, кроме социологии и введения в литературу. И мне не потребовалось ждать, когда вывесят оценки, чтобы узнать об этом. Скип сказал, что прошел все под развернутыми парусами, кроме дифисча, где чуть не пошел ко дну. Я в этот вечер пригласил Кэрол в кино — наше прощальное свидание перед каникулами (и наше последнее, хотя тогда я этого не знал), и когда шел за своей машиной, встретил Ронни Мейлфанта. Я спросил, как, по его мнению, у него с зачетами. Ронни улыбнулся, подмигнул и сказал:
— Взял каждый тузом. Точно, как в хреновой «Студенческой Чаше». Мне тревожиться нечего. — Но в свете фонарей на стоянке я разглядел, что его улыбка подрагивает в уголках губ. Кожа у него стала совсем бледной, и его прыщи выглядели даже хуже, чем в сентябре, когда начались занятия. — А у тебя как?
— Меня хотят сделать деканом искусств и наук, — сказал я. — Это тебе о чем-нибудь говорит?
Ронни загоготал.
— Мудак хреновый! — Он хлопнул меня по плечу. Нахальная самоуверенность в его глазах сменилась страхом, и он выглядел совсем мальчишкой. — Собрался куда-то?
— Угу.
— С Кэрол?
— Угу.
— Рад за тебя. Чувиха что надо. — Такая доброжелательность со стороны Ронни просто надрывала душу. — И если я тебя на этаже не увижу, так желаю тебе повеселиться за благодарственной индейкой.
— И тебе того же, Ронни.
— Ну да, спасибо. — Смотрит на меня не прямо, а уголком глаза, старается удержать улыбку на губах. — Не тут, так там попразднуем.
— Угу. Пожалуй, точнее ситуацию не определить.
24
Было жарко. Хотя мотор был выключен и печка тоже, в машине было жарко — мы согрели ее теплом наших тел. Стекла запотели, и свет фонарей проникал внутрь расплывчатым сиянием, точно сквозь матовое окно ванной, и гремело радио: Могучий Джон Маршалл со старыми песнями, Скромный и тем не менее Могучий исполняет «Четыре времени года», и Давеллсы, и Джек Скотт, и Ричард Литтл, и Фредди «Бум-Бум» Кэннон, и все старые-старые песни, а ее кофточка расстегнута, а ее бюстгальтер повешен на спинку, и одна бретелька свисает — широкая плотная бретелька (техника бюстгальтеров в те дни еще не осуществила следующий великий прыжок вперед), и, о Господи, ее теплая кожа, ее сосок жестко трется о мои губы, а ее трусики еще на ней, но лишь относительно — они смяты в комочек, сдвинуты вбок, и я сунул в нее один палец, потом два, а Чак Берри поет «Джонни Б. Гуд», и «Ройал Тинз» поют «Шорты-Подшортики», и ее рука в моей ширинке, ее пальцы дергают резинку моих подшортиков, и я ощущаю ее запах: духов на ее шее, пота на ее висках, там, где начинаются волосы, и я слышу ее, слышу живое пульсирование ее дыхания, бессловесные шепотки у меня во рту, пока мы целуемся, и все это на переднем сиденье моей машины, сдвинутом назад насколько можно, и я не думаю ни о проваленных зачетах, ни о войне во Вьетнаме, ни об ЛБД в приветственной гирлянде цветов на Гавайях, и вообще ни о чем, а только хочу ее, хочу ее прямо здесь, прямо сейчас, и тут внезапно она выпрямляется и выпрямляет меня, упершись обеими ладонями мне в грудь, и растопыренные пальцы отталкивают меня назад к рулевому колесу. Я снова придвинулся к ней, скользнул ладонью вверх по ее бедру, а она сказала «Пит! Нет!» резким голосом и сомкнула ноги, и колени стукнулись друг о друга так громко, что я услышал этот стук, этот стук засова, означающий, что с тебя довольно, нравится тебе это или нет. Мне не нравилось, но я остановился.
Прислонился головой к запотевшему стеклу левой дверцы, тяжело дыша. Мой член был железным цилиндром, прижатый спереди трусами так крепко, что было больно. Не очень долго — ничто не стоит вечно. — Мне кажется, это сказал Бенджамин Дизраэли. Но эрекция угасает, а яйца остаются на взводе. Простой факт мужской жизни.
Мы ушли с фильма — жуткая жвачка про нашенского парня с Бертом Рейнольдсом — и вернулись на стоянку, думая об одном… во всяком случае, я надеялся, что об одном. Да так, пожалуй, и было, только я-то надеялся получить немножко больше, чем получил.
Кэрол запахнула кофточку, но ее бюстгальтер все еще висел на спинке, и выглядела она ошеломляюще желанной — ее груди рвались наружу, и в тусклом свете можно было разглядеть темные полукружья сосков. Она уже открыла сумочку и дрожащей рукой выуживала из нее сигареты.
— У-у-у-у… — сказала она, и голос у нее дрожал, как руки. — Я хочу сказать, ух ты!
— В расстегнутой кофточке ты похожа на Брижит Бардо, — сказал я ей.
Она подняла голову — удивленно и, по-моему, польщенно.
— Ты правда так думаешь? Или потому, что у меня светлые волосы?
— Волосы? Бля, нет. Это потому… — я указал на кофточку. Кэрол посмотрела на себя и засмеялась. Однако пуговиц застегивать не стала и не попыталась стянуть ее потуже. Но думаю, ей бы это не удалось, поскольку кофточка сидела на ней как влитая.
— Дальше по улице от нас был кинотеатр, когда я была девочкой, — «Эшеровский Ампир». Теперь его снесли, но когда мы были детьми — Бобби, и Салл-Джон, и я, — там словно бы все время крутили ее фильмы. По-моему, «И Бог создал женщину» шел там тысячу лет.
Я расхохотался и взял с приборной доски свои сигареты.
— В автокино Гейт-Фоллса его всегда показывали третьим художественным фильмом в вечерней программе по пятницам и субботам.
— Ты его видел?
— Смеешься? Да мне не разрешали даже носа туда совать, кроме как на диснеевские программы. По-моему, «Тонку» с Салом Минео я видел по меньшей мере семь раз.
— Я не вернусь в университет, — сказала она, закуривая. Сказала она это так спокойно, что сперва мне почудилось, что мы все еще говорим о старых фильмах или о полночи в Калькутте, то есть вообще о чем-то, что убедило бы наши тела вновь уснуть — представление окончено. А потом до меня дошло.
— Ты… ты сказала?..
— Я сказала, что не вернусь после каникул. И дома праздновать День Благодарения радость будет небольшая, но какого черта!
— Твой отец?
Она покачала головой и сделала затяжку. Тлеющий кончик сигареты отбрасывал на ее лицо оранжевые блики среди полумесяцев серой тени. Она казалась много старше. Все еще красивой, но много старше. Пол Анка пел «Диану», я выключил приемник.
— Мой отец тут ни при чем. Я возвращаюсь в Харвич. Ты помнишь, я упомянула Рионду, мамину подругу?
Я вроде бы что-то такое помнил, а потому кивнул.
— Снимок, который я тебе показывала, сделала Рионда. Ну, тот, где я с Бобби и Эс-Джеем. По ее словам… — Кэрол посмотрела вниз на свою юбку, все еще задранную чуть не до пояса, и начала перебирать ее в пальцах. Никогда нельзя предсказать заранее, из-за чего люди смущаются. Иногда это физиологические отправления, иногда — сексуальные завихрения родственников, иногда это просто позирование. А иногда, естественно, это пьянство. — Скажем так: в семье Герберов проблемы с алкоголем есть не только у моего папочки. Он научил маму закладывать за воротник, а она была прилежной ученицей. Долгое время она воздерживалась — по-моему, посещала собрания «Анонимных алкоголиков», — но, по словам Рионды, она снова начала. А потому я возвращаюсь домой. Не знаю, сумею ли помочь ей или нет, но попытаюсь. И не только ради мамы, но и брата. Рионда говорит, Йен не знает, на каком он свете. Ну да этого он никогда не знал. — Она улыбнулась.
— Кэрол, а может, это не такая уж хорошая идея. Махнуть рукой на свое образование…
Она сердито вздернула голову.
— Ах, тебя заботит мое образование? Знаешь, что говорят про дерьмовые «черви», в которые дуются на третьем этаже Чемберлена? Что все до единого там вылетят из университета к Рождеству, включая и тебя. Пенни Ланг говорит, что к весеннему семестру там никого не останется, кроме вашего говенного старосты.
— Ну, — сказал я, — это уж преувеличение. Нат останется. И еще Стоукли Джонс. Если только как-нибудь вечером не сломает шею, спускаясь по лестнице.
— Ты говоришь так, будто это смешно.
— Вовсе не смешно, — сказал я. Да, это было совсем не смешно.
— Тогда почему ты не бросишь?
Теперь начал злиться я. Она меня оттолкнула и сжала колени, сказала мне, что уезжает, когда мне уже не просто хотелось ее видеть, а необходимо было ее видеть… она бросила меня черт знает в какое дерьмо, и — здрасьте! — все дело оказывается во мне. Все дело оказывается в картах.
— Я НЕ ЗНАЮ, почему я не бросаю, — сказал я. — А почему ты не можешь найти кого-то еще, кто позаботился бы о твоей матери? Почему эта ее подруга, ну, Рованда…
— Ри-ОН-да.
— …не может о ней позаботиться? Я хочу сказать, разве твоя вина, что твоя мать пьяница?
— Моя мать не пьяница! Не смей называть ее так!
— Но ведь с ней что-то неладно, если ты из-за нее хочешь бросить университет. Если это настолько серьезно, значит, что-то очень неладно.
— Рионда работает, и ей надо заботиться о собственной матери, — сказала Кэрол. Ее гнев угас. Она говорила устало, безнадежно. Я помнил смеющуюся девушку, которая стояла рядом со мной и смотрела, как ветер гонит по асфальту обрывки призыва голосовать за Голдуотера, но эта была будто совсем другая.
— Моя мать — это моя мать. Заботиться о ней некому, кроме меня и Йена, а Йен и в школе-то еле-еле справляется. И ведь в запасе у меня Коннектикутский университет.
— Тебе нужна информация? — спросил я ее. Голос у меня дрожал, хрипел. — Так я дам тебе информацию, нужна она тебе или нет. Идет? Ты разбиваешь мне сердце. Вот тебе ИНФОРМАЦИЯ. Ты разбиваешь мое дерьмовое сердце.
— Да нет, — сказала она. — Сердца же очень крепки, Пит. Чаще всего они не разбиваются. Чаще всего они только чуть проминаются.
Ну да, да! А Конфуций говорит, что женщина, которая летает вверх тормашками, приземляется головой. Я заплакал. Самую чуточку. Но это были слезы, никуда не денешься. Главным образом, полагаю, потому что я был захвачен врасплох. И ладно! Может, я плакал и из-за себя. Потому что был напуган. Я проваливал — или был под угрозой провалить — все зачеты, кроме одного, один из моих приятелей намеревался нажать на кнопку «ВЫБРОС», а я никак не мог бросить играть в карты. Когда я раньше думал об университете, мне все представлялось совсем иначе, и я был в полном ужасе.
— Я не хочу, чтобы ты уезжала, — сказал я. — Я люблю тебя. — Тут я попытался улыбнуться. — Немножко добавочной информации, хорошо?
Она посмотрела на меня с выражением, которого я не понял, потом опустила стекло со своей стороны и выбросила сигарету на асфальт. Подняла стекло и протянула ко мне руку.
— Иди сюда.
Я сунул свою сигарету в битком набитую пепельницу и скользнул по сиденью к ней. В ее объятия. Она поцеловала меня и посмотрела мне в глаза.
— Может быть, ты любишь меня, может быть, нет. Я ни за что не стану отговаривать тебя меня любить, это я могу тебе сказать — ведь любви вокруг так мало. Но у тебя в душе полная неразбериха, Пит. Из-за занятий, из-за «червей», из-за Эннмари и из-за меня тоже.
Я хотел сказать, что это вовсе не так, но, конечно, было именно так.
— Я могу поступить в Коннектикутский университет, — сказала она. — И если с мамой наладится, я поступлю туда. А нет, так я могу заниматься полузаочно в Пеннингтоне в Бритджпорте или пойти на вечерние курсы в Стредфорде или Харвиче. Все это я могу, могу позволить себе такую роскошь выбора, потому что я девушка. Сейчас отличное время для девушек, поверь мне. Линдон Джонсон об этом позаботился.
— Кэрол…
Она ласково прижала ладонь к моим губам.
— Если ты вылетишь отсюда в декабре, то в следующем декабре вполне можешь оказаться в джунглях. Обязательно подумай об этом, Пит. Салл — другой случай. Он верит, что так нужно, и он хочет отправиться туда. А ты не знаешь, чего хочешь, во что веришь, и так будет, пока ты будешь сидеть за картами.
— Послушай, я же соскоблил голдуотерскую наклейку с бампера, верно? — Я и сам почувствовал, что сморозил глупость.
Она промолчала.
— Когда ты уедешь?
— Завтра днем. У меня билет на четырехчасовой автобус в Нью-Йорк. В Харвиче он останавливается всего в трех кварталах от моего дома.
— Ты едешь из Дерри?
— Да.
— Можно я отвезу тебя на автовокзал? Я мог бы заехать за тобой в общежитие около трех.
Она подумала, потом кивнула… но выражение ее глаз оставалось неясным. Не заметить этого было нельзя: ведь обычно ее взгляд был таким откровенным, таким бесхитростным.
— Это было бы хорошо, — сказала она. — Спасибо. И ведь я тебе не лгала, правда? Я же сказала, что у нас это может оказаться временным.
Я вздохнул.
— Угу. Только это оказалось куда более временным, чем я ожидал.
— Так вот, Номер Шестой, нам нужна… ин-фор-мация.
— Не получите. — Ответить с жесткостью Патрика Макгуэна в «Пленнике», когда слезы все еще щипали глаза, было трудно, но я постарался, как мог.
— Даже если я скажу «пожалуйста»? — Она взяла мою руку, сунула ее под кофточку, положила на левую грудь. То мое, что уже впадало в апатию, тут же встало по стойке «смирно».
— Ну…
— У тебя прежде бывало? То есть все до последнего? Вот какая мне нужна информация.
Я заколебался. Наверное, почти все мальчики затрудняются ответить на этот вопрос и врут. Врать Кэрол я не хотел.
— Нет, — сказал я.
Она грациозно выскользнула из своих трусиков, перебросила их на заднее сиденье и сплела пальцы у меня на шее.
— А у меня — да. Два раза. С Саллом. По-моему, он не очень это умеет… Но ведь он никогда в университете не учился. В отличие от тебя.
Во рту у меня пересохло, но, видимо, это была иллюзия — когда я ее поцеловал, наши рты были мокрыми, и они впились друг в друга: губы, языки, покусывающие зубы. Когда я обрел дар речи, я сказал:
— Постараюсь, как могу, поделиться своим университетским образованием.
— Включи радио, — сказала она, расстегивая мой пояс и дергая молнию моих джинсов. — Включи радио, Пит. Я люблю старые песни.
И я включил радио, и целовал ее, и было место, особое место, куда ее пальцы направили меня, и было мгновение, когда я был тем же самым прежним, а потом было новое место — быть. Там она была очень теплой и очень тесной. Она прошептала мне на ухо, щекоча губами:
— Не торопись. Медленно съешь овощи, все до единого, и, может быть, получишь десерт.
Джеки Уилсон пела «Одинокие капли слез», и я не торопился. Рой Орбисон пел «Только одинокие», и я не торопился. Могучий Джон выступил с рекламой «У Браннингена» — самого горяченького клуба в Дерри, и я не торопился. Потом она начала стонать, и уже не пальцы, а ногти впивались мне в шею, а когда она начала вскидывать бедра навстречу мне короткими яростными рывками, я уже не мог не торопиться, а по радио запели Плэттеры. Плэттеры пели «Время сумерек», а она начала стонать, что не знала, понятия не имела, о-ох, ох, Пит, о-ох, о Господи, Господи Иисусе, Пит, и ее губы прижимались к моему рту, моему подбородку, моей скуле в исступленных поцелуях. Я слышал, как скрипит сиденье, я ощущал запах сигарет и соснового освежителя воздуха, свисавшего с зеркала заднего вида, и я уже сам стонал, не знаю что, Плэттеры пели: «Я каждый день о вечере молюсь, чтоб быть с тобой», и тут произошло. Насос работает в экстазе. Я закрыл глаза, с закрытыми глазами я обнимал ее и вошел в нее вот так, когда весь дрожишь, и слышал, как мой каблук выбивает лихорадочную дробь о дверцу, и думал, что я мог бы, даже умирай я, умирай я; и еще думал, что это была информация. Насос работает в экстазе, карты падают там, где падают, Земля ни на йоту не замедляет свое вращение, дама прячется, даму находят, и все это была информация.
25
На следующее утро у меня был короткий разговор с моим преподавателем геологии, который сказал мне, что я «сползаю в очень серьезную ситуацию». «Это не совсем новая информация, Номер Шестой», — хотел было я сказать ему, но не сказал. Мир в это утро выглядел по-иному — и лучше, и хуже. Когда я вернулся в Чемберлен-Холл, Нат уже совсем собрался в дорогу. В одной руке он держал чемодан с наклейкой «Я ПОДНЯЛСЯ НА Г. ВАШИНГТОН». С плеча у него свисал рюкзак, набитый грязным бельем. Как и все остальные, Нат теперь казался другим.
— Счастливого Дня Благодарения, Нат, — сказал я, открывая свой шкаф и начиная наугад вытаскивать штаны и рубашки. — Налегай на начинку. Ты до хрена тощий.
— Обязательно. И под клюквенным соусом. В первую неделю тут я совсем истосковался по дому и не мог ни о чем думать, кроме маминых соусов.
Я укладывал чемодан, думая о том, как повезу Кэрол на автовокзал в Дерри, а потом просто поеду дальше. Если на шоссе № 136 не будет особых заторов, то домой я доберусь еще до темноты. Может, даже остановлюсь у «Фонтана Фрэнка» и выпью кружечку рутбира, прежде чем свернуть на Саббат-роуд к родному дому. Внезапно для меня важнее всего стало поскорее выбраться из этого места — подальше от Чемберлен-Холла и Холиоука, подальше от всего чертова университета. «У тебя в душе полная неразбериха, Пит, — сказала Кэрол в машине вчера вечером. — Ты не знаешь, чего хочешь, во что веришь, и так будет, пока ты будешь сидеть за картами».
Вот он, мой шанс убраться подальше от карт. Было больно от мысли, что Кэрол не вернется, но я бы солгал, сказав, что именно это владело тогда моими мыслями. В этот момент главным было убраться подальше от гостиной третьего этажа. Убраться подальше от Стервы. «Если ты вылетишь отсюда в декабре, то в следующем декабре вполне можешь оказаться в джунглях». «Покедова, беби, пиши», — как говаривал Скип Кирк.
Когда я запер чемодан и оглянулся, Нат все еще стоял в дверях. Я даже подпрыгнул и пискнул от неожиданности. Словно явление дерьмового духа Банко.
— Эй, катись-ка отсюда, — сказал я. — Время и поезда никого не ждут. Даже будущих стоматологов.
Нат стоял и смотрел на меня.
— Тебя исключат, — сказал он.
Вновь я подумал, что между Натом и Кэрол есть что-то жутковато общее, почти две стороны одной медали — мужская и женская. Я выдавил улыбку, но Нат не улыбнулся в ответ. Лицо у него было маленькое, бледное, осунувшееся. Идеальное лицо янки. Увидите тощего типчика, который всегда обгорает, а не загорает, чьи понятия об элегантности включают галстук-шнурочек и щедрую дозу «Вайтейлиса» в волосах — типчика, который по виду ни разу толком не посрал за три года, — так типчик этот почти наверняка родился и вырос к северу от Уайт-Ривер, Нью-Хэмпшир. А на смертном одре его последними словами почти наверняка будут: «Клюквенный соус».
— Не-а, — сказал я. — Не дергайся, Натти. Все в норме.
— Тебя исключат, — повторил он. Его щеки заливала тусклая кирпично-красная краска. — Вы со Скипом лучшие ребята, каких я знаю. В школе никого на вас похожего не было, то есть в моей школе, а вас исключат, и так это глупо!
— Никто меня не исключит, — сказал я… но с прошлого вечера я допускал мысль, что это возможно. Я не просто «сползал» в опасную ситуацию, я уже по уши увяз в ней. — И Скипа тоже. Все под контролем.
— Мир летит в тартарары, а вас двоих исключат из-за «червей»! Из-за дурацкой хреновой карточной игры!
Прежде чем я успел что-нибудь сказать, он ушел. Отправился на север насладиться индейкой с начинкой по рецепту его мамы. А может быть, и исчерпывающей ручной работой Синди сквозь брюки. А почему бы и нет? Это же День Благодарения.
26
Я не читаю свои гороскопы, редко смотрю «Икс-файлы», ни разу не звонил «Друзьям парапсихологии» и тем не менее я верю, что мы все иногда заглядываем в будущее. И когда я днем затормозил перед Франклин-Холлом в стареньком «универсале» моего брата, я вдруг почувствовал: она уже уехала.
Я вошел. Вестибюль, в котором обычно сидели в пластмассовых креслах восемь-девять ожидающих джентльменов, выглядел странно пустынным. Уборщица в синем халате пылесосила ковер машинной работы. Девочка за справочным столом читала журнал и слушала радио. Не более и не менее, как «? и Мистерианс». Плачь, плачь, плачь, детка, 96 слез.
— Пит Рили к Кэрол Гербер, — сказал я. — Вы ее не вызовете?
Она подняла голову, отложила журнал и одарила меня ласковым, сочувственным взглядом. Это был взгляд врача, который должен сказать вам: «Э… сожалею… опухоль неоперабельна. Не повезло, дружище. Налаживайте-ка отношения с Иисусом».
— Кэрол сказала, что ей надо уехать раньше. Она поехала в Дерри на скоростном «Черном медведе». Но она предупредила меня, что вы придете, и попросила передать вам вот это.
Она протянула мне конверт с моей фамилией, написанной поперек. Я поблагодарил ее и вышел из Франклина с конвертом в руке. Я прошел по дорожке и несколько секунд постоял у моей машины, глядя на Холиоук, легендарный Дворец Прерий и приют похабного человечка-сосиски. Ниже ветер гнал по Этапу Беннета шуршащие волны сухих листьев. Они утратили яркость красок; осталась бурость ноября. Канун Дня Благодарения, врата зимы в Новой Англии. Мир слагался из ветра и холодного солнечного света. Я опять заплакал. И понял это по теплу на моих щеках. 96 слез, детка, плачь, плачь, плачь.
Я забрался в машину, в которой накануне вечером потерял свою девственность, и вскрыл конверт. Внутри был один листок. Краткость — сестра остроумия, сказал Шекспир. Если так, то письмо Кэрол было остроумно до чертиков.
Милый Пит,
пусть нашим прощанием останется вчерашний вечер — что мы могли бы к нему добавить? Может, я напишу тебе в университет, может, не напишу: сейчас я настолько запуталась, что попросту ничего не знаю. (Э-эй, я еще могу передумать и вернуться!) Но, пожалуйста, позволь мне первой написать тебе, ладно? Ты сказал, что любишь меня. Если да, так позволь мне первой написать тебе. А я напишу, обещаю.
Кэрол
P.S. Вчерашний вечер был самым чудесным, что когда-либо случалось в моей жизни. Если бывает лучше, не понимаю, как люди способны остаться жить.
P.P.S. Сумей прекратить эту глупую карточную игру.
Она написала, что это было самым чудесным в ее жизни, но она не добавила «люблю». И только подпись. И все-таки… «если бывает лучше, не понимаю, как люди способны остаться жить». Я понимал, о чем она. Перегнулся и потрогал сиденье там, где она лежала. Где мы лежали вместе.
«Включи радио, Пит. Я люблю старые песни».
Я посмотрел на часы. К общежитию я подъехал загодя (быть может, сыграло роль подсознательное предчувствие), и только-только пошел четвертый час. Я вполне успел бы на автовокзал до того, как она уехала бы в Коннектикут… но я не собирался этого делать. Она была права: мы ослепительно попрощались в моем старом «универсале», и все сверх того было бы шагом вниз. В лучшем случае мы бы просто повторили уже сказанное, в худшем — вымарали бы прошлый вечер в грязи, заспорив.
«Нам нужна информация»…
Да. И мы ее получили. Бог свидетель, еще как получили!
Я сложил ее письмо, сунул его в задний карман джинсов и поехал домой в Гейтс-Фоллс. Сначала мне все время туманило глаза, и я то и дело их вытирал. Потом включил радио, и музыка принесла облегчение. Музыка всегда помогает. Сейчас мне за пятьдесят, а музыка все еще помогает. Сказочное безотказное средство.
27
Я вернулся в Гейтс около пяти тридцати, притормозил, когда проезжал мимо «Фонтана», но не остановился. Теперь мне хотелось поскорее добраться до дома — куда больше, чем кружки шипучки и обмена новостями с Фрэнком Пармело. Мама встретила меня заявлением, что я слишком исхудал, а волосы у меня слишком длинные и что я «сторонился бритвы». Потом она села в свое кресло-качалку и всплакнула в честь возвращения блудного сына. Отец чмокнул меня в щеку, обнял одной рукой, а потом прошаркал к холодильнику налить стакан маминого красного чая. Его голова высовывалась из высокого ворота старого коричневого свитера, словно голова любопытной черепахи.
Мы — то есть мама и я — думали, что он сохранил двадцать процентов зрения или даже больше. Точно мы не знали, потому что он очень редко что-нибудь говорил. Результат несчастного случая в упаковочной, жуткого падения с высоты второго этажа. Левую сторону его лица и шеи испещряли шрамы; над виском была вмятина, где волосы больше не росли. Падение затемнило его зрение и воздействовало на психику. Но он не был «полным идьётом» — как выразился один говнюк в парикмахерской Гендрона, не был он и немым, как думали некоторые люди. Девятнадцать дней он пролежал в коме. А когда очнулся, почти перестал говорить, и у него в голове часто возникала путаница, но временами он был тут весь целиком, в полном наличии и сохранности. И когда я вошел, он был тут вполне достаточно, чтобы поцеловать меня и крепко обхватить одной рукой — его манера обнимать с тех пор, как я себя помнил. Я очень любил моего старика… а после семестра за карточным столом с Ронни Мейлфантом я понял, что умение болтать языком — талант сильно переоцениваемый.
Некоторое время я сидел с ними, рассказывал им кое-какие университетские истории (но не про охоту на Стерву), а потом вышел на воздух. Я сгребал опавшие листья в наступающих сумерках, ощущал холодный воздух на моих щеках как благословение, махал проходившим мимо соседям, а за ужином съел три гамбургера, приготовленных мамой. Потом она сказала мне, что пойдет в церковь, где дамы-благотворительницы готовят праздничное угощение для лежачих больных. Она полагала, что мне вряд ли захочется провести вечер в обществе старых куриц, но если я соскучился по кудахтанью, то мне будут рады. Я поблагодарил ее, но сказал, что, пожалуй, лучше позвоню Эннмари.
— Почему это меня не удивляет? — сказала она и ушла. Я услышал шум отъезжающей машины и без особой радости принудил себя подойти к телефону и позвонить Эннмари Сьюси. Через час она приехала в отцовском «пикапе» — улыбка, падающие на плечи волосы, пылающие помадой губы. Улыбка скоро исчезла, как вы, возможно, сами сообразили, и через пятнадцать минут после того, как Эннмари вошла в дом, она ушла из него и из моей жизни. Покедова, беби, пиши. Примерно в один месяц с «Вудстоком»[31] она вышла замуж за страхового агента из Льюистона и стала Эннмари Джалберт. У них трое детей, и они все еще состоят в браке. Пожалуй, неплохо, ведь так? А если и нет, то вы все-таки должны признать, что это чертовски по-американски.
Я стоял у окна над мойкой и смотрел, как габаритные фонари «пикапа» мистера Сьюси удаляются по улице. Мне было стыдно за себя — черт, как расширились ее глаза. Как улыбка сползла с губ и они задрожали! — но, кроме того, я чувствовал себя говенно счастливым, омерзительно ликующим. Мне было так легко, что я готов был протанцевать вверх по стене и по потолку, наподобие Фреда Астера.
Позади меня послышались шаркающие шаги. Я обернулся и увидел отца — он шел своей черепашьей походкой, волоча по линолеуму ноги в шлепанцах. Он шел, выставив перед собой одну руку. Кожа на ней начала походить на большую почти сваливающуюся перчатку.
— Я, кажется, слышал сейчас, как юная барышня назвала юного джентльмена занюханным мудаком? — спросил он мягким голосом, будто для препровождения времени.
— Ну-у… да. — Я переступил с ноги на ногу. — Может, и слышал.
Он открыл холодильник, пошарил и достал кувшин с красным чаем. Он пил его без сахара. Я как-то тоже выпил этот чай в чистом виде и могу сказать вам, что у него почти нет вкуса. Согласно моей теории, отец всегда доставал красный чай, потому что он был в холодильнике самым ярким, и отец всегда знал, что именно он достает.
— Дочка Сьюси, верно?
— Да, пап, Эннмари.
— У всех Сьюси скверный норов, Пит. Она и дверью хлопнула, верно?
Я улыбнулся. Не мог удержаться от улыбки. Просто чудо, что из двери не вылетело стекло.
— Вроде бы хлопнула.
— Сменил ее в колледже на модель поновее, а?
Сложный вопрос. Простым ответом — и, в конечном счете, возможно, наиболее правдивым было бы «да нет». Я так и ответил.
Он кивнул, достал самый большой стакан из шкафчика рядом с холодильником, и мне показалось, что он вот-вот прольет чай на сервант и себе на ноги.
— Дай я налью, — сказал я. — Ладно?
Он не ответил, однако посторонился и позволил мне налить чай. Я вложил ему в руку на три четверти полный стакан, а кувшин убрал назад в холодильник.
— Хороший чай, пап?
Молчание. Он стоял, держа стакан обеими руками, точно маленький ребенок, и пил крохотными глоточками. Я подождал. Решил, что он не ответит, и взял из угла мой чемодан. Учебники я положил поверх одежды и теперь достал их.






