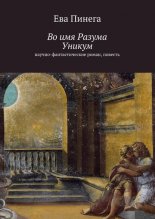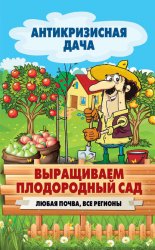Краткая история новой музыки Обрист Ханс Ульрих
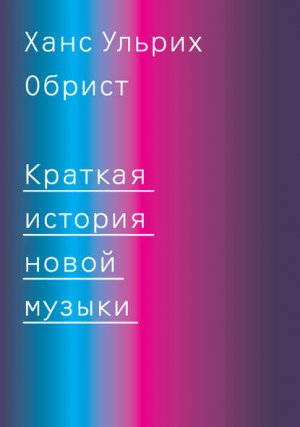
А после жизнь вернулась в привычное русло. Вернулись повествовательные фильмы вместе с их героями. В то время в кинотеатрах перед картиной показывали короткометражку – в наши дни такого нет. А перед ними иногда вставляли короткие мультипликационные фильмы, длиной четыре-пять минут. Сейчас, когда идешь в кино, видишь пережитки тех времен – то бишь рекламу. Она стала подлинным искусством, приняла на себя функцию короткометражных и мультипликационных фильмов и, конечно, будучи финансовым медиумом, заботу о деньгах. Для ее создания требуется глубокое понимание образов, потому тебе нужно виртуозно повлиять на ход мыслей зрителя и очень быстро описать вещь, используя в кадре красивую женщину, движение, продукцию, дождь, ветер и т. д. Во всех рекламах машин показывают Сахару и Великую Китайскую стену. Вот что пришло на смену. Вакантное место также занял видеоарт, видеоартисты начали сотрудничать с музыкантами.
ХУО: Ваши рисунки на стене – это партитуры?
ФБ: Нет-нет. Это личные наброски, которые я сделал для своего звукозаписывающего лейбла. Я бы хотел, чтобы моим работам предшествовал некий зрительный образ на обложке, связанный с содержанием. Мне кажется, произведение и упаковка должны резонировать: какой-то сигнал должен предварительно настраивать слушателя. Одного заголовка и обычной графической формы мне кажется мало. Так что я развлекаюсь, ни на что особенно не претендуя. Это наброски именно для моих записей. Я хочу быть автором всего, в том числе и дизайна обложки. Если можешь, всегда лучше все делать самому.
ХУО: У вас целая серия таких рисунков. Я видел их в парижском Музыкограде (Cit de la musique).
ФБ: Да, я сейчас работаю над пятнадцатым томом.
ХУО: Как вы начали заниматься звукозаписью?
ФБ: Я основал лейбл и начал искать источники финансирования. Сначала я вложил собственные деньги; со временем появлялись другие источники, а теперь он самоокупается: на прибыль от проданных записей мы издаем следующие. Дела идут неплохо.
ХУО: Вы все делаете сами?
ФБ: Да, мы с женой. Мы же исполняем роль графических дизайнеров. Когда я руководил «INA-GRM», я был в ответе за все записи, за первые записи конкретной музыки; например, я уже тогда записал композиции для лейбла «Prospective XXIe sicle» («Перспектива XXI века»), который я и Пьер Анри основали совместно с компанией «Филипс» [1967][56].
ХУО: В наше время эти пластинки снова вызывают интерес у художников. Так значит, это вы рисовали?
ФБ: Да, я даже придумал концепцию «конверта», чтобы сократить расходы: конверт делался из сложенной бумаги, на которую наносили печать только с одной стороны. Таким образом, двойной конверт стоил копейки. Я запатентовал изобретение и выпустил целый ряд записей, тогда еще с 33 оборотами в минуту. На этих пластинках были произведения Анри и Ксенакиса с его страсбургской перкуссией.
ХУО: Обложки у тех записей обычно были в серебристо-серых тонах.
ФБ: Точно, серебристые обложки, так мы их задумали. Авторы сами предложили эту достаточно модернистскую идею. В то время – после 1968 года – XXI век казался далеким, как Луна, никто не думал, что вообще доживет до него. Но оказалось, он был очень близко. XX век пролетел так незаметно… Нам казалось, еще так много времени. [Смеется.] Тогда он казался нам пирамидами, пирамидами модернизма…
ХУО: Мы сейчас на вашем рабочем месте. В ходе серии моих интервью с композиторами я каждый раз поражаюсь тому, насколько важны студии. К примеру, во времена Булеза или Штокхаузена требовались большие студии, как в Баден-Бадене. Была целая сеть таких студий, задуманных как лаборатории, как рабочие мастерские.
ФБ: Да, в то время оборудование было очень громоздкое, очень тяжелое и дорогое. Студии требовали расходов, как целое учреждение, к тому же в них работала команда персонала: техники и другие специалисты. С современными технологиями студию за разумные деньги можно оборудовать у себя дома, и выйдет не дороже, чем купить машину. А машины есть у всех, даже у бедных. Композиторы – бедные люди, поэтому вместо машины они покупают себе собственное рабочее пространство. Я всегда говорил, что для творца главное – иметь собственное место для работы.
ХУО: У вас есть такая автономность?
ФБ: Да, я обустроил свою студию. Во времена, когда я руководил GRM, одним из условий работы было пользоваться только такими программами для работы со звуком, которые композиторы могли скачать на свои «Макинтоши» и работать из дома. Чтобы они не были в зависимом положении, и им не приходилось обивать пороги кабинетов и иметь дела с бюрократией. Мне довелось работать в администрации, и я ннавидел бюрократию. Наверное, я подцепил этот вирус от Шеффера. В те дни, когда мы работали вместе с ним, в административных учреждениях мы чувствовали себя пиратами. У нас был совсем не бюрократический склад ума, но мы понимали, что путь к влиянию лежит через институты. Так, мы проникли в администрацию через черную дверь и притворились бюрократами, однако смогли создать вокруг себя совсем иную атмосферу. Мы старались разрабатывать только такие программы, которые могли бы функционировать и вне стен этого института.
ХУО: У вас получилась партизанская стратегия.
ФБ: Вот именно. Администрация смотрела на это с неодобрением и считала нас опасными и нежелательными элементами. Нам постоянно угрожали, но поскольку мы со своей работой справлялись вполне успешно, а вот те, кто нам угрожал, – не очень, они в итоге и оказались на улице!
ХУО: Я хотел бы вернуться к теме рабочего пространства, лаборатории. Художник Даниель Бюрен писал о появлении «постстудийной практики». Благодаря ноутбукам, как вы говорите, то же самое происходит с композиторами. Расскажите, как работаете вы сами, какую часть работы вы делаете в поездках, а какую – в студии?
ФБ: Лично я не то чтобы много путешествую. Бывает, мне посчастливится съездить на концерт моей музыки в другой город. Но написание музыки требует спокойной обстановки. Тебе нужны под рукой оборудование, книги, иллюстрации, катушки с наборами звуков. У меня процесс распределен на два компьютера: на одном я обрабатываю звук с аппаратуры в режиме реального времени, а на другом работаю с информацией на жестком диске, модулирую и храню данные. На этих компьютерах установлены все возможные программы обработки звука, которые мы исследовали в GRM. Инженеры с нашей помощью разработали для них интерфейсы, которые дают удивительные возможности. Конечно, на настройку уходит много времени, но звук с их помощью можно менять интереснейшим образом. Что характерно, эти интерфейсы крайне наглядны. Ты сразу видишь, как нарезать звуковую дорожку на мелкие кусочки, как управлять звуком, то есть от тебя не требуется… как бы это сказать… технических навыков. Настройки очень интуитивны, не нужно штудировать 70 страниц сопроводительной литературы, чтобы понять, какой именно параметр за что отвечает, – в отличие от IRCAM, где для работы постоянно требуется присутствие технического ассистента.
ХУО: Бесконечен ли ваш творческий процесс или в какой-то момент вы все-таки останавливаетесь? Я имею в виду, раз вы не записываете нотацию, то как вы решаете, в какой момент произведение закончено?
ФБ: По большому счет процесс написания музыки зависит от динамики работы. Идея электризует нас: обычно все начинается со звука, который мы затем преобразуем и обрабатываем вручную или даже при помощи компьютерной мыши: мышью мы вычищаем его, как щеткой для пыли. Так рождается музыка: это волнение, которое не дает тебе спать по ночам, которое тебе нужно выплеснуть наружу, воплотить в реальность, дать ему быть услышанным. Я бы хотел показать вам одну запись того времени, из 60-х. Она у меня есть на DVD.
[Слушают запись.]
Это композиция из концерта «Lignes et points» («Линии и точки»). В определенный момент музыки на фоне внезапно возникает изображение. Это работа Петра Камлера [польский режиссер-аниматор] – мы сотрудничали с ним в 1960-х.
ХУО: То есть оно появляется неожиданно?
ФБ: Да. В «Линиях и точках» изображение очень простое: точки с ореолом, словно мерцание в тумане. Нашей задачей было добавить дополнительное измерение в процесс слухового восприятия. Концерт длится час, и вдруг восемь минут из него ты видишь это изображение. Оно открывает в пространстве пятое измерение. Время и пространство оттеняются визуальным воздействием с непредсказуемой синхронизацией – иногда оно точно повторяет музыку, иногда почти не зависит от нее. То и дело возникает агогика, с замедлением или ускорением. Здесь она, например, создает отдельный окрашенный слой в произведении.
ХУО: Выглядит потрясающе. Этот концерт исполняли вживую?
ФБ: О да, но недолго. Мне редко выдавалась возможность давать много концертов. В общем, вот как это выглядело, изображение еще показывалось какое-то время… Это часть из произведения «L'Exprience acoustique» («Акустический опыт», 1969–1972) – хотя, как мы только что видели, он не только акустический. Здесь соотношение противоположно музыке в кинематографе. В кино музыка подчеркивает то, что мы видим, а тут наоборот – изображение подчеркивает то, что мы слышим. Петр Камлер – это польский художник и аниматор. Ему, должно быть, как и мне, 70 лет, но выглядит картинка так, словно ее сделали вчера. Сложно вообразить, что ее нарисовали в 1965 году при помощи мультипликационного станка, камеры и перфоленты. Кажется, что это компьютерная анимация.
ХУО: Да, изумительно. Расскажите, пожалуйста, об изобретении «Акусмониума» [оркестр динамиков, созданный Бейлем в 1974 году]. К нему часто обращаются современные молодые деятели. Как к вам пришла его идея?
ФБ: Изобретение «Акусмониума» связано с появлением акусматической музыки. Акусматика – это теория слухового восприятия, а «Акусмониум» – ее инструмент. В ранние годы электронной и конкретной музыки на непривычного слушателя легко было произвести впечатление. Зрители слушали музыку через два динамика, и, поскольку композиции обычно длились очень недолго и отличались от всего, что люди привыкли слышать, несколько лет этого хватало. А потом в один прекрасный день все изменилось: такие концерты всем надоели. В этот момент я и вышел на сцену, когда понял, что период первопроходцев закончился и нужно двигаться дальше, работать упорнее, развиваться и делать нечто новое. Я заметил, что на концерты электронной музыки ходят те же люди, что и на симфонические концерты в филармониях, а там музыку исполняет ряд инструментов: скрипки, кларнеты, духовые, перкуссия, контрабас… Мне просто пришло в голову поставить на сцену больше динамиков с разными диапазонами частот, как если бы то были разные инструменты, низкочастотные и высокочастотные. Замысел произвел эффект: композиторы начали по-иному осмыслять свою музыку и расширять ее за счет разных диапазонов частот, имея возможность расставить динамики на соответствующих позициях в звуковом пространстве.
ХУО: Это называется полифонией динамиков?
ФБ: Именно. Это оркестровая и пространственная структура конкретной музыки. В то время я написал показательное произведение, под названием «Grande Polyphonie» («Большая полифония», 1974), которым продемонстрировал, что колонки нужны не просто для грохота. Они создают линии звука, переплетенные между собой, словно морские волны, и публика благодаря им, может приобрести богатый слуховой опыт.
ХУО: То есть в полифонии нет иерархии.
ФБ: Вот несколько фотографий с постановки «Полифонии». Мы добавляли световые эффекты и органично вписывали их в звучание. Несколько раз мне посчастливилось сотрудничать с очень талантливыми художниками по свету – они использовали лазеры и дым, очень четко работая по сценарию, чтобы не нарушить общей картины. Когда погружаешься в зрелище, ты словно оказываешься в другом мире… и все это задолго до появления техно и прочего. Сейчас это распространенное явление, насколько я знаю. Вот первый «Акусмониум», который я разработал для «Espace Cardin»
в 1974 году. Моей задачей было совершенно изменить привычное представление о музыкальном концерте с использованием динамиков. Действие происходило в темноте, и лучи света падали на расставленные динамики – сферические, кубические, маленькие, большие и т. д. В обстановке, в четких линиях чувствовалось некоторое влияние Баухауса.
ХУО: Это еще напоминает триадические балеты Оскара Шлеммера.
ФБ: Да, конечно. Многие годы мы работали с эой системой, и у нас сложился сценический образ, на мой взгляд не менее яркий, чем у «Kraftwerk». Мы пользовались большим успехом. Если однажды мою музыку забудут, то об «Акусмониуме» еще будут вспоминать. После я еще давал концерты в разных местах, однажды – в восьмигранном зале, с лазерным шоу и маленькими сферическими динамиками, похожими на деревья.
ХУО: На ум приходит Дюшан с его «реди-мейдами» – ведь для выступлений вам требуется запас динамиков.
ФБ: Да, но нужен и запас идей, потому что нельзя расставлять динамики как бог на душу положит. Нужен принцип, руководство. Лично я анализирую помещения с точки зрения диагоналей и плоскостей – конечно, учитываю ближний и средний план, дальний, нижний и верхний – и продумываю оси проекций. Я теперь называю динамики не «динамиками», а «звуковыми проекторами». Для общей картины необходимы эти оси. Общую картину можно разбить на более мелкие и установить небольшие динамики ближе к зрителям, чтобы они слышали рядом высокочастотные звуки, слабые, но различимые, словно полупрозрачные. Вы бы слышали их, как сейчас слышите стук моих ногтей. А на заднем плане звук ревет, и приходится сооружать ширмы и противошумовые завесы. Так формируется контраст и пространственная ориентация музыки, на основе которых строится композиция.
ХУО: Какова ваша концепция полифонии в данном случае и в целом?
ФБ: В «Большой полифонии» на первую ее часть, «Aux Lignes Actives» («Об активных линиях»), меня вдохновил Пауль Клее. Меня очень заинтересовали его «Педагогические эскизы» [сборник заметок для его лекций в Баухаусе с 1921 по 1931 год], где он рассказывает, что линия может быть пассивной, если она служит разделителем двух поверхностей, или активной, если у нее есть направление и на ней делается акцент, чтобы глаз следовал за ней, будь она прямая или изогнутая. Взгляд на эту линию не статичен, он динамичен, потому что линия тянет его за собой. Глаз скользит, взгляд оживает и движется через пространство во времени, таким образом наделяя пространство характеристикой времени. Я счел эту мысль очень полезной для музыканта и применимой к музыке. Я был не первый. До меня Булез и Штокхаузен уже задумывались о том, как использовать в музыке идеи Клее о зрении. Композиторы инструментальной музыки работают только с бумагой, а потом, на сцене, им не дают развернуться музыканты, которые сидят на стульях и не могут качаться на трапециях или летать как птицы. Такую музыку ограничивает факт ее неизбежно статичного исполнения. В случае проецируемого звука, а именно организованной полифонии, линии звука могут быть подчеркнуты: они пересекают сцену по диагонали или исходят от задника или из-за спин зрителей. В твоей власти создать насыщенную, бурлящую акустическую реальность, проще говоря, динамическую. В этом идея полифонии – не просто в отклонении от линейной многоплановости, но в динамических пространственных плоскостях, в волнах звука, захлестывающих друг друга, как порывы ветра или морской прибой. Это не просто буря звуков, но раскрытое многогранное богатство природы и в первую очередь наших возможностей восприятия. Ведь мы – дети природы, ее продукты, и наше восприятие, способность нашего разума к восприятию приспосабливается к богатому разнообразию в природе. Когда мы создаем художественный объект, мы должны задействовать как можно больше способов человеческого восприятия. При возможности нужно использовать все; опыт, который дает человеку произведение искусства, должен быть сравним с опытом в условиях природы. Очень жаль, что искусство не так богато, как природа, очень жаль.
ХУО: Молодые деятели в наши дни проявляют огромный интерес к вашей расстановке динамиков. Ее бы назвали сейчас инсталляцией.
ФБ: Верно, она похожа на инсталляцию…
ХУО: Я беседовал с Ксенакисом о его «Политопах». Существует некая грань, после которой концерт становится инсталляцией. Можно его тогда назвать концертной инсталляцией или «инсталляционным» концертом?
ФБ: Да, получается союз двух явлений.
ХУО: Раз уж мы заговорили об этом, что вы думаете о звуковых выставках? Ксенакис выставлял свои «Политопы» в музеях и экспериментировал с архитектурой. Можно еще вспомнить Ле Корбюзье и его работу над павильоном «Филипс». Был ли у вас опыт таких выставок и как вы видите связь между музыкой и архитектурой?
ФБ: В этом я не заходил так далеко, как Ксенакис; это была его сфера, его ремесло, его творческий мир. Едва ли кто-то смог бы с ним тягаться. В этом плане он предугадал появление многих вещей. Что касается меня, я всегда завидовал художникам, завидовал успеху современных художников, каким они пользовались с 1910-х годов. Им удалось привить людям идею, что живопись и скульптура не обязаны служить отражением реальности, что они существуют в отдельном мире, которому художник дает право на жизнь самой своей способностью создавать эти миры. На мой взгляд, художники в XX веке ушли куда дальше музыкантов. Музыканты все еще очень боязливы, потому что язык музыки коренится в прошлом; на их плечах тяжелым грузом лежат Бах, Бетховен, даже Дебюсси и Стравинский. Очень сложно идти следом за столь монументальными фигурами. Едва мы пытаемся сделать что-то совершенно другое, нам кажется, что мы оставим пустую страницу и не создадим ничего выдающегося, ведь над нами вечно высятся девять симфоний Бетховена и гласят с укором: «Попробуйте, потягайтесь с нами, господа!» С появлением проецируемого звука, мощи звуковой проекции мы смогли возводить наши громадные звуковые храмы, которые приводили слушателя в такой же трепет, как симфонии Бетховена. Кроме того, технологии подарили нам мультипликацию. Но нам все еще предстоит изобрести некий пластический элемент. Мне повезло проводить выставки в очень современном здании, созданном по проекту одного студента Ле Корбюзье в Аррасе…
ХУО: [Андрэ] Вогенски?
ФБ: Да, он построил центр Норуат в Аррасе.
ХУО: Да, знаю – я брал у него интервью.
ФБ: О, вы его знаете? Восхитительно. Я был знаком с владельцем этого здания, и он часто приглашал меня – сейчас он уже умер, и дело продолжает его сын. Я несколько десятилетий был их музыкальным консультантом и устраивал выставки композиторов. В их галерее собирали произведения живописи и объекты, которые вдохновляли композиторов, фрагменты партитур, черновики, иногда элементы произведений, с одной стороны сами по себе не имеющие ценности, но в то же время очень символичные: звукопроизводящие тела и звуковые объекты[57], такого рода вещи. Потом в одном помещении я оборудовал небольшой «Акусмониум», ну и, конечно, по расписанию проходили концерты.
ХУО: Похоже на Часовню Ротко.
ФБ: Именно, часовня звука, по которой днем можно бродить и рассматривать экспонаты. Несколько лет все шло прекрасно, я организовал шесть или семь выставок, одну совместно с Пьером Анри: о себе, о GRM в целом, об Иво Малече, о Бернаре Пармеджани, о Жаке Лежене[58]. Это были выставки-презентации, посвященные работам одного человека. Больше я нигде не смог бы сделать подобного, потому что в любом другом месте нужна известность, деньги и никуда не деться от вмешательства владельцев галерей. Везде возникают трудности социального характера, не хватает рычагов влияния. Вы не хуже моего знаете, что организация выставок находится в руках людей, которые ведут дела очень жестко. С концертами то же самое: это отдельный мир со своей системой управления. Но в Аррасе было совсем не так, и я счастлив, что мне выдалась возможность там работать.
ХУО: Получается, там вы одновременно были и творцом, и куратором?
ФБ: Да, я был куратором: развешивал экспонаты, проводил церемонии открытия… весь ритуал был соблюден. Люди приходили, осматривали экспозицию – каждый раз в одном и том же помещении я устраивал ее по-разному. Интересно преображение пространства, которое ты хорошо знаешь и видишь не в первый раз; все так же, только его населяют разные объекты: разной длины, разной величины, разной значимости, в разном количестве, разной степени необычности… Мы старались подходить к устройству выставки как можно более творчески, каждый раз изобретая что-то новое. Я занимался этим несколько лет, и это было славное время. Я бы с радостью снова поработал так, но в Париже ситуация совсем иная – галереи конкурируют между собой, да и… с пространством стало сложно.
ХУО: Леонс Петито, владелец галереи в Аррасе, был в своем роде меценатом.
ФБ: Да, поэтому мы пользовались большой свободой.
ХУО: Разработку конвертов для пластинок на вашем звукозаписывающем лейбле тоже можно назвать кураторством, не так ли?
ФБ: Безусловно. Периодически мы устраивали фестивали для производителей пластинок. Лично я провел два: однажды я предложил другой фирме-изготовителю CD-дисков электроакустической музыки выставить образцы своих записей и продемонстрировать публике, что мы – не единственные в своей сфере, что помимо нас есть целый мир и огромный рой производителей занимается пластинками, изготавливает конверты и прочее и подходит к делу очень творчески. Ведь этот мир замкнут сам в себе! Есть замечательный лейбл «Metamkine» Жерома Нотингера. Это параллельный рынок, параллельный мир за рамками коммерческого круговорота. Люди производят записи в условиях очень ограниченного бюджета и делают это с богатой фантазией. Через интернет и флаеры они распространяют информацию о записях, которые они иногда выпускают в единичных экземплярах и изготавливают кустарным способом… Удивительно.
ХУО: Мы подошли к понятию «протоорганизации». Этот термин впервые стали употреблять в урбанизме. Я сейчас вспоминаю Йону Фридмана[59], с которым я работал, и Седрика Прайса[60]. Фридман пришел к урбанизму от науки и очень заинтересовался феноменом самоорганизации. Он заключается в том, что градостроитель, осознавая свою власть, разработает план, излагает его и запускает процесс самоорганизации. Мне любопытна эта идея в применении к музыке. Каким образом композитор может работать в режиме самоорганизации, а не по заранее прописанному «генеральному плану»?
ФБ: Самоорганизация – это очень важно, это даже единственный возможный способ существования в наше время, когда международные корпорации и капиталистическая система массового производства ставят рамки нашей жизни и всему миру. Эта система насаждает в умы молодого поколения установку, что им нельзя прожить без пары «найков», которые стоят в десять раз больше, чем у них есть. В результате они воруют, идут на риск и совершают ужасные поступки, только чтобы заполучить кепку или майку с логотипом. Но этой массовой культуре противостоит армия сопротивления свободных художников, которые создают вокруг себя маленькие мирки с системой самостоятельного производства. Они борются с вторжением. Конечно, это смешно, и каждый такой мирок обречен на погибель. Системы самостоятельного производства не уходят далеко, массовая система душит их; все заканчивается смертями на шоссе или от наркотиков – массовые казни под стать массовой цивилизации. В то же время самообеспечение позволяет тебе держать голову высоко и жить, несмотря ни на что. Оно дает убежище для выживания в условиях враждебной среды, небольшие островки сопротивления. Сильнейшие творцы могут шагнуть дальше, проникнуть во власть имущие организации – мы доказали, что это возможно, – проложить путь в редакции, в концертный бизнес, в радиовещание и изменить порядок вещей, а потом уйти, но извлечь из этого выгоду. К примеру, будучи в «Филипс», мы сделали прорыв и создали свой дочерний лейбл, а потом отсоединились. «Филипс» – по-прежнему «Филипс», большая компания, но в их широкий поток производства тогда затесалась маленькая странная вещь – лейбл «Prospective».
ХУО: При этом вы создавали собственные организации. С одной стороны, вы проникали в институты, с другой – занимались самостоятельным производством.
ФБ: Поэтому я считаю, что нужно оставаться оптимистом, даже когда кажется, что трудности непреодолимы. Даже когда тебе говорят: «Сейчас уже все бесполезно», всегда возможно добиться успеха на собственных условиях.
ХУО: Давайте поговорим об оптимизме, раз уж интервью началось с несколько пессимистичной ноты. Вы знаете современных молодых композиторов, подающих надежды? Что вы прочите новому поколению?
ФБ: Конечно, знаю многих. Мои интересы простираются от Вареза, Ксенакиса, Штокхаузена и композиторов моего поколения, таких как Люк Феррари, Иво Малеч, Бернар Пармеджани, Пьер Анри, Анри Дютийе, до молодых музыкантов. Самые любопытные имена, на мой взгляд, это Кристиан Занеси, Франсуа Донато, Мишель Редольфи, Аннет Ванде Горн в Брюсселе, Робер Норманду в Монреале, Джонти Харрисон в Бирмингеме… в общем, целый «интернационал» молодых композиторов. Я проводил концерты под названием «L'Internationale Acousmatique» [1996], посвященные движению, которое тогда возникло и развилось, а теперь охватило многие страны, где не забылись уроки конкретной музыки. Одновременно получили развитие несколько аспектов: техника прослушивания, инструментальные навыки при использовании звукового оборудования, концепция формирования времени и пространства через звуковые проекции, организация концертов, балансирующих между магическим ритуалом и чувственным опытом. Магическим в нерелигиозном смысле, потому что ни в коем случае нельзя поддаваться опасному желанию устроить секту, поддаваться духовному идиотизму и начать диктовать мораль. В этом плане нужно сохранять максимально ясную голову и светский подход. На мой взгляд, духовность необходима, но в нерелигиозном плане, то есть очень личная духовность, без попыток манипулировать сознанием других людей. Нам просто нужно найти в себе место для свободы и для контакта с силами, превосходящими нас, с силами космоса. Мы должны быть к ним очень восприимчивы. Эта революция возникла в начале XX века и продолжается до сих пор – ее нельзя остановить, потому что она – то самое движение, которое порождает жизнь и преодолевает все преграды. К сожалению, не только творческая деятельность движется вперед. Система массового производства широкими шагами шагает бок о бок с ней, как и социальное неравенство, катастрофические проблемы экологии… и многое другое.
ХУО: Это идея «эпохи модерна». Как сказал Филипп Паррено: «Говоря об обществе, modernity можно определить как время политики отстранения, другими словами, период, когда последствия поступков имеют лишь малое значение», и это напоминает мне, например, о теориях Ульриха Бека. Сейчас, наоборот, время политики вовлечения, управления аффектами. Прошла ли музыка через эти перемены? Конечно, тут нельзя не затронуть тему модернизма и постмодернизма. Что вы об этом думаете?
ФБ: Мое отношение к постмодернизму весьма негативное. Я склонен спокойно относиться к приступам ностальгии по комфорту – комфорту прослушивания, комфорту зрительного восприятия, ностальгии по тому, что избавляло от лишней тревоги. Я могу понять, что в какой-то момент тревога достигает предела, и тогда мы стремимся вернуться к прошлому, чтобы избавиться от нее, чтобы искусство давало силы, а не копало вглубь. Я готов принимать все это до тех пор, пока сохраняется дух открытий. До тех пор, пока можно увидеть и услышать что-то новое, что-то, чего мы не слышали прежде. Поэтому я против возвращения к «ретро», если только не в контексте сарказма или полемики: в качестве коллажа, например, тогда это другое. Оттенок насмешки никогда не бывает лишним – если только одной ей дело не ограничивается, иначе это очень поверхностное занятие. Но мы живем во время, когда проблема постмодернизма, возвращение к ценностям, отвергнутым модернизмом, представляет собой нравственную проблему. Я верю, что возвращение к прошлым ценностям оправдано только в том случае, если при этом не останавливается процесс подлинных открытий, а точнее, они представляют собой первостепенную задачу, и только тогда.
ХУО: Получается, вы ставите модернизм выше постмодернизма?
ФБ: Определенно. Но, может, как раз модернизм однажды и воскресил отвергнутые им ценности. Ведь сначала модернизму, чтобы укрепиться, потребовалось отказаться от многого, а именно от ценностей комфорта: он установил режим дискомфорта и тревоги. Он открыл чистейшую страницу! Подумать только о Беккете, Кандинском… Поскольку тогда такого никто еще не видел, появилось огромное поле для открытий. Что можно еще сделать после этого? Конечно, мы видим, что возвращаются вещи, которые тогда предали забвению. Я не против возобновления, лишь бы не прекращали изобретать! Возобновление без открытий, простое возвращение к прошлому я не готов принять…
ХУО: Очень интересное мнение, и в этом основная цель моих интервью – не воскрешать, а пересматривать, освежать в памяти определенные моменты, чтобы к ним могли обратиться нынешнее и грядущие поколения.
У меня есть еще один вопрос, который я задаю в каждом интервью. Он касается нереализованных проектов. Не могли бы вы рассказать о том, что вы не воплотили в жизнь? Утопические проекты, слишком масштабные, возможные в будущем или невозможные вовсе…
ФБ: Что ж, проект, который я готовил всю жизнь, я называю «Акусматик» («Acousmathque»). Это некий дом звука, наподобие «Акусмониума», своеобразный музей, очень многофункциональное место, не слишком большое – чтобы в смысле организации оно не превратилось в неуправляемое орудие власти, – но и не слишком маленькое, чтобы не смахивало на самодеятельность. Иными словами, функционирование такого места не мог бы обеспечить только один человек – это открытое пространство, вмещающее две-три сотни зрителей и столько динамиков на стенах, сколько в зале кресел, для максимальной гибкости звуковой проекции, – сейчас, конечно, при помощи компьютерных технологий такой системой очень просто управлять, и это не стоит больших денег. Главная идея в том, чтобы это заведение работало 24 часа в сутки, без перерывов, и все это время его посещали разные люди. В своем роде светская церковь, куда можно зайти, отдохнуть, послушать музыку и попытаться осознать нечто, что возвышается над житейскими проблемами. Толчком для идеи этого проекта послужило место, где мне однажды довелось оказался. В 1966 году я был в Праге, еще до известных событий, и посетил звукозаписывающую компанию под названием «Supraphon». Они оборудовали в студии отдельную комнату для прослушивания, в которой установили 20 или 30 кресел и две звуковые колонны, очень высокого качества по тем временам. У той компании была огромная музыкальная библиотека – они делали записи для всех радиостанций Восточной Европы, и им не нужно было приобретать на них права. Программу составлял толковый музыковед, и там всегда играла стоящая музыка – открой дверь, заходи, садись и слушай. Я заглядывал туда в разное время и встречал женщин, которые только шли с рынка с сумками овощей… По пути домой они заходили туда, садились и что-нибудь слушали. Иногда симфонию Брамса, иногда концерты для фортепиано Шопена или произведения Яначека. В то время не было такого количества станций, как сейчас, только государственное радио…
ХУО: То есть это была не выставка, а событие, застывшее во времени…
ФБ: Именно так, открытый мир звуков и огромное пространство для воображения, которое возводят в нем композиторы…
ХУО: Это и есть модель вашего проекта, его прототип?
ФБ: Да. На мой взгляд, это было потрясающее место. Заходишь внутрь, ничего за это не платишь и оказываешься в утопии звуковой цивилизации… Ты заполняешь ее всеми ее благами, всеми ее ресурсами, заполняешь до отказа и получаешь огромные просторы для наслаждения. Однажды такой проект нужно воплотить в жизнь, только использовать более широкий набор средств и пространственное движение звука и проигрывать работы, специально написанные для этой цели, а не просто все подряд… Но, в конце концов, почему бы не послушать великие голоса, голоса давно умерших людей, которые произносили прекрасные вещи, поэтов, документальные материалы… Для меня это грандиозный проект, это социальная идея, музыкальная идея, визуальная идея, кинематографическая идея, идея путешествия… и духовная тоже, это словно церковь, куда я прихожу и приближаюсь ко всем тем людям, благодаря которым воображение через слух взмывает на величайшие высоты… Я верю в слуховую мысль, слуховая мысль для меня реальна, потому что я познал ее, как некоторые говорят, что верят в Бога, потому что встречали его… Я верю в слуховую мысль, потому что так устроен… Я мыслю через слух – про художников можно сказать так же, что они мыслят через зрение, – потому что так моя мысль обретает форму, и в этом заключается мое особое восприятие мира. Конечно, первыми со мной согласятся слепые – они очень богаты духовно и восприимчивы на слух к широкому спектру ощущений и богатству мыслей, фантазии. Но, говоря о музыке, о речи, о звуковой поэзии, о человеческих качествах звучания голоса, человечность заключается именно в голосе… Это магические моменты… Такая моя утопия.
Полина Оливерос
Родилась в 1932 году в Хьюстоне, штат Техас. Живет и работает в Кингстоне, штат Нью-Йорк.
Аккордеонист, композитор и исполнитель Полина Оливерос – одна из самых значимых женских фигур в американском авангарде. Она среди первых начала использовать эффект задержки звука в магнитофонной записи и изобрела EIS [Expanded Instrument System/Расширенная инструментальная система] – систему, которая во время живого исполнения дает доступ к студийной обработке звука, т. е. к изменению высот, эффектов окружения и тембра, что позволило музыкантам подстраивать звук инструментов к виртуальному акустическому пространству. В 1960-х годах она стала членом, а затем директором Центра магнитофонной музыки Сан-Франциско (San Francisco Tape Music Center), известной студии, в которой также работали такие знаковые композиторы, как Терри Райли и Стив Райх. Оливерос разработала концепцию «глубокого слушания» – философию и практику, совмещавшую в себе принципы импровизации, электронную музыку, ритуальные элементы, преподавание и медитацию, целью которой было привить подготовленным и неподготовленным музыкантам интерес к искусству прослушивания и научить их чувствовать окружающую обстановку при сольном и коллективном исполнении. Группа «The Deep Listening» («Глубокое слушание»), в которую входят Стюарт Демпстер, Дэвид Гемпер и Оливерос, с 1988 года практикует выступления и запись в помещениях с высокими резонансными и ревербационными свойствами, например храмах и огромных подземных резервуарах. Оливерос получила ученые степени Школы музыки Мурс (Moores School of Music), Университета Хьюстона и Государственного университета Сан-Франциско, где она училась у композитора Роберта Эриксона. В 2012 году ей была присуждена премия Джона Кейджа, а также она носит звание заслуженного профессора-исследователя музыки Политехнического института Ренсселера в городе Трой, штат Нью-Йорк, и преподает на Курсах художников-резидентов им. Дариюса Мийо колледжа Миллс в г. Окленд, штат Калифорния.
Данное интервью, ранее не опубликованное, было взято в 2007 году в галерее «Серпентайн», Лондон.
www.paulineoliveros.us, www.deeplistening.org
ХУО: В мире искусства с 1960-х годов часто обсуждают постстудийную практику. Тем не менее многие молодые деятели по-прежнему занимаются устройством студий. Конечно, сейчас технологии заметно развились и студия может существовать не только как физическое место, но и как сетевое пространство, объединяющее разные точки. Я хотел бы узнать, какое место студия занимает в вашем творческо процессе.
ПО: В 1960-х студия играла для меня большую роль, потому что первым делом я училась именно работать в студии. Моя практика всегда основывалась, прежде всего, на живом исполнении, поэтому я хотела уметь обращаться со студийным оборудованием и изобрела свой подход к работе в классической студии электронной музыки. С тех пор я всегда придерживалась его и для этих целей разработала Расширенную инструментальную систему [EIS][61]. С ее помощью можно обрабатывать звук любого инструмента, электронного или акустического. В 1960-х и 1970-х мне приходилось носить с собой магнитофоны, чтобы применять эффекты задержки, но потом эти эффекты стали цифровыми[62]. Сначала магнитофоны заменил процессор «Lexicon PCM 42», а сейчас все, конечно, есть на компьютере. Впрочем, не совсем все, что-то еще делается на аналоговых устройствах.
ХУО: Расширенная инструментальная система – это система электронной обработки сигналов, которую вы самостоятельно разработали, и одно из достижений, принесших вам широкую известность. Расскажите, как вы изобрели ее? Откуда возникла такая идея?
ПО: Мне пришла в голову эта идея к 1960 году, после того как мой друг Рамон Сендер[63] для одного нашего концерта сделал закольцованный эффект задержки звука при помощи пленки, которая перематывалась с одного магнитофона на другой. Интервал повтора эха получался очень большим, то есть мы импровизировали на акустических инструментах, и через какое-то время начинала воспроизводиться запись нашей игры. Так появилась изначальная идея. При другом расположении записывающей и воспроизводящей головок магнитофона можно было добиться и короткого интервала повтора эха. Меня очень заинтересовал этот эффект, и я использовала его самыми разными способами. Я написала статью «Техника эффекта задержки для композиторов электронной музыки» (1969). Эта изначальная идея и лежит в основе моей системы.
ХУО: В то время вы были в Сан-Франциско и сотрудничали с известным институтом – Центром магнитофонной музыки Сан-Франциско[64]. Изобретение всегда происходит в некоей среде; каждому великому ученому нужна лаборатория, где он будет совершать открытия, и для вас средой стал еще и Сан-Франциско. Я брал интервью у Терри Райли[65], а также у таких новаторов своего времени, как Брюс Коннер, Лоуренс Халприн, Анна Халприн и Симона Форте, которые тоже были там. Они все рассказывали, что те годы в Сан-Франциско были необыкновенными.
ПО: Прекрасное время. В первую очередь потому, что у нас было свое сообщество – сообщество творческих людей, тех, кого вы перечислили, и многих других, и мы все работали вместе. Мы поддерживали друг друга, и из нашего общения рождались стержневые идеи и методики, которые мы затем развивали. Не было похожих фигур, все были разные, но при этом все друг друга уважали и помогали друг другу. Я счастлива, что мне довелось познакомиться с ними, и храню о том времени самые теплые воспоминания. [Смеется.] Мы постоянно общались. Мы с Терри вместе занимались в музыкальной школе при Государственном колледже Сан-Франциско[66], так что в то время мы были коллегами, ровней. Там же появлялся Ла Монте Янг; Стив Райх[67] получал степень магистра искусств в колледже Миллс – в общем, время было удивительное. Сейчас готовится к печати замечательное издание – каталог Центра магнитофонной музыки Сан-Франциско[68]по инициативе Йоханнеса Гебеля, директора Центра экспериментального мультимедийного и сценического искусства в RPI [Политехнический институт Ренсселера в г. Трой, штат Нью-Йорк].
ХУО: Историю наконец запишут.
ПО: Да, история уже записана, и в каталог войдет документация к нашей недавней ретроспективной записи – мы собрались вместе и сыграли несколько старых композиций для выпуска на DVD. Ведь в те дни не было возможности задокументировать все, как сейчас.
ХУО: Я беседовал в Европе с Пьером Булезом, [Карлхайнцем] Штокхаузеном и [Янисом] Ксенакисом[69], и интересно отметить тот факт, что в то время пленка была передовым явлением – как сейчас интернет. Вы знали об экспериментах с пленкой в Европе и, в частности, с техникой эха или ваша идея развилась исключительно в контексте Сан-Франциско?
ПО: О том, что происходит в Кельне, мы слышали по радио. Мы слушали передачи и записи, поэтому можно сказать, да, мы знали. Но все же это и наш локальный феномен, ведь у нас имелась необходимая техника. Когда у тебя есть на чем работать, ты просто берешь и работаешь. Так мы и делали!
ХУО: Вчера мы разговаривали о вашем сотрудничестве с Джоном Балдессари. А как вы взаимодействовали с художниками в то время?
ПО: С нами постоянно работал Тони Мартин[70]. Он сотрудничал с Мортоном Суботником[71], Рамоном Сендером и со мной в Центре магнитофонной музыки Сан-Франциско, так что он был, можно сказать, штатным художником. Во время всех наших концертов он создавал визуальный ряд при помощи графопроектора и рисунков чернилами или маслом, слайдов или пленки, делал коллажи из разных проецируемых элементов и синхронизировал их с музыкой или происходящим театральным действием.
ХУО: А еще с кем-то вы сотрудничали?
ПО: Я работала с Элизабет Харрис, хореографом и художником. Она, к примеру, сделала качели, которые мы с Дэвидом Тюдором использовали в моем произведении «Дуэт для аккордеона и бандеона с возможным облигато птицы майна» («Duo for Accordion and Bandoneon with Possible Mynah Bird Obligato», 1964)[72]. Качели и сами сиденья вращались, опускаясь и поднимаясь, а в центре стояла конструкция с клеткой птицы майна[73], и она тоже вращалась. У нас вышла интересная ориентация звука: на одном конце качелей я играла на аккордеоне, на другом – Дэвид на бандеоне, и когда мы вращались, звук разлетался в пространстве.
ХУО: Похоже на Gesamtkunstwerk – «совокупное произведение искусства».
ПО: Да, точно.
ХУО: Были ли вы как-то связаны с движением Флуксус, Джорджем Брехтом[74] или другими фигурами?
ПО: Только позже. Уже после 1960-х, по-моему, в 1970-х, когда мы стали теснее взаимодействовать друг с другом. Я познакомилась с Элисон Ноулз и Диком Хиггинсом[75] в 1970-х.
ХУО: Вы работали с ними?
ПО: Да, можно так сказать. Мы часто навещали друг друга.
ХУО: Вне сомнений, они принадлежали к одному движению – неоавангарда, который, однако, по-прежнему использовал язык авангарда. Причисляете ли вы себя к этому движению?
ПО: Нет, я не принимала участия во Флуксусе, хотя движение было мне интересно. В 1970-х я провела фестиваль Флуксуса в Университете Калифорнии в Сан-Диего, чем Дик Хиггинс остался недоволен, поскольку я сама не имела отношения к традиции.
ХУО: Чем же он был недоволен?
ПО: Видимо, я провела выступления не так, как это обычно делал Флуксус, и устроила их по-своему: они все проходили одновременно, как коллаж [«Deep Listening Pieces» / «Произведения глубокого слушания», 1971–1990]. По традиции Флуксуса их эксцентричные выступления должны были проходить в рамках одного концерта.
ХУО: Мы по-прежнему зациклены на всевозможных «измах» и ярлыках. Часто артистам это не по душе. Если бы вас попросили охарактеризовать себя с точки зрения принадлежности к какой-либо группе, вы смогли бы это сделать?
ПО: Нет. Я за свободу! [Смеется.] Мне нравится выходить за рамки, стирать границы и расширять замкнутые пространства.
ХУО: На днях мы говорили с Брайаном Ино[76] о том, что минимализм тоже в какой-то степени стал оковами. Мне любопытна ваша точка зрения на минимализм.
ПО: Меня раздражает этот термин, потому что это ярлык, который лепят с размаху. Меня называют минималистом, но я не имею к минимализму никакого отношения. Минималисты – это Терри Райли, Стив Райх и Джон Адамс. Хотя даже на Терри этот ярлык вешать глупо, по-моему.
ХУО: Значит, минимализм вычеркиваем. Что насчет электронной музыки?
ПО: Что ж, это…
ХУО: Слишком широкий термин?
ПО: Очень широкий, в наше время он охватывает целый мир. В 1960-х у него было более узкое значение. Он относился к музыке, целиком основанной на электронном звучании. Конкретная музыка – это уже не то, и акустическая, разумеется, совершенно другое. В наше время термин «электроакустическая музыка» довольно конкретен, однако и он соотносит музыку в первую очередь со структурными единицами – ансамблями то есть, оркестрами или камерными группами и т. д. Но зачем? Это все – музыка. Давайте использовать самую широкую терминологию.
ХУО: Что касается электронной музыки, меня все еще крайне занимает техническая сторона вопроса. Я читал вашу статью «Квантовая импровизация» [1991], в которой вы в основном писали о кибернетике. Кибернетика во многом повлияла на архитектуру – если вспомнить, например, Седрика Прайса[77] – и повлияла на художников. Я хотел бы спросить, как соотносится с кибернетикой ваша музыка и служила ли она вам вдохновением?
ПО: Я постоянно обращаюсь к технологиям. Как человек, который сам исполняет музыку и управляет звуком, я применяю доступные технологии доступными мне способами и адаптирую их для своих целей или для получения нужного мне звука. Поэтому мне интересно все новое, все инновационное, интересно, в каком направлении идет развитие. Так что в этом смысле наука служит мне вдохновением, и поскольку я сама принадлежу к культуре, для которой технологии в принципе стали источником инноваций, я считаю себя новатором в методах работы с этими технологиями.
ХУО: Философ Вилем Флюссер говорил мне, что для него самая интересная задача – найти новое назначение для техники; использовать камеру так, как не приходило в голову ее изобретателю. Вы согласны с ним?
ПО: Совершенно согласна. Нужно найти в предмете его неотъемлемые свойства и работать с ними.
ХУО: Когда, например, вы использовали технологии необычным способом?
ПО: Скажем, тот же эффект задержки звука. Магнитофон нам дал только исходную идею, но ведь его создатель явно задумывал его не для таких целей. Сейчас у меня для работы на компьютере есть 40 разных эффектов эха. С пленкой такого разнообразия нельзя было добиться без 20 или 30 магнитофонов.
ХУО: Сорок разных эффектов! Как вы их применяете?
ПО: Я делаю запись, затем выбираю, сколько и каких эффектов хочу наложить, после чего настраиваю их. Иными словами, я пробую накладывать на записанный колебательный сигнал другие так, что у меня в итоге из одного звука получается до сорока разных вариаций.
ХУО: Мы сейчас снимаем интервью на камеру, а вы часто говорили о человеческом стремлении все записывать, воссоздавать и сохранять. Не могли бы вы подробнее изложить свою мысль об архивации и памяти?
ПО: Так человек борется с непостоянством… Ничто на самом деле нельзя сохранить навсегда. Архивы либо недолговечны, либо существуют только в настоящий момент.
ХУО: Как вы пользуетесь архивами?
ПО: У меня есть отсортированные архивы, и они хранятся в разных организациях, например в Нью-Йоркской Публичной библиотеке и в Университете Калифорнии, в колледже Миллс и Публичной библиотеке Хьюстона. Кое-что хранится в беспорядке у меня дома, но все это давно пора вывозить, потому что накопилось очень много. У меня есть живые напоминания о моем прошлом, и я должна им помогать – если хочу им долгой жизни.
ХУО: Что вы думаете о современных цифровых архивах? Нужна ли вам долговечность или вы считаете, что мимолетность ценнее?
ПО: У меня есть, например, архивы электронных писем, я храню звуковые файлы и т. д., так что да, такие архивы у меня имеются. Но мне нужен архивариус, потому что сама я не могу уследить за порядком.
ХУО: Изменила ли интернет-революция ваш порядок работы? Два дня назад я брал интервью у молодой группы «Battles», и они рассказывали о том, как интернет повлиял на них: теперь они выкладывают видео на Myspace, а вы проводите концерты в «Second Life» [виртуальный онлайн-мир]. Что изменилось с появлением интернета?
ПО: Перемены приходили постепенно. Сначала, конечно, появилась электронная почта. Я завела свой первый ящик в 1986 году.
ХУО: Как давно!
ПО: Да. Разумеется, я и тогда стремилась быть в авангарде! Я увидела в электронной почте потенциал, а мне всегда интересны новые возможности общения, чтобы поддерживать связь с друзьями. Могу сказать, пока Стюарт Демпстер[78] был в Сиэттле, а я и Дэвид Гемпер[79] в Нью-Йорке, группа «Deep Listening» продолжала свою деятельность только благодаря электронной почте. Это во-первых. Со временем я стала понимать, что таким образом могу поддерживать контакты со все большим числом людей, обмениваться идеями, организовывать время, координировать мероприятия и так далее. Сейчас я провожу аудиотрансляции через передовой сервис сети «Интернет2»[80] – через него ансамбль в одном месте может сотрудничать с коллегами из другого ансамбля где-то еще. Для нас открылась новая площадка, новое пространство, новые пути для совместной работы.
ХУО: Раньше вы проводили концерты в самых неожиданных местах.
ПО: Да, а сейчас мы перемещаемся в виртуальное пространство.
ХУО: Однажды вы сказали, что пространство «недооценивают». Вы все еще так думаете?
ПО: Да, я так думаю.
ХУО: Расскажите, зачем вы стремились исследовать пространство с точки зрения музыки? Сегодня вечером у вас концерт в павильоне «Серпентайн»[81], который построили в этом году по проекту Олафура Элиассона и Кьетила Торсена, а это крайне нестандартное для исполнения пространство. Какие площадки, где вам доводилось играть, вам запомнились больше всего?
ПО: В концертных залах появляется эхо, и в разных залах время задержки, или реверберации, звука всегда разное. В зале Шаффи это 1,5 секунды – идеальное время задержки для произведений Моцарта. Большие соборы специально строили, чтобы звук в них приобретал неземную реверберацию. Моцарта в Нотр-Даме лучше не играть – там слишком большое время задержки. Эта разница во времени реверберации очень интересна с точки зрения окраски звука, его качеств. В разных пространствах ты звучишь по-разному. В этом для меня заключается основной интерес при перемещении между пространствами и поисках новых. К тому же очень важно, как ты организуешь звук во время концерта. Например, в павильоне «Серпентайн» публика сидит по кругу, и звук окружает ее со всех сторон, а исполнитель находится в центре, в отличие от залов, где звук исходит в одном направлении со сцены. Здесь другая проекция звука.
ХУО: Каждый раз, когда вы исполняете что-то вживую, вы играете разные произведения. Расскажите, почему так?
ПО: Звук существует в своей связи со временем и пространством. В каждом помещении музыка звучит по-разному.
ХУО: Вы основали группу «Deep Listening» – «Глубокое слушание», программу «глубокого слушания», институт Глубокого слушания[82]. Это словно связующий аккорд вашего творчества. Как вы изобрели «глубокое слушание»? Вы помните тот день?
ПО: Я связываю это событие с покупкой моего первого магнитофона в 1953 году, когда они только появились в продаже. Я первым делом поставила микрофон на окно и стала записывать все подряд. Потом, когда я слушала результат, я понимала, что некоторые звуки я не замечала, пока записывала. С той минуты я решила стараться услышать все и постоянно расширять свое внимание к звукам, везде и всегда. Это стало моей медитацией, и так родилась моя практика. В 1988 году мы делали запись в подземном резервуаре и назвали тот альбом «Глубокое слушание». Так мы потом назвали и группу. Я написала небольшой текст для брошюры CD-диска, в котором охарактеризовала наш стиль как «глубокое слушание». Так появился этот термин.
ХУО: Что ж, это не «изм», однако все равно это характеристика вашей музыки.
ПО: Да. Этот термин означает практику слуха и слухового восприятия. Я задумалась об этом и в 1991 году начала проводить семинары глубокого слушания. Сейчас это общеупотребимое словосочетание, в день я получаю пять или шесть запросов через Google, из различных источников – религиозных, духовных, деловых, политических – даже политики используют его, что не может меня не воодушевлять. Я, правда, очень рада, потому как всегда чувствовала, что слуховым восприятием пренебрегают и что люди, которые не слушают, не способны к дискуссии. Раз уж политические лидеры заинтересовались глубоким слушанием, значит, они на верном пути. ‹…›
ХУО: Вы считаете, слух – это главное. ПО: Самое главное. Если ты не слушаешь, ты не осознаешь.
ХУО: Получается, важен еще твой отклик на то, что ты слышишь. ПО: Верно. Эхо в музыке – это тоже отклик.
ХУО: Петля обратной связи.
ПО: [Кивает.]
ХУО: Марсель Дюшан сказал, что зритель делает 50 процентов работы[83]. Если заменить зрителя на слушателя, сколько, на ваш взгляд, работы делает слушатель?
ПО: Может, даже больше. Ведь когда играешь концерт перед аудиторией, возникает резонанс между мозговыми волнами исполнителей и публики. Когда это происходит, ты чувствуешь, как слух слушателей сливается в одно поле. Спутать это чувство ни с чем невозможно.
ХУО: В 1989 году Джон Кейдж сказал: «Благодаря Полине Оливерос и “Глубокому слушанию” я наконец понял, в чем заключается гармония: в удовольствии от создания музыки». Что такое гармония для вас?
ПО: Было приятно слышать это от Джона Кейджа. Он сказал так, после того как послушал записи «Глубокого слушания». Это было на ранчо «Скайуокер» [Джорджа] Лукаса, где проходила конференция по саунд-дизайну[84]. Мы оба были там, и я выступила с небольшим докладом, от которого он пришел в восторг и тоже прочитал речь. По его словам, он впервые выступал без подготовки! [Смеется.] Гармония, опять-таки, исходит из слухового восприятия и познавательного взаимодействия с миром. Познавательное взаимодействие через слух – вот что такое для меня гармония.
ХУО: Прекрасное определение. ‹…› В интервью для радиопередачи «American Mavericks»[85] («Американские бунтари») вы сказали: «Меня интересует физическая сторона написания музыки». Тут нельзя не вспомнить ваш сегодняшний концерт и в целом значительную физическую составляющую живых выступлений.
ПО: Меня интересует базовая природа звука и его способность трансформироваться и меняться. Для его восприятия мне нужно направить внимание на саму себя, ведь мое ощущение звука – это мой личный физический опыт. Это то, что я чувствую, когда исполняю музыку. Звук циркулирует и рождает в моем теле потоки энергии, которые затем перетекают от меня к слушателям. Передав этот чувственный опыт зрителям, потоки возвращаются обратно. Физическая составляющая рождает между нами связь и то эмоциональное состояние, о котором я говорила раньше. Оно сложнее, чем может показаться; такая связь существует только благодаря двустороннему обмену. ‹…›
ХУО: В вашем интервью для «American Mavericks» есть очень интересный абзац про произведение «433”» Джона Кейджа. Я хотел бы спросить о роли тишины в вашем творчестве.
ПО: Ее нет как таковой. Тишина наступит, только когда всему настанет конец! В моей работе не бывает тишины. Это очень относительное явление.
ХУО: Тишина относительна?
ПО: Да. Абсолютной тишины не существует.
ХУО: То есть для вас она – как ненаписанное произведение.
ПО: Верно.
ХУО: А есть ли у вас еще нереализованные проекты? Слишком большие, слишком маленькие, забытые, не прошедшие цензуру, слишком дорогие, отметенные вами самой?
ПО: Одну задумку стоило бы воплотить. Сколько на планете людей, семь миллиардов?
ХУО: Около того. Наверное, больше.
ПО: Что ж, тогда я хотела бы, чтобы семь миллиардов человек освоили глубокое слушание. Тогда мир бы изменился.
ХУО: Вот уж правда масштабный проект. А еще?
ПО: Больше ничего. По-моему, одного его было бы достаточно, разве нет?
Петр Зиновьев
Родился в 1933 году в Лондоне. Живет в Кембридже.
Петр Зиновьев – британский изобретатель русского происхождения, первопроходец в области электронной музыки. Он первым в мире оборудовал собственную компьютерную студию звукозаписи. В 1969 году он основал компанию «EMS» («Electronic Music Studios») в Лондоне совместно с Тристрамом Кэри и Дэвидом Кокереллом, которая в том же году разработала знаменитый портативный аналоговый синтезатор «VSC3» («Voltage Controlled for Studio with 3 Oscillators» / «Студийный синтезатор с 3 генераторами, управляемый напряжением»). В студии работали многие ранние психоделические рок-группы, такие как «Pink Floyd», «White Noise» и «Kraftwerk», а также поп-музыканты, в частности Дэвид Боуи. Петр Зиновьев окончил Оксфордский университет, где получил докторскую степень по геологии.
Данное интервью было взято в 2010 году в Стамбуле по случаю открытия «The Morning Line», междисциплинарной арт-платформы. Впервые было опубликовано в книге: Matthew Ritchie: The Morning Line, ed. Eva Ebersberger and Daniela Zyman. Ed. «Walther Knig», Cologne, 2009.
Ссылки: «What the Future Sounded Like»/«Как звучало будущее», документальный фильм телекомпании «ABC TV»: youtube/8KkW8Ul7Q1I.
«Electronic Music Studios»: www.ems-synthi.demon.co.uk
ХУО: Что ж, начнем по порядку: как вы стали изобретателем? Какое было ваше первое изобретение?
ПЗ: Я бы сказал, что это был электронный секвенсер, который позволял выстраивать последовательность звуков без использования пленки. Прежде для этого нужно было нарезать пленку и склеивать куски в нужном порядке. Секвенсер стал моим первым изобретением. Вторым – емплер, который мог воспроизводить сэмплы окружающих звуков через компьютер. Это было где-то в 1960–1961 годах. Сэмпл, правда, мог длиться всего около секунды.
ХУО: Одним из первых изобретателей в области звука, у кого я брал интервью, был покойный Оскар Сала[86]. Мы беседовали в Берлине. Он показал мне свой «Тритониум» [«Mixtur-Tritonium», полифонический электронный музыкальный инструмент], на котором он синтезировал крики птиц для фильма Хичкока. Скажите, испытали ли вы на себе чье-либо влияние?
ПЗ: Насчет начала своей карьеры не знаю – тогда мне казалось, я один такой в мире. Я думал, никто больше не занимается этим, поэтому никаких кумиров у меня не было. Конечно, позже я узнал, что в Америке, например, Макс Мэтьюс из «Bell Labs»[87] вел аналогичные исследования, и тогда уже начал интересоваться. В музыкальном плане влияний было много, но отдельно нужно отметить двоих – Харрисона Биртуисла[88] и Ханса Вернера Хенце[89].
ХУО: Чем вас вдохновили Бристуисл и Хенце?
ПЗ: Я сотрудничал и с тем и с другим, и в работе оба были очень целеустремленны и талантливы. Они приезжали ко мне в студию, и мы подолгу увлеченно трудились. Хенце проводил со мной в Лондоне по нескольку недель.
ХУО: Вы написали либретто для оперы Бристуисла «Маска Орфея» («The Mask of Orpheus», 1986).
ПЗ: Верно. Еще я работал с ними над многими электронными произведениями. Одно из знаковых называлось «Хронометр» («Chronometer»). Для его создания мы использовали записи тиканья часов, в том числе Биг Бена в Лондоне. Недавно «Хронометр» вышел в квадрофоническом формате на DVD. По-моему, это была первая в мире запись на DVD с объемным звучанием, в 2009 году. Очень волнительное событие.
ХУО: Не могли бы вы рассказать о Максе Мэтьюсе?
ПЗ: Он работал в «Bell Labs» в 1950-х годах. Его программа «MUSIC» послужила основой для разработки «Max/MSP» – универсального инструмента для разработки музыкальных приложений. Он занимался тем же, что и я, хотя мы друг о друге ничего не знали. В его распоряжении была вся лаборатория «Bell», зато у меня первого в мире дома появился персональный компьютер! Это было в 1960-х.
ХУО: То есть вы не располагали поддержкой никаких организаций. Работали по принципу «сделай сам».
ПЗ: Да. Приятно осознавать, что у меня появился домашний компьютер раньше, чем у кого-либо на земле. Сначала это был «PDP-8» компании «Digital Equipment», но даже его в то время еще ни у кого не было.
ХУО: Кроме того, что вы работали в домашней студии, вы еще основали в 1969 году компанию «Electronic Music Studios» [«EMS»], чтобы выводить на рынок инновационные идеи, рожденные в вашей студии. Не могли бы вы рассказать о «EMS»?
ПЗ: Примечательно, что как раз на прошлой неделе «EMS» возобновила деятельность в Корнуолле и снова начала производить синтезаторы. Поразительно, что их собирают из все тех же деталей, а они сейчас очень дорогие. Все хотят добиться старого аналогового звучания, поэтому синтезаторы снова ужасно популярны.
ХУО: Удивительно! И это снова доказывает то, что вы опередили свое время как минимум на 20 лет. Еще до 1970 года вы предвидели, что электронное музыкальное оборудование займет мировой рынок.
ПЗ: Да. Мы делали и большие синтезаторы. Один из таких, «Synthi 100», стоял в кельнской студии Штокхаузена [с начала 1970-х].
ХУО: Вы говорили, что еще в ранние годы, начиная с 1960-х, часто имели дело с прогрессивными авангардными рок-группами, такими как «White Noise», а также с «Kraftwerk», «Tangerine Dream», с Брайаном Ино и Дэвидом Боуи. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь об этом.
ПЗ: Все началось с моего сотрудничества с Полом Маккартни, еще до создания «EMS». У меня в студии висит симпатичный постер фестиваля, в котором участвовал Маккартни и «Unit Delta Plus»[90] – под таким названием я тогда работал. С тех пор моей авангардной студией начали интересоваться прогрессивные деятели из мира поп-музыки, потому что больше нигде в Европе нельзя было опробовать или приобрести подобное оборудование. Мало кто, однако, смог найти ему достойное применение, как это сделали, например, «Pink Floyd». Чаще всего, синтезаторы покупали просто потому, что они издавали необычные звуки.
ХУО: Многие приборы, разработанные в «EMS», вы опробовали в своей личной студии. И из вашей студии они выходили уже совершенно уникальными устройствами, на основе которых потом велись дальнейшие разработки. На вашем веб-сайте есть целый список ваших некоммерческих идей.
ПЗ: Полагаю, это те вещи, которые мы решили не продавать. Вы, наверное, видели фотографию студии – это хитросплетение миллиона проводов. Мои инженеры, в первую очередь Дэвид Кокерелл, могли сделать все, что я только ни пожелаю. Так что устройства из того списка мы собирали в единичном экземпляре, и они использовались только для создания экспериментальной музыки. ‹…›
ХУО: Вы – ученый, изобретатель, композитор, еще раз изобретатель и источник вдохновения для многих моих друзей из мира музыки, например Рассела Хасуэлла[91], который часто упоминает ваше имя. Еще вас называют русским англичанином эпохи Возрождения. Для вас важно совмещать несколько сфер деятельности?
ПЗ: Несомненно. Я думаю, когда-то давно на меня сильно повлияла книга Артура Кестлера «Творческий акт» («Act of Creation», 1964), в которой он развивает идею о том, что мыслительный процесс всегда одинаков, сочиняешь ли ты стихотворение или пишешь музыку. Вдохновение приходит ни с того ни с сего, его источник для каждого индивидуален, но суть процесса всегда одна и та же. На мой взгляд, ход мысли при этом тоже осуществляется одинаково. Будучи и ученым, и музыкантом, я могу сказать, что вдохновение сходно в обоих случаях. Тебе является некое озарение, неважно, научный или художественный оно носит характер.
ХУО: Вы еще ничего не сказали про явление случайности, управляемой вероятности и их роли в вашей работе.
ПЗ: Большую роль играют счастливые случайности и интуитивная способность находить их. В Лондонском институте современного искусства [ICA] в 1960-х проходила – и пользовалась большой популярностью – замечательная выставка под названием «Кибернетическая серендипность». На ней выставлялся мой компьютер. Посетители могли насвистеть что-нибудь в него, а он потом воспроизводил различно обработанные вариации их свиста. Я считаю, явление управляемой случайности очень важно. Когда на скрипке нужно сделать вибрато, каждый музыкант будет делать его по-разному и с разной скоростью – это случайность, но каждый скрипач управляет ей.
ХУО: Архитектор-визионер Седрик Прайс[92], который спроектировал «Дворец веселья» («Fun Palace»)[93], говорил, что недостаток спонтанности – характерная проблема современного общества, и мне кажется, вы бы с ним согласились. Не могли бы вы рассказать о спонтанности и ее влиянии на вашу работу?
ПЗ: Я полностью с ним согласен. Нельзя думать, что для всего существуют правила. Правила нужны, чтоб их нарушать, и иногда нарушать кардинальным образом – так рождаются счастливые случайности. С наукой так же: нарушай правила, и наверняка совершишь открытие!
ХУО: Ваши изобретения опередили свое время. Когда я был в гостях у великого писателя-фантаста Станислава Лема в Кракове незадолго до его смерти, я видел у него дома огромное количество русских научных журналов и книг, и я понял, что наука, так сильно развитая в то время в России, оказала огромное влияние на его писательское творчество. Что связывает вас с наукой или ваш радар направлен в иную сторону?
ПЗ: Меня никогда не удивляют научные прорывы, потому что мне они кажутся неизбежными и предсказуемыми. Самое сложное – это инженерные задачи, и с ними никому не хочется сталкиваться. Сейчас, например, мы знаем, что термоядерный синтез решит энергетические проблемы планеты, и, будь у меня власть, я бы направил миллиарды фунтов в эту область. Но вместо этого люди продолжают улучшать ветряные мельницы. Мне всегда казалось логичным, что будущее надо учиться прогнозировать, но всерьез этим занимаются очень немногие.