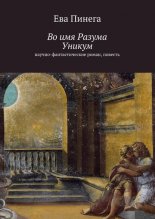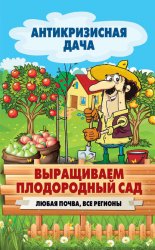Краткая история новой музыки Обрист Ханс Ульрих
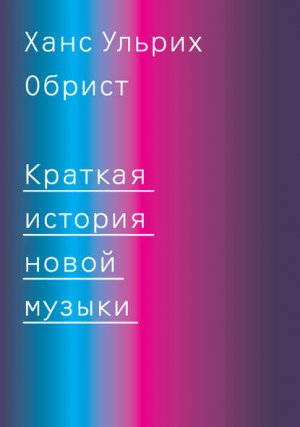
ХУО: Есть ли у вас какие-то неосуществленные проекты, слишком масштабные или слишком мелкие, утопические задумки, мечты, проекты, не прошедшие цензуру или отметенные вами самим?
ПЗ: Мне приходит на ум синтезатор, который мы назвали «аналитической машиной». Ее производство стоило «EMS» в 1970 году 40 тыс. фунтов, и в итоге она проработала секунды две, после чего Пьер Булез увез инженеров в Париж. И вот я смотрю на этот неимоверно дорогой, весьма передовой для своего времени агрегат, который так и не заработал. А недавно Университет Йорка вызвался сделать его аналог в виде программного обеспечения. У них вышло прекрасно, так что, можно сказать, моя мечта осуществилась.
ХУО: Вашу мечту воплотили – это же фантастика.
ПЗ: Ну, не совсем воплотили. Не в изначальном виде, для этого пришлось бы запустить грандиозный инженерный проект. Сейчас я только начинаю заново открывать для себя возможности компьютерной музыки – я долгое время этим не занимался. Сейчас я словно рождаюсь заново, и это замечательно.
ХУО: Давайте поговорим о будущем. Каким вы его видите? Вы оптимистично настроены? Каким потенциалом обладают синтезаторы?
ПЗ: Не думаю, что у синтезаторов есть будущее. Я не верю, что в будущем еще будут представлять какой-то интерес вручную управляемые системы, будь то компьютерное обеспечение или самостоятельные устройства. Им будет место только в музее, как это случается со многими предметами искусства. Я считаю, будущее – в непосредственном взаимодействии мозга и звука, в новом способе написания музыки. Им грезят еще с 1950-х годов. Он бы поднял на новую ступень процесс создания электронной музыки. Попыток было много, как посредством компьютера, так и синтезатора, но они все еще весьма примитивны. Сейчас мы не ограничены так, как, скажем, композитор в XVIII веке был ограничен набором инструментов, писал ли он для оркестра или сольного исполнения. Мы можем сгенерировать любой звук, но у нас все еще нет подходящего инструмента управления им. Наши компьютерные технологии в этом плане пока очень, очень примитивны.
ХУО: Напоследок я хотел спросить о вашем наследии. Несомненно, ваши труды повлияют на молодое поколение. В ходу ли ваше оборудование? Я смотрю на фотографии ваших синтезаторов – они словно произведения искусства. «Sequencer 129» особенно хорош. Вот и портативные устройства, и «Sequencer 256» – тут на фотографиях все ваши знаменитые изобретения.
ПЗ: Я всегда придавал большое значение дизайну. Дизайн очень важен для любого устройства. Чем лучше машина выглядит, тем, скорее всего, лучше она работает. Красивый самолет выглядит надежнее, и, вероятно, так оно и есть. Вот, например, моя старая партитура и фотография студии. Мне было очень важно, чтобы все выглядело презентабельно. То же относилось к брошюрам и всей нашей печатной продукции – для всего требовался идеальный дизайн. И это важно: без хорошего дизайна товар не возымеет успеха. В этом отношении мои изобретения могли бы прожить еще долго. Что же касается звука, то он устаревает очень быстро.
ХУО: Одним из ваших самых известных изобретений остается синтезатор «VCS3». Каким был бы современный аналог «VCS3»? Каким бы он стал в 2010 году?
ПЗ: Ну, к 2050 году он станет уже просто Wi-Fi соединением между мозгом и компьютером будущего.
ХУО: То есть мы уже движемся в этом направлении?
ПЗ: Да, несомненно. Только закройте глаза и представьте, что вы уже там. Настоящее чудо, не правда ли? Я надеюсь, вам и тогда тоже доведется брать интервью.
Минимализм и Флуксус
Терри Райли
Родился в 1935 году в г. Колфакс, штат Калифорния. Живет и работает в г. Норт-Сан-Хуан, штат Калифорния.
Терри Райли – американский композитор и музыкант, который ввел в западную музыку композиционную форму, основанную на цикличных повторениях. Он известен как один из основателей минимализма в музыке. Он проводил ранние эксперименты с петлями магнитной пленки и системами для создания эффекта задержки звука, что в значительной мере повлияло на развитие экспериментальной музыки. В 1964 году он закончил работу над своим самым знаменитым произведением, революционным минималистским сочинением «In C». Эта ставшая знаковой композиция из 53 отдельных фрагментов воплотила концепцию новой музыкальной формы, которую составляют взаимосвязанные цикличные фразы. Терри Райли сотрудничал с Центром магнитофонной музыки Сан-Франциско, работал, среди прочих, с Полиной Оливерос, Стивом Райхом и Рамоном Сендером. Начиная с 1970-х годов Райли находился под сильным влиянием его учителя и мастера индийского пения Пандита Прана Ната, у которого также учились Ла Монте Янг и Мариан Зазила. Через него Райли познакомился с рагой, одной из древнейших традиционных мелодических моделей в индийской музыке, которая служит основой для импровизации и свободной интерпретации композиций-раг. Райли учился в колледже Шаста, Государственном университете Сан-Франциско и Консерватории Сан-Франциско, а позже получил степень магистра искусств по композиции в Калифорнийском университете в Беркли, где он учился у Сеймура Шифрина и Роберта Эриксона.
Данное интервью, ранее не опубликованное, было взято в Манчестере на Манчестерском международном фестивале в 2011 году.
terryriley.net
ХУО: Не могли бы вы рассказать о вашем сотрудничестве с художниками? Я знаю, что еще в молодости вы были знакомы с Уолтером Де Мария…
ТР: С Уолтером Де Мария мы познакомились в студенческие годы – мы много лет учились вместе в Калифорнийском университете в Беркли[94]. Я думаю, на ранней стадии моей карьеры на меня во многом повлияли его концепции минимализма в искусстве и проектировании конструкций простых геометрических форм. Я работал со многими художниками. Один из моих любимых – это Брюс Коннер, калифорнийский художник, который делал ассамбляжи и снимал фильмы. Я познакомился с ним в начале 1960-х и написал музыку для нескольких его фильмов, в том числе «Перекрестки» («Crossroads», 1976) и «В поисках грибов» («Looking for Mushrooms», 1968).
ХУО: Когда я читаю ваши интервью или другие источники о том времени, у меня складывается впечатление, что это был удивительный период, почти как период колледжа «Блэк Маунтин». Там были и Ла Монте Янг, и Полина Оливерос[95] – вы говорили, в вашей жизни она сыграла важную роль. Но о колледже «Блэк Маунтин» знают все, чего не скажешь о Беркли.
ТР: Да. Мы были студентами музыкального отделения университета в Беркли, и все, что там происходило, устраивали сами студенты без участия академического руководства. Просто так вышло, что в то время было очень много талантливых людей, и они все съезжались в кампус Калифорнийского университета. Дэвид Дель Тредичи и Полина Оливерос, Ла Монте Янг, плюс Лорен Раш, Дуглас Лиди и Жюль Лангерт – все они очень талантливые молодые композиторы с интереснейшими для своего времени идеями. Мы устраивали в Калифорнийском университете много хеппенингов, в духе Дада. Мы с Уолтером Де Мария и Ла Монте Янгом в 1961 году организовали большой хеппенинг во внутреннем дворе здания факультета архитектуры, и о нем до сих пор вспоминают. Еще один мы провели в Сан-Франциско на «Старой макаронной фабрике», популярном тогда ночном заведении. Ла Монте написал в студенчестве некоторые из своих самых незаурядных работ, в частности «Поэму для столов, скамеек и стульев» («Poem for Tables, Benches and Chairs», 1960) и «Видение» («Vision», 1959). Через Уолтера Де Мария я познакомился с дадаизмом. Нас в то время очень интересовали Флуксус и Дада. Мы писали свои произведения, а потом разом представляли их вместе на таких мероприятиях. Мы не составляли заранее никакой программы, поэтому каждый просто приходил со своими заготовками и исполнял их. Но по духу произведения были близки друг другу, и еще в те дни мы сотрудничали с Анной Халприн, которая была тогда (и сейчас остается) очень авторитетной танцовщицей, основавшей свою танцевальную труппу [«Мастерская танцоров Сан-Франциско» / «San Francisco Dancers' Workshop»] в округе Марин, через залив от Сан-Франциско. [В 1959–1960 годах] мы с Ла Монте Янгом были музыкальными руководителями труппы Анны Халприн, и частью музыки, написанной нами в то время, мы обязаны ей[96]. ‹…›
ХУО: Вы сказали, что знакомство с Ла Монте Янгом – в некотором смысле самое важное в вашей жизни и что, на ваш взгляд, именно его радикальные идеи положили начало новому течению.
ТР: Знаете, его воззрения и его творческий путь в музыке совершенно исключительны. Его идеи приходили к нему словно с другой планеты – настолько был уникален его взгляд, его музыка, его чувство звука и времени. Я ничего подобного больше не встречал в своей жизни, а ведь он тогда был очень молод. Он как будто обладал врожденным умением обращаться со звуком. Когда я познакомился с ним, он стал для меня откровением. От него я узнал о многих течениях в музыке, например о японской музыке гагаку, которую исполняли при императорском дворе. У гагаку немало общего с его музыкой в плане пространственной ориентации. Он рассказал мне о новейших музыкальных хеппенингах в Европе, о которых я никогда не слышал, о музыке Карлхайнца Штокхаузена[97], Луиджи Ноно[98] и других. Он расширял мои музыкальные горизонты, и я многому у него научился. Прежде Ла Монте играл джаз. Мы часы напролет могли вместе слушать музыку и обсуждать музыкантов.
ХУО: А как вы узнали о Флуксусе? Были ли в Сан-Франциско каналы связи с ним?
ТР: Интерес к Флуксусу у меня возник благодаря Брюсу Коннеру и Ла Монте Янгу, и у меня завязалась переписка с разными членами этого движения – Диком Хиггинсом[99], Генри Флинтом, Рэем Джонсоном и другими. Мы посылали друг другу по почте чудные арт-объекты – вещи, которые мы просто находили на улице. К нам присоединились деятели из Европы, например Эрик Андерсен из Дании, Фольке Рабе и Ян Барк из Швеции. Драматург Кен Дьюи, с которым я в то время познакомился, работал с Анной Халприн и актерами «Живого театра»[100]. Все тогда увлекались межжанровыми проектами.
ХУО: Вместе с Мариан Зазила[101] Ла Монте Янг спроектировал «Dream House», «дом звука», который теперь существует как постоянный художественный объект. Он напомнил мне то, что в свое время в Париже сделал Пьер Анри[102]. Если говорить в общих чертах, он создал дом, каждая комната которого была наполнена разными звуками, и превратил его в постоянную инсталляцию. Еще я брал интервью у Ксенакиса – он рассказал мне о его «Политопах»[103]. Были ли у вас какие-то проекты, связанные с музеями, выставками или даже зданиями?
ТР: Да, и один из них, кстати, выставят в Лилле (Франция) в начале февраля [2004]. В 1968 году я разработал объект для шоу «Волшебный театр» («Magic Theatre») в Канзас-Сити (штат Миссури), поставленного в галерее Нельсона-Аткинса, и он назывался «Аккумулятор задержки времени» («Time Lag Accumulator»): это была конструкция восьмигранной формы три-четыре метра шириной с несколькими зеркально расположенными комнатками внутри, размером как раз на человека, и их соединяло несколько дверей. В каждой комнатке стоял микрофон, который записывал все, что в него произносили, а через какое-то время эта запись воспроизводилась в другой комнате. В конструкции находилось одновременно несколько человек, и они все обрывочно слышали, что говорят в других комнатах и что потом проигрывается через магнитофонную систему задержки звука.
ХУО: Вы создали «полифонию зрителей», так?
ТР: Верно, но еще я пытался через задержку звука придать новую ориентацию времени и пространству. Находясь в этой конструкции, ты не совсем понимал, где ты и как найти выход. Ее воссоздали к фестивалю в Лилле в 2004 году[104]. Структуру сооружения изменили и обновили, и называется оно теперь «Аккумулятор задержки времени II». Оригинальный «Аккумулятор задержки времени» из «Магического театра» переправили в город Стоуни-Пойнт (штат Нью-Йорк) к [художнице] Шари Диенеш, соседке Джона Кейджа. Они из него сделали оранжерею…
ХУО: Мы подошли к вопросу, который я неизменно задаю в каждом интервью: вопрос о нереализованных проектах. Не могли бы вы рассказать о проектах, которые еще не увидели свет, которые слишком велики для этого, подвержены цензуре или еще по каким-то причинам не были воплощены.
ТР: Почти все проекты, которые я задумывал, я хотя бы отчасти воплотил. У меня есть несколько долгосрочных проектов, например музыкальные произведения, которые я, как толстые книги, постепенно дописываю со временем, но смогу дописать до конца, только если проживу очень много лет. Одно называется «Книга Эбайэзуд» («The Book Of Abbeyozzud»), в нем только разнообразные гитарные партии для различных составов гитарного ансамбля. А в другом произведении-книге есть только фортепиано, и оно называется «Небесная лестница» («The Heaven Ladder»)[105]. Еще один проект, который я пока не дописал, это «Кольцо святого Адольфа» («The Saint Adolph Ring») – моя единственная опера. Она основана на творчестве Адольфа Вельфли[106]. Мы несколько раз ставили части этой оперы в 1992 году[107], но я все еще работаю над ней. В ней много импровизации, поэтому партитуры как таковой у нее нет. Мы импровизировали музыку на либретто Джона Дедрика, замечательного актера и драматурга, сыгравшего самого Вельфли в этой постановке. Я писал музыку и исполнял [пел, играл на фортепиано и синтезаторе] на основе этого либретто, но на разных концертах песни звучали совершенно по-разному. Кроме меня и Джона Дедрика на сцене была только Салли Дэвис, прекрасная певица, актриса и танцовщица. Фрэнк Рэгсдейл анимировал и проецировал рисунки Вельфли. Части напоминающих мандалы фигур удивительным образом оживали и танцевали на экране. Над декорациями работала художница Карен Изикел, отталкиваясь от рисунков Вельфли. Звукорежиссер Микаил Грэхем добавлял звуковые сэмплы и работал со звуком во время живого исполнения. Мы дали несколько очень неплохих концертов, но до конца произведение так и не довели.
ХУО: Чем вас заинтересовали рисунки Вельфли?
ТР: Однажды на Пасху в начале 1990-х я играл концерт со знаменитым певцом Пандитом Праном Натом[108] в Бернском музее изобразительных искусств, и там я впервые увидел произведение Вельфли[109]. Конечно, оно произвело на меня огромное впечатление, я был ошеломлен масштабом его синтетического подхода к искусству. В работе Вельфли было все – поэзия, музыка, образы, биография, автобиография, выдуманная биография, нотное письмо – весьма пророческое для его времени. Были коллажи – он даже использовал изображение банки супа «Campbell's» на несколько десятилетий раньше Уорхола. Увидев творение Вельфли, я пришел в такой восторг, что почувствовал потребность каким-то образом задействовать его. ‹…›
ХУО: Не могли бы вы рассказать о произведении «In C» (1964)? На кого-то оно может произвести такое же впечатление, как Вельфли на вас, ведь оно занимает всего одну страницу партитуры и при этом состоит из 53 фрагментов.
ТР: Я хотел добиться от музыкантов максимального участия в композиции, чтобы они сами принимали решения и импровизировали, как в джазе, или индийской музыке, или североафриканской арабской музыке. На Западе нет подходящей формы музыки для подобной импровизации. Вернее, есть несколько методов, но все они не вписываются в мое видение. Я стремился к полной координации. Я хотел включить элементы фолка и других интересных мне стилей, но при этом сохранить возможность импровизации и различного исполнения на каждом концерте. Так я изобрел свой метод – и применил его в «In C», – который дает музыкантам возможность выбора. Хоть я и задал эти 53 модуля, есть огромное множество вариантов, как их можно сочетать между собой. Я поставил целью избавиться от дирижера, который указывал бы музыкантам, как играть и как направлять течение произведения, и хотел, чтобы ансамбль стал сплоченным организмом и по-своему выражал музыку. В этом состояла главная идея: чтобы музыканты сами определяли, как звучать композиции. Конечно, от чего-то надо отталкиваться, поэтому я написал для «In C» базовые компоненты, но так, чтобы их легко можно было развить. И у меня получилось: «In C» толковали тысячами разных способов, и я ни разу не слышал, чтобы хотя бы два из них повторяли друг друга.
ХУО: Я вчера слушал один из вариантов «In C» и задался вопросом, есть ли у вас любимые исполнения и можете ли вы их сравнивать между собой? У Элисон Ноулз была концепция «открытой партитуры»[110], которая подразумевает, что не может быть «неверной» интерпретации. Согласны ли вы с Флуксусом в этом отношении или одни интерпретации все же лучше других?
ТР: Я согласен, что не может быть «неверной» интерпретации, потому что это просто не вписывается в саму философию произведения. Есть только основа, которая задает некие весьма строгие рамки, но не диктует конечный результат. И все же знаете, бывает так: у человека много детей, но один для него все же особенный… Есть несколько трактовок, которые мне нравятся больше других, потому что мне ближе творческая фантазия их исполнителей. В частности, одна, записанная на лейбле «ATMA» группой музыкантов из Монреаля – ансамблем Общества современной музыки Квебека (Socit de Musique Contemporaine du Qubec) и Вокальным ансамблем Монреаля (Ensemble Vocal de Montral). Вальтер Будро совместно с Раулем Дюге трактовали «In C» очень свободно и превратили ее в мини-оперу, в собственное сценическое произведение. Мне их идея показалась очень удачной и интересной – самому мне такое не приходило в голову. Особо надо отметить записи ансамблей «Bang on a Can All-Stars» и «Ictus». Они продемонстрировали невероятную точность и слаженность, их музыканты очень хорошо чувствуют медленные гармонические переходы в структуре и понимают, как чередовать волны звука.
ХУО: В контексте организации выставок меня очень интересует понятие полифонии, о котором писал Михаил Бахтин в исследовании произведений Достоевского[111]: его идея заключается в том, что каждый персонаж – это главный герой и между ними нет иерархии. Я хотел спросить у вас, какую роль полифония играет в вашем творчестве.
ТР: Я думаю, она выражается в том, что я часто создаю несколько одновременно звучащих слоев музыки, среди которых нет одной доминантной линии, а если и есть, то она может отойти на второй план и уступить место другой. Нет дирижера, нет руководителя, есть только единый дух. Как нити переплетаются в ткани, так в большинстве моих работ переплетаются темы и идеи, но из-за фактора случайности они складываются в общую картину по-разному. Мне нравится эта идея тем, что она вовлекает зрителя, дает ему выбор, на каком элементе музыкальной ткани сосредоточиться; словно сложная картина, как, например, текстурные картины [Марка] Ротко. Странно говорить о Ротко в контексте полифонии, тем не менее в его больших картинах, в неровностях текстуры можно разглядеть детали множества теней. Меня завораживают такие вещи, однако в то же время они вызывают во мне двойственное чувство, потому что я также люблю индийскую классическую музыку, в которой всегда присутствует партия солиста или единая линия мелодии. Поэтому в своих произведениях я такое тоже допускаю. Но делаю сольную линию достаточно сложной и с достаточным количеством отражений, чтобы у слушателя был выбор, за каким оттенком следовать. Выходит, есть два подхода к формированию структуры произведения, но эффект они могут производить один и тот же. Я научился этому у Пандита Прана Ната. Это был важный момент в моей жизни, когда я почувствовал, что мелодия и монотонность тоже могут представлять интереснейшую задачу. Я много работал над этим. На протяжении 26 лет будучи членом [Центра индийской классической музыки школы Кирана], я большую часть своих сил посвятил исследованию именно этой традиции.
ХУО: Двадцать шесть лет – немалый срок.
ТР: Да, я был с Пандитом Праном Натом до самой его смерти в 1996 году. Впервые в жизни я глубоко погрузился в традицию, чего не было с западной музыкой. Мое обучение проходило очень беспорядочно; как вы сказали, по большей части я был самоучкой: сначала учился играть на фортепиано на слух, потом какое-то время брал уроки, но в консерваторию никогда не ходил. Но в Индии я вместе с индусами получил их классическое образование. Пандит Пран Нат был человеком традиций, поэтому я учился так, как если бы родился в Индии.
ХУО: Судя по всему, проблема нотной записи вас тоже сильно тревожила, и в какой-то момент вы просто прекратили ей пользоваться.
ТР: В период с 1970 по 1980 год я ровным счетом ничего не записал на бумаге.
ХУО: Вы работали только с импровизацией?
ТР: Да, а еще я изучал индийские устные традиции, поэтому привык придумывать с ходу. Я много сочинял, но ничего не записывал.
ХУО: И как они сохранялись в памяти?
ТР: Ну, по крайней мере, они сохранялись в моей памяти. ‹…› Вчера случилась интересная вещь. Я был тут, в Париже, и кое-кто дал мне послушать концерт, который я написал в 1978 году и когда-то исполнил в Париже. Я совершенно не помнил этого произведения. Я бы запросто поверил, если бы мне сказали, что его автор кто-то другой… хотя я и узнал свой стиль игры. Иногда со временем забываешь о написанных работах. Тот концерт длился 90 минут и был одним из моих лучших, но с годами я забыл о нем напрочь.
ХУО: Получается, некоторые произведения выживают только благодаря записям?
ТР: Да, на пленке или других носителях.
ХУО: Расскажите, пожалуйста, о произведениях того периода, когда вы находились под влиянием устной традиции.
ТР: В то время я в равной степени много сочинял сам и изучал индийскую классическую музыку. Написание композиций я начинал с ритмической структуры и тональности и из них развивал остальную часть. Они бывали очень длинными, как раги, и тоже делились на части. Хоть это и не были раги, отсыла к ним была очевидна.
ХУО: Не могли бы вы рассказать о сочинении «Ноугуд» [«Poppy Nogood and the Phantom Band All Night Flight», 1968]? Молодые музыканты теперь часто обращаются к нему. ‹…› В одном интервью вы сказали, что в то время в вашем творчестве играли определенную роль некие видения. Когда эту композицию сейчас слушают, многие говорят, что при этом ощущают «нечто».
ТР: Раз уж вы заговорили о видениях, то нужно сказать, что на моей жизни в то время сильно сказалось употребление наркотиков. Я экспериментировал с психоделиками, ЛСД, грибами, марихуаной и гашишем и, конечно, открыл для себя много нового. Я проникся интереснейшими идеями о музыкальной перспективе, о том, как раскрыть ноту и создать из нее одной целую вселенную. Я не занимался тем, чем Ла Монте Янг, но я приобрел ценный психоделический опыт, когда время замедляется настолько, что ты начинаешь видеть больше деталей внутри малого периметра. Думаю, так я пришел к форме произведений вроде «Поппи Ноугуд», в которых не так много элементов, но эти элементы кружатся в космическом водовороте; как планеты вращаются вокруг Солнца, так части обращаются вокруг центральной идеи и тянутся к ней, развивая отношения между собой. Я остановился на такой структурной модели, но ее нельзя назвать интеллектуальной, потому что она основана на моих личных чувствах и ощущениях от звука. Я писал ее сердцем, а не разумом.
ХУО: К «Поппи Ноугуд» нотации тоже не было?
ТР: Нет, не было.
ХУО: То есть сохранились только записи.
ТР: Да. Ее собираются сыграть на фестивале в Лилле, поэтому я посоветовал исполнителю послушать записи и воссоздать композицию через них. Нотная запись противоречит замыслу, ведь это устный опыт, и он никак не должен быть связан партитурой. По сути, его структуру держат только отражения звука. «Поппи Ноугуд» перекликается с «Аккумулятором задержки времени», с той моей системой задержки звука, в том смысле, что произведение находится в зависимости от временного цикла и от того, в каком месте этого цикла находишься ты. Нет никакой возможности графически записать его партитуру, потому что она разная каждый раз, и музыкант должен слушать и встраиваться в этот цикл, и каждая новая серия фраз должна соответствовать этому циклу. Единственное, что можно записать, так это сами повторяющиеся фрагменты, как я сделал с «In C».
ХУО: Вы очень рано начали использовать пленку и систему петель магнитной пленки. Я читал, что вы разработали ее вместе с друзьями в 1962 году в Парижской студии ORTF [Offce de Radiodiffusion-Tlvision Franaise / Студия радио– и телевещания Франции]. Примерно в то же время в Сан-Франциско появилась организация под названием Центр магнитофонной музыки Сан-Франциско. Позже пленочные системы получили широкое распространение, но в 1960-х пленка была еще новым носителем.
ТР: Не забывайте, что в то время композиторы не могли работать с синтезируемым звуком ни в какой иной форме. Были звуковые генераторы, электроорганы и еще несколько инструментов, которые производили звук посредством электроники. А пленка была единственным носителем, и с ней мы чувствовали себя так, как если бы впервые видели себя в зеркале. Раньше звук нельзя было записать. С появлением этого «зеркала» мы смогли получить отражение, а потом обнаружили, что можем играть с этим зеркалом и менять элементы, а пленочная петля стала самым распространенным приемом. Саму петлю можно проигрывать огромным количеством способов – мы пробовали регулировать скорость прокрутки пленки вручную, воздействовать непосредственно на магнитную головку – проматывая на ней пленку, можно добиться глиссандо и других музыкальных эффектов…
Многих музыкантов заинтересовала эта идея, к тому же почти каждый мог купить простенький дешевый магнитофон и начать экспериментировать у себя дома.
ХУО: Я брал интервью у Пьера Булеза, Штокхаузена и Эллиота Картера, и все они рассказывали, что на заре их деятельности, в 1950-х годах, работа проходила в «больших студиях». У вашего поколения подход куда более самостоятельный, и я хотел спросить, связано ли это с появлением пленки и новых технологий? Вы предвосхищали нынешнее поколение, которому для работы нужен один только ноутбук.
ТР: Что касается упомянутых вами больших студий, вроде студий в Кельне или Милане ‹…›, то там роль сыграла среда, в которой росли люди. Я рос в культуре Сан-Франциско, и на нас больше повлияли поэты-битники, которые представляли контркультуру, так что никому не нужны были «большие студии». Мне не приходило в голову основать какую-то организацию и идти против своей не ограниченной ничем свободы. Я предпочитал оставаться в музыкальном андеграунде, а не связываться с академиями или центрами, хотя позже Рамон Сендер, Полина Оливерос, Мортон Суботник и другие все же основали Центр магнитофонной музыки Сан-Франциско, где они культивировали экспериментальное искусство и музыку.
ХУО: Но вы по-прежнему придерживаетесь своих взглядов и не хотите создать собственный институт?
ТР: Да, мне это неинтересно.
ХУО: Еще я хотел спросить про ваш рабочий процесс. В интервью я часто задаю вопрос о личных студиях и лабораториях. Сейчас, в эру интернета, все говорят о постстудийной практике. Не могли бы вы рассказать о своем рабочем месте, о поездках, о вашей организации времени в поездках и, главное, про уединенное ранчо близ Сан-Франциско, где вы работаете. Однажды я прочел, какой у вас распорядок: вы встаете ранним утром и начинаете день с молитв, слушаете индийскую классическую музыку и 4–5 часов упражняетесь в пении…
ТР: Знаете, я тружусь как отшельник, в том плане, что я работаю по многу часов, в одиночестве и, как вы отметили, стараюсь соблюдать дисциплину. Чаще всего первую половину дня я уделяю рагам. Я прочел одну книгу о Керуаке, в которой говорилось, что, перед тем как начать писать стихотворение или что-то еще, он читал молитву. Так повлияло на него католическое воспитание. Одна из вещей, которые я осознал благодаря Пандиту Прану Нату, – это то, что важно обозначить перед вселенной свои намерения, прежде чем начать труды. Важно почувствовать связь с тем, что больше тебя самого. Я помню об этом при работе. Я понял одно: когда начинаешь с мысли: «Я силен, и мне по плечу то, что я собрался сделать», шансов добиться успеха у тебя меньше, чем если ты сначала попросишь разрешения.
ХУО: В таком же духе высказался американский художник Уистлер: «Искусство случается само». Могли бы вы сказать, что «музыка случается сама»?
ТР: По-моему, так и есть. Хоть она и становится плодом нашего взаимодействия с творческим духом внутри каждого из нас, мы в то же время слитны с ним, слитны друг с другом, мы с вами едины, только в реальности кажется, будто это не так. Когда ты осознаешь это и начинаешь использовать, твой подход к работе значительно выигрывает. Например, у тебя не бывает творческого кризиса, ведь ты знаешь: все, что ты создашь, будет не зря. Иначе вселенная не позволила бы тебе это сделать.
ХУО: Вы сказали, что соблюдаете строгий режим при работе, но вас это не тяготит, что, по всей видимости, объясняется таким взглядом на вещи.
ТР: Сегодня, например, я совсем не соблюдаю режим – я в Париже, я определенно встал не в пять утра и не начал работать. Когда я в пути, я отдаюсь на волю «путешественности», знаете, я просто еду и стараюсь хоть как-то сохранять порядок – писать музыку и упражняться. А дома я веду домашний образ жизни с его строгим режимом, поскольку там у меня под рукой есть фортепиано и все мои инструменты.
ХУО: Для вас важно иметь собственное рабочее место?
ТР: Да, мне нужно рабочее пространство, и это самое главное, что мне нужно. Я могу работать в пути, но дома обстановка куда благоприятнее.
ТР: Со временем начинаешь понимать, что каждый день ставит перед тобой новые задачи. Каждый день разный. Во время работы в какой-то день ты не можешь понять, куда движешься, но не останавливаешься и продолжаешь работать, не переживая из-за этого. В другой день все станет ясно, и тебе просто надо принять, что творческий процесс – это долгий путь. Надо осознать, что, если сейчас произведение не случилось, возможно, оно случится через 10 лет, и тут нет ничего плохого, просто таково творчество. Скорее всего, многие из нас оставят после себя много незаконченных работ – вы спрашивали про незавершенные проекты, – так вот, после смерти у нас их останется предостаточно.
ХУО: Дьердь Лигети мне так и сказал: у него нет времени на встречу со мной, потому что ему уже 80 лет, а у него все еще не написанной музыки на 40 лет вперед.
ТР: Однажды в интервью у 90-летнего Пау Казальса, виолончелиста, спросили: «Почему вы все еще занимаетесь по три часа в день, ведь вам 90 лет?» Он ответил: «Потому что, мне кажется, я прогрессирую». И это в самом деле так. Деятели вроде Лигети или Кейджа, которым за 80 или 90, Эллиота Картера, – я уверен, они все считают, что продолжают совершенствоваться.
ХУО: Что связывает вас с Кейджем? После Парижа вы в 1965 году приехали в Нью-Йорк, и я хотел спросить, как вы с ним соприкасались, ведь у вас, очевидно, много общего, например интерес к явлению случайности. Состоялся ли у вас диалог?
ТР: Я виделся с ним раз 10–12 в жизни, и мне он очень нравился, хоть у нас и были разные взгляды на музыку. Самое главное, что нас объединяет, это влияние восточной мысли, в его случае буддизма. Для западной музыки очень полезна буддистская идея принятия вещей такими, какие они есть, вместо стремления переделать их. Я думаю, в этом заключался урок, которому я научился у Джона Кейджа. С годами я все больше начинаю ценить его творчество, наблюдая, как философия отражалась в его работах, самых главных работах. В студенчестве мне как-то выдалась возможность поработать с ним: он приехал в Калифорнию, и мы участвовали в его концерте. Это был очень ценный познавательный опыт.
ХУО: В 1980-х вы снова начали работать с нотацией, которую называли «продолжением импровизации». В нашей с ним беседе Булез сказал, что для него партитура никогда не завершена, он не верит, что нотация может быть окончательной, она скорее в вечном «processus en cours». Не знаю, как это лучше перевести – «текущий процесс»?
ТР: Испытательное состояние, я бы сказал.
ХУО: Еще мы говорили о «partition de partition», партитуре партитуры. Есть ли в ваших последних нотациях что-то, что требует вечного совершенствования и доработки, и как в них отражена импровизация? Считаете ли вы уместным термин «партитура партитуры»?
ТР: Нет, в моем случае подход совсем иной. Я пишу очень минималистичные нотации – обозначаю только высоты и ритмы. Я бы согласился с тем, что партитура никогда не закончена, но не в смысле нотации, а в смысле исполнения. Когда нотационные знаки начинают вырисовывать структуру произведения, я считаю, надо сразу нести его музыкантам и полагаться на их профессиональные навыки и слух, поскольку чем-чем, а этим они обладают. Я убедился в этом, когда работал с квартетом «Kronos». Имея дело с музыкантами, в совершенстве владеющими своими инструментами (чем я похвастаться не могу), я просто обсуждаю с ними возможные варианты исполнения, и мы продолжаем вместе работать уже после написания партитуры, из чего в результате появляется произведение. Оно сильно отличается от того, что я изначально написал, потому что в моей партитуре не хватает диакритических знаков: их не может быть на бумаге, они существуют только в живом исполнении.
ХУО: Как вы работаете над партитурами?
ТР: Сейчас я, конечно, пользуюсь компьютерными программами. Они оказались для меня чрезвычайно полезными, потому что мне как импровизатору нужно услышать несколько разных вариантов, а когда пишешь от руки, каждый раз приходится все переписывать. На компьютере можно вырезать и вставлять куски в любом порядке. Компьютер стал моим добрым другом, и наше «знакомство» прошло очень успешно.
ХУО: Когда вы начали пользоваться компьютером?
ТР: Где-то в 1985 году.
ХУО: Это очень давно.
ТР: Я начал при первой возможности. Как только появились рабочие программы, я сразу стал их использовать.
ХУО: В отличие от некоторых других композиторов, у вас нет своей школы. Булез, например, учредил институт IRCAM. Вы всегда сторонились организаций и держались обособленно. Как вы видите преподавательскую деятельность? Как диалог с учениками? Как бы вы ее определили? Вам доводилось преподавать в университетах или школах?
ТР: Я десять лет преподавал в колледже Миллс в Окленде (штат Калифорния), где работал Дариюс Мийо. Я примкнул к череде композиторов, преподававших там, вслед за Лучано Берио, Леоном Киршнером и самим Дариюсом Мийо. Кроме того, вместе с Пандитом Праном Натом мы вели там занятия по североиндийскому пению раг. Тогда я единственный раз в жизни связал себя с учреждением, и мне это нравилось, в первую очередь потому, что мне дозволялось делать что угодно. В других институтах мне не дали бы учить композиторов на занятиях по композиции пению раг. Я осознал, какое большое количество композиторов, даже искушенных в сложных формах, не может спеть гамму. На мой взгляд, они должны уметь управлять своим голосом и на практике почувствовать процесс рождения музыки. Многие композиторы работают очень рассудочно и видят музыку как архитектуру, в чем я не могу их упрекнуть, но все же они упускают то огромное удовольствие, которое испытываешь от извлечения настоящего звука. ‹…›
ХУО: Рага – крайне аутентичная музыкальная форма. Как ей можно научить западных музыкантов?
ТР: На начинающего музыканта раги могут оказать большое влияние. Замечательно то, что тебе не нужно изучать всю огромную традицию – на это может уйти вся жизнь, – но важный урок заложен уже в ее основах. Базовые принципы – интонирование, резонансы, удовлетворение от резонирующего тела – отсутствуют в западной музыке, в большинстве случаев основанной на равномерном сдвиге строя. В качестве примера среди западных работ можно привести «Хорошо настроенное фортепиано» [«Well-Tuned Piano», 1964 – наст. вр.] Ла Монте Янга, своеобразную Библию натурального строя[112] для композиторов. Сто лет назад мы потеряли традицию строя, когда стандартом стала равномерная темперация[113]. Главный принцип равномерной темперации заключается в том, что все ноты звукоряда удалены друг от друга на равные интервалы. Но ведь для этого надо, чтобы каждая нота была слегка вне строя.
ХУО: Чтобы их можно было упорядочить.
ТР: Я бы привел в качестве аналогии гомогенизированное молоко – молоко, в котором равномерно распределены сливки. Мы лишены насыщенного слоя, есть только «пастельные» тона без отчетливых форм и цветов. Чистым интервалам присуща яркая выразительность, резонансы обладают индивидуальностью; каждый интервал уникален и отличается окраской от следующего. При равномерной темперации оттенки цветов приглушаются. Нужен целый набор интервалов, чтобы создать экспрессивный образ. Когда кто-то играет голыми трезвучиями, возникает диссонанс. Отсюда – свойственное равномерной темперации беспокойство в музыке. Ты хочешь скорее перейти к следующему аккорду, потому что тот, на котором ты сейчас, не звучит как надо. В музыке в натуральном строе можно подолгу оставаться на одном аккорде и чувствовать полноту резонанса.
ХУО: Как на ваше творчество повлияли другие дисциплины, например кино или литература?
ТР: Я думаю, наибольшее влияние на мою работу имела архитектура. Мне нравится, что Майкл Макклур использует слово «источник», а не «влияние»: у нас есть не влияния, а источники. Я бы сказал, моими источниками были и кино, и архитектура, и поэзия. Когда видишь, как другие делают то же, что и ты, только посредством других медиумов, иногда находишь для себя новые решения.
ХУО: Нравятся ли вам работы молодых композиторов? Может, прочите кому-то большое будущее?
ТР: Может показаться, что я слишком высокого мнения о династии Райли, но музыка моего сына Джиана произвела на меня довольно сильное впечатление. Уникальной личностью был Джон [Каннингем] Лилли. Он изучал межвидовые коммуникации ‹…› Я виделся с ним несколько раз. Однажды мы вместе работали на мексиканском побережье. Я пел через микрофон в подводные динамики раги для дельфинов, а Джим Ноллман, его коллега, играл для них из лодки на гитаре. Мы пытались выявить их реакцию на нашу музыку. Меня заинтересовал этот объект исследований, и так началось наше сотрудничество. Позже я приезжал к нему домой в Малибу и опробовал его изолирующую капсулу. Она еще называется камерой сенсорной депривации. Снаружи она выглядит как саркофаг, довольно жутко. Когда закрываешь за собой люк, оказываешься в полной тишине и темноте. В камере ты лежишь на поверхности небольшого слоя 90-процентного соляного раствора температуры тела. Этот опыт сравним с эффектом от ЛСД или другим психотропным воздействием, когда начинаешь видеть и слышать то, чего нет на самом деле, и это необыкновенное ощущение. Я пробыл в капсуле около часа, а потом вдруг сглотнул, и это событие приобрело для меня невообразимый масштаб. Джон Лилли сам изобрел эту капсулу и ежедневно погружался в нее. Одновременно он принимал психоделические вещества и вел журнал своих впечатлений. В его книгах запечатлены его трипы. ‹…›
ХУО: Я работаю в музее, и мне всегда интересно читать, как художники, архитекторы или композиторы представляют себе музеи. Какими их видите вы? Какие ваши любимые музеи? Каким бы вы могли себе вообразить музей музыки?
ТР: Для меня музеи, особенно музеи современного искусства, – это прекрасное место для того обогащения, о котором я говорил раньше: там ты можешь увидеть, как работают другие художники, и почерпнуть что-то от них. Иногда, когда что-то производит на меня сильное впечатление, я думаю: «Я бы хотел воплотить подобное через звук». Я понимаю принципиальное отличие музыки от изобразительного искусства: публика не может воспринимать ее так же динамично, как картины, скульптуры или инсталляции в галереях. Я думаю, в первую очередь это связано с временной ориентацией звука, а во-вторых, концерт требует исполнителя и контакта с аудиторией. Без живого исполнителя музыка в музее потеряет очень многое, даже если это звуковая инсталляция. Наверное, поэтому решение так и не было найдено и поэтому у нас все еще есть концерты. Концерты – это музей для музыканта, куда люди приходят, чтобы ознакомиться с его работой.
Тони Конрад
Родился в 1940 году в г. Конкорд, штат Нью-Гэмпшир, США. Живет и работает в г. Буффало и Нью-Йорке, США.
Тони Конрад – американский художник, композитор и авангардный режиссер, который прославился в кругах авангардных кинематографистов сначала саундтреком к ленте Джека Смита «Пламенные существа»/«Flaming Creatures» (1963), затем как режиссер фильма «Мерцание»/«The Flicker» (1965–1966). В качестве музыканта Конрад был одним из первых участников «Театра вечной музыки»/«Theatre of Eternal Music», ансамбля экспериментальной дроун-музыки, существовавшего в середине 1960-х годов и позже известного под названием «The Dream Syndicate», в который также входили Джон Кейл и Ла Монте Янг. В 1972 году он работал с краут-рок-группой «Faust» над их альбомом «Outside the Dream Syndicate», ставшим классикой минимализма в музыке.
В 2008 году в галерее Тейт-Модерн состоялось шоу «Unprojectable: Projection and Perspective», сопровождавшееся кинематографическими и видеоработами Конрада. В 2009 году его «Желтые фильмы» («Yellow Movies», 1972–1976) были представлены в рамках 53-й Венецианской биеннале. Сейчас он преподает в отделении Исследований мультимедиа (Department of Media Studies) Университета штата Нью-Йорк в Буффало, первом университете, в котором появилась отдельная программа, посвященная мультимедийному искусству. Конрад окончил Гарвардский университет, получив степень по математике.
Данное интервью было взято в кафе, а затем в холле ярмарки «Арт Базель» в 2007 году. Ранее опубликовано в книге: Hans Ulrich Obrist. Interviews, Volume II, ed. Charles Arsne-Henry, Shumon Basar and Karen Marta. Ed. «Charta Editions», Milan, 2010, P. 456–471.
tonyconrad.net
ХУО: За ваш творческий путь вы совершили открытия в музыке, звуке, изобразительном искусстве и кинематографе. С чего все началось? На какой области вы сосредоточили свое внимание, прежде чем стали покорять остальные?
ТК: Это довольно личный вопрос. Не знаю, насколько это интересно другим людям, но мой отец познакомился с моей матерью, когда преподавал ей акварельную живопись. Он хотел стать художником, но ему приходилось работать портретистом и гримером. Я вырос в его студии и, конечно, ни при каких обстоятельствах не рассматривал карьеру художника. Я любил музыку, потому что она взывает к внутреннему миру. Отношения с музыкой для человека всегда особенны и прочны. Потом в какой-то момент у меня возник роман с математикой, в которой я, правда, в итоге разочаровался.
ХУО: Вы говорите о 1950-х?
ТК: Да, о начале 1950-х.
ХУО: В то время вы учились в музыкальной школе.
ТК: На самом деле я никогда не ходил в музыкальную школу, просто у меня был знакомый преподаватель, который устроил мне несколько уроков в консерватории Пибоди в Балтиморе. Я учился очень плохо, но мне повезло, что мой преподаватель был ненамного старше меня и смог вызвать во мне интерес. Когда он понял, что я не умею играть вибрато, что у меня не хватает экспрессии, он предложил мне брать у него уроки акустики. Он дал мне учебник и стал учить теории. И я много для себя извлек. Музыка для меня всегда представляла собой полезное, плодотворное пространство. В доме моей семьи музыка звучала нечасто. Фортепиано у меня появилось только потом. Так что мой учитель раскрывал для меня волнительные тайны. Он научил меня тому, что лучше всего усваиваешь новое, когда играешь на скрипке очень медленно и очень внимательно слушаешь.
ХУО: В Гарвардском университете вы учились, помимо прочих, вместе с Кристианом Вульфом[114]. Вы ходили на лекции Джона Кейджа и Дэвида Тюдора[115]. Кто тогда повлиял на вас в наибольшей степени? Кем были ваши кумиры?
ТК: У меня был хороший друг, Генри Флинт[116], с которым мы часто вели жаркие споры. Я в то время увлекался романтизмом – Чайковским, Брамсом. Он убедил меня, что я должен с идейной, с идеалистической точки зрения проникнуться Бахом и Бартоком, которые, на его взгляд, были самыми передовыми композиторами. Я стал намеренно слушать их и обнаружил, что и в самом деле могу полюбить вещи, которые раньше ненавидел. Для 17-летнего подростка это невероятное открытие. Я слышал, что в современной культуре есть вещи еще хуже, поэтому решил слушать все подряд и пытаться понять, в чем же суть. Я пошел на лекцию этого нью-йоркского композитора, который привел с собой на выступление друга-пианиста. Лектор расказывал о подходе к композиции, в котором ноты не играют никакой роли. Для него не имели значения мелодия или гармония. По сути, он оставлял это все на воображение слушателя, а в композицию включал только набор случайных нот. Я пришел в восторг. Придя к Генри, я сказал, что Джон Кейдж пошел куда дальше Бартока. Так у нас снова появился предмет для споров. Обстановка в университете располагала к фантазиям о культурных переменах, о культурном прогрессе, и важно обратить на это особое внимание, ведь, как мы понимаем, в долгосрочной перспективе довольно сложно поддерживать идею прогресса. Но эта фантазия проложила путь для революционных возможностей. Подход Кейджа оправдывал мои собственные эксперименты с культурным релятивизмом в звуковом искусстве. Я начал находить своих единомышленников и целиком ушел в музыку. Я не мог предположить тогда, что буду как-то связан с кино, живописью, миром искусства и так далее. Вот так сюрприз. Чтобы делать революцию, надо сначала ее почувствовать. А я не верю в революции.
ХУО: Вы однажды сказали, что революции – это трата энергии.
ТК: Да, их, на самом деле, просто не бывает.
ХУО: Не могли бы рассказать о вашем диалоге с Генри Флинтом в то время?
ТК: У нас с ним постоянно возникали прения на протяжении того периода, когда он разрабатывал свою теорию культурной деятельности, которую я, несмотря на ее сложность, могу в двух словах описать так: неприятие соперничества.
ХУО: Похоже, Флинт с фанатизмом относился к своим письменным трудам, в то время как вы были скорее склонны вести дискуссии. О ваших тайных беседах мало известно.
ТК: Это правда. Я думаю, одна из причин, по которым массовые тенденции в культуре отдаляются от критического анализа, заключается в том, что анализ происходит вне этих тенденций. Письменные труды становятся сложными для восприятия. Как, например, книга ранних трудов Флинта, под названием «Замысел высшей цивилизации» (Blueprint for a Higher Civilization. Ed. «Multhipla Edizioni», Milan, 1975), которая вышла уже довольно много лет назад и теперь уже считается апокрифической, и достать ее почти невозможно. Что ж, посмотрим. О чем вы меня спрашивали? Ах да, тайные беседы. Ну, я не знаю. Мы не пытались ничего держать в тайне.
ХУО: Почему вы переехали в Нью-Йорк?
ТК: Я тогда был другим человеком. Мы с вами сейчас пытаемся – что довольно глупо – воскресить события 45-летней давности, и моя память уже полна пробелов и неточностей, поэтому я могу сейчас придумать что угодно. Когда я в 1962 году приехал в Нью-Йорк, деятельность Флуксуса уже шла полным ходом. Я перебрался в Нью-Йорк в то время, когда жить там было дешево. Я снимал квартиру за 25 долларов в месяц и делил арендную плату со своим соседом, то есть платил 12 долларов в месяц. Я чувствовал себя независимым от экономической системы. Но такая экономическая независимость не способствовала реализации крупных проектов. У меня была коллекция заметок: клочки бумаги, буклеты и записи бесконечных идей и невоплощенных проектов. Я думал, со временем я буду работать все медленней и медленней и в старости эти бумажки мне пригодятся. Однако дел у меня пока хватает, и многие из тех замыслов еще только ждут своего часа.
Некоторые проекты просто превратились в партитуры или нотации достаточно общего характера, чтобы из них могли получиться самостоятельные произведения. В музыке ощущение культурного прогресса было настолько сильно, что, казалось, все самое главное происходит именно в музыке. Мы все подряд называли музыкальными сочинениями или композициями, чаще всего просто «сочинениями». «Сочинения» Эммета Уильямса, «сочинения» Боба Морриса, «сочинения» Уолтера Де Мария, а также «сочинения» Ла Монте Янга и так далее.
ХУО: Что вы сами тогда писали?
ТК: Я написал, к примеру, «This Piece Is Its Name» [1961] в качестве ответа деятелям круга Флуксуса, которые писали партитуры в виде инструкций, вроде «вскипятите телефон». Они придумывали всякие неординарные задачи, но я не хотел никому давать инструкций и не хотел получать их сам. Я не понимал, зачем вообще нужны такие партитуры? Я задумался, нельзя ли совсем избавиться от необходимости указывать кому-то, что делать. Этим меня раздражали уроки музыки и игра в шашки: «Нет, сюда нельзя ходить!» А что, если я хочу «сюда сходить»? Я подумал, что интересно было бы написать такое произведение, которое не нуждается в правилах игры и руке игрока. «This Piece Is Its Name» ныряло в некую черную дыру тавтологического пространства, где произведение становилось самодостаточным, избавленным от формальной зависимости от исполнителей, что было нашим общим с Генри Флинтом объектом критики. Выяснилось, что на некоторых площадках Нью-Йорка происходят удивительные вещи безо всякой связи с институтами. Об одной такой киностудии все говорили и называли ее «андеграундной», хотя это просто была кучка чудаков из даунтауна. Реальность даунтауна как будто нашла таким образом свой способ самовыражения вне принятых традиций. Люди определенного сорта жили в мире своей фантазии, которая становилась реальностью только тогда, когда они надевали костюмы, принимали томные позы и начинали делать необычные вещи, которые обнаруживали их истинную личность. В равной степени это касалось музыкантов. Я узнал, что есть те, кто не придает значения партитурам, умению играть на инструментах и прочему, но при этом все равно делает музыку. Теперь это называется фри-джазом.
Тогда я охарактеризовал бы это как этническую музыку даунтауна. Это независимая музыкальная форма. Я уже ушел от вашего вопроса, но бывает, я ищу в истории моменты, когда что-то было недопонято, и пытаюсь взглянуть на них по-новому. И знаете, в истории развития музыки действительно были белые пятна. Например, Мориц, принц Оранский, примерно в 1685 году, прочитав труды о римских легионах, начал системно вводить строевую подготовку и воинскую повинность; это в огромной степени повлияло на ход 30-летней войны; после окончания 30-летней войны Людовик XIV установил новую форму государственной бюрократии, основанную на новой милитаристской модели, и национальность в Европе стала главным фактором личностной идентификации; традиция военной службы стала неразрывно связана с именем [Жана] Мартинэ; как следствие, западная музыка структурно оказалась заключена в строгую форму оркестра, разработанную во время правления Людовика XIV [Жаном-Батистом] Люлли, который разделял любовь Людовика к танцам и считался его другом. Хоть Люлли был геем – а за такое преступление в те времена сжигали на костре, – Людовик вверил ему всю музыку во французском государстве.
ХУО: Дал ему монополию.
ТК: Именно, монополию. Это дает нам представление о том, на каком уровне тогда действовала власть. Государство использовало музыку как орудие системного контроля. Оно управляло телами аристократии через жесткие танцевальные формы. В последующие 100 лет эта система развивалась занятным путем и породила командную структуру под названием «партитура».
ХУО: Партитуры не бывают нейтральны.
ТК: Никогда! Именно по этой причине, когда мы работали с Ла Монте Янгом, Мариан Зазилой и Джоном Кейлом, нашей главной задачей было избавиться от роли композитора как автора партитуры, упразднить эту функцию.
ХУО: Пьер Булез сказал мне, что партитура никогда не закончена. Что она бесконечна. Еще он рассказал мне о концепции партитуры партитуры.
ТК: В 1961 году я еще писал музыку и партитуры. Например, «Три петли для музыкантов и магнитофонов» («Three Loops for Performers and Tape Recorders»), в которой я использовал систему задержки звука из двух магнитофонов, похожую на системы, которые позже применяли Терри Райли[117] и Стив Райх[118]. Еще я писал партитуры во время своей поездки в Европу в 1960–1961 годах, когда я навестил [Карлхайнца] Штокхаузена в студии Радио Западной Германии (Westdeutscher Rundfunk). Вернувшись в Америку, я сказал Генри, что написал несколько партитур, на что он ответил: «О, а я этим больше не занимаюсь, я слушаю Элвиса Пресли». Я подумал, господи, что происходит?
Критика культуры Генри Флинта для меня имела большое значение. Она казалась мне очень убедительной, в частности идея того, что – говоря примитивным языком – интерес человека к изобразительному искусству, музыке или любым другим культурным явлениям измеряется исключительно тем, насколько они ему «нравятся». Но если дело только в этом «нравится», если дело только в удовольствии, в удовлетворении, возникает вопрос: откуда в искусстве берется соперничество? Генри построил теорию, что в культурной системе не должно быть ему места, потому как при соперничестве кто-то один оказывается проигравшим, что подразумевает в творческой деятельности какую-то гнильцу, приравнивает ее к шахматам, шашкам, баскетболу или пинг-понгу. Соревновательная составляющая должна быть неприемлема. К таким выводам Флинта в некоторой степени подвели свойства его характера. Теперь, через столько лет, я это понимаю – я сам оказался втянут в эту аналитическую концепцию. Мне кажется, есть связь между оригинальными теориями Флинта и способом его самоутверждения как личности, странного для того времени – 1962 года. Мода на подобный имидж пришла гораздо позже. Он позиционировал себя как «отморозка» – незрелого, асоциального человека. Признавая себя социально неприспособленным, он подчеркивал бессмысленность соперничества. А в среде, где мы отвергаем соперничество, мы, таким образом, признаем и отвергаем ту составляющую музыки, изобразительного искусства и так далее, которая порождает соперничество. Вот в общих словах его сложнейшая теория, которой Генри давал много имен и о которой прочел множество лекций. Он принес свой тезис в круги Флуксуса в начале 1960-х годов.
ХУО: Он был против музеев?
ТК: Против любых институтов в сфере искусства. В этом некоторые деятели разошлись с ним по идеологическим причинам. Он обменялся весьма едкими высказываниями с парой личностей.
ХУО: Тем не менее вы оставались с ним.
ТК: Из-за Флинта я оставался в стороне от мира искусства следующие 30 или 40 лет. Так что если спросите, поддерживал ли я его – да, поддерживал. И институты в области искусства по-прежнему вызывают у меня вопросы. Но в нынешних условиях они функционируют иначе, а идеологические споры об унификации, актуальные в 1961, 1962, 1963 годах, сегодня принимают совсем иной оборот, и это важно, на мой взгляд.
ХУО: Любопытно: Люси Липпард говорила о «дематериализации» художественного объекта[119], но ведь это, очевидно, происходит по причине процессов, свойственных искусству.
ТК: Да. Однако Липпард имела в виду то, что называется «концептуальным искусством». Идея «искусства концепта», о которой писал Флинт, отличается от появившегося позже «концептуального искусства». Искусство концепта родилось из отрицания соревновательности и поддерживающих ее институтов, но для Генри крайне затруднительно оказалось описать, что же тогда остается от культуры или что же тебе «просто нравится». Когда во время лекций его просили привести примеры, он отвечал: «Я не могу привести пример. Вам должно что-то понравиться самим, лично вам. Найдите то, что вам нравится. Мы вам сказать не можем». Его идеи нельзя было отнести к новомодным веяниям. Они существовали сами по себе, в его замкнутом мире и изолированно от культурного потока. Но когда он сам пытался понять, что ему «нравится», он обнаруживал, что ему нравятся те вещи, которые наталкивают его на новые мысли. Кстати говоря, на мой взгляд, самое прекрасное в живописи, музыке и культуре вообще – это способность менять наше сознание. Для меня это всегда было величайшим воздаянием за труды.
ХУО: [Франсис] Пикабиа как-то сказал, что у нас головы круглые, чтоб мысли могли менять направление.
ТК: Хорошо сказано.
ХУО: Не могли бы вы подробнее рассказать об искусстве концепта?
ТК: Идея Генри заключалась в том, что концепт может выдержать испытание соревнованием и приобрести форму в виде неких отличительных черт. Он пытался выйти на художественную сцену с искусством концепта и представить на ней эту форму, подкрепив ей свою критику. В первую очередь его критика была направлена на музыку, поскольку в то причудливое время музыка находилась в центре внимания, по крайней мере, в наших кругах. Конечно, дискурс касался и других областей, люди интересовались самыми разными вещами, но данная дискуссия крайне заинтересовала «композиторов» Флуксуса, в частности Эммета Уильямса.
ХУО: В чем ощущалось влияние Штокхаузена?
ТК: Штокхаузен примерно в 1958 году стал молодой звездой Германии. Ему исполнилось всего 28 лет, когда он написал «Пьесу для фортепиано» («Klavierstuck XI», 1956)[120] – произведения с элементами случайности. Его работа совместила в себе европейскую традицию постдодекафонии и стохастическую традицию Кейджа. Удивительным образом тогда сошлись явления с двух берегов Атлантики и соединились в своеобразном интерактивном открытии. Я стремился выйти с ним на связь. Он нашел подход к музыке, основанный не на высотах нот, а на пульсации, что для меня после моих опытов с акустикой представляло особый интерес. Произведение «Контакты» («Kontakte», 1958–1960), одно из его лучших сочинений, в наибольшей степени повлияло на меня и обратило мое внимание на некоторые аспекты работы с пульсацией. Если я правильно помню, в то время с ним работал [Корнелиус] Кардью[121], и в результате они написали «Квадрат» («Carr», 1959–1969).
ХУО: Кардью – выдающаяся личность.
ТК: Да, и тогда у них со Штокхаузеном еще не разошлись взгляды.
ХУО: В то время вы начали рисовать?
ТК: Я делал свои рисунки в качестве «поправок» к партитурам, если можно так сказать. В 1961 году под влиянием Ла Монте Янга многие начали писать текстовые партитуры. Не уверен, что Ла Монте Янг был первым, потому что Джордж Брехт тоже ими пользовался[122]. Впрочем, мне неважно, кто был первым, главное, что в то время все перешли на текстовую форму. В ней оставалось много слабых мест, почему я и начал работать над своими «рисунками». Мне хотелось, к примеру, обратить внимание на то, что форма партитуры связана с ее названием, которое, в свою очередь, никак влияет на исполнение. Я хотел четко обозначить эти сложные моменты.
ХУО: Мы подошли к следующему этапу вашей деятельности в период с 1962 по 1965 год – к сотрудничеству с Джоном Кейлом и Ла Монте Янгом. Был ли свой манифест у «Театра вечной музыки»?
ТК: Нет, но мы соблюдали строгий порядок, в первую очередь благодаря Ла Монте Янгу, человеку невероятно сосредоточенному. Его дисциплинированность достигает таких пределов, что даже сейчас сложно понять, чем он вообще занимается. Он дисциплинирован сверх меры. Нас объединяла преданность своему делу, которая требовала, чтобы мы работали, работали систематически, работали регулярно и повторяли сделанное, постоянно работали на протяжении многих лет. А когда работаешь над чем-то одним в течение долгого времени, оно изменяется и обтачивается, достигает внутренней ясности. Так случилось и с нашим творческим союзом. Я думаю люди, близкие к театру, очень хорошо это поймут. И художники, пускай сейчас уже подход к живописи несколько иной; в наше время живопись еще была скорее ремеслом. Как исполнитель, я стал увереннее в тех вещах, которыми раньше занимался только для себя, но мы делали их в контексте, коорый постепенно вливался в культурную перспективу, созвучную с моей личной целью – целью создания минималистской музыки.
А потом мы скрестили нашу музыку с рок-н-роллом. Это случилось практически случайно, когда мы с Джоном Кейлом познакомились с Лу Ридом и отправились с ним в тур, чтобы сделать совместную демо-запись с Уолтером Де Мария. Но Джон и Лу отделились и совместно с Энди [Уорхолом] основали «The Velvet Underground». Так возникла еще одна ситуация, когда интеллектуальное сообщество нью-йоркской творческой сцены разделилось в своем отношении к другой сцене, другой культурной среде, которой свойственен был куда более раскованный взгляд на вещи, большая творческая дозволенность и более экспрессивное самовыражение. Удивительно было наблюдать два встречных потока культуры – от высокой к низкой и от низкой к высокой. Несомненно, Энди оказался посреди потоков – пускай как спонсор – и стал в своем роде их культовым связующим звеном.
ХУО: Каким образом вы перешли от «Театра вечной музыки» к кино? Неожиданно вы выступили как режиссер фильма «Мерцание»[123].
ТК: Началось все на самом деле не с этого. Ранее я уже написал саундтрек к ленте «Пламенные существа» (1963). К тому времени я уже проник в мир андеграундного кино, а главное, познакомился с Джеком Смитом. Для меня стало очевидно, что кинематограф как культурная ветвь, культурное течение, культурная форма твердо стоял в стороне от институтов.
ХУО: Как восходящий андеграунд.
ТК: Эта область относилась к андеграунду, но фильм Джека Смита вышел настолько убедительным, что люди захотели со мной работать над музыкальным сопровождением к другим лентам. На самом деле я не стал участвовать в «The Velvet Underground» по той причине, что решил посвятить себя кинематографу и работе со звуком. Джек к тому времени нашел спонсора и торжественно открыл киностудию «Cinemaroc»[124]. Мы с Марио Монтезом [одна из «суперзвезд» Энди Уорхола в период 1964–1966 годов] присоединились было к ней, но вскоре все пошло прахом, и я, как многие другие тогда, отдалился от Джека. Я решил снимать собственные фильмы.
ХУО: Йонас Мекас показал мне свою рецензию на «Мерцание» в «Village Voice»[125].
ТК: У меня возникла мысль, что можно связать гармонические структуры в музыке с воспроизводимыми рисунками мерцающего света, то есть не снимать обычный фильм, с актерами и прочим, а сделать фильм о световых рисунках. Я смог воплотить свою идею только благодаря поддержке Йонаса. Он тогда был, наверное, самой близкой массовой культуре фигурой в кинематографических кругах и потому, как он писал, увидел прямую связь с массовым кино.
ХУО: Йонас основал в своем роде внеинституционную организацию – систему анонимной помощи кинематографу.
ТК: Он снабдил меня пленкой и нашел для меня камеру. Он приехал ко мне, когда я жил с Беверли Грант, «королевой андеграунда» на Второй авеню в доме, которого сейчас уже нет.
ХУО: Присутствовал ли на показах «Мерцания» врач?
ТК: После моих исследований в Гарварде я помнил, что мигающий свет может вызвать приступ у эпилептиков, и уже тогда начал интересоваться новыми технологиями лечения, вроде имплантируемых электродов. Я проконсультировался с врачом в клинике по лечению эпилепсии на Манхэттене, чтобы узнать, правда ли это или книжный вымысел, и оказалось, действительно нужно предупреждать людей о том, что не стоит смотреть наш фильм, если ты болен эпилепсией или подвержен припадкам. Тогда еще не было фильмов со вспышками света или стробоскопов. Диско-сцена еще только должна была появиться. Через Беверли я познакомился с известным психоаналитиком Шандором Радо, который присутствовал на первом показе и точно мог адекватно отреагировать на все, что происходило на экране. Недавно я сидел в проекционной рубке во время показа в Лондоне, и киномеханик мне сказал, что пару раз во время сеанса у людей случался припадок. Его это страшно раздражало, потому что приходилось останавливать показ. В общем-то, припадки ничем не опасны, разве что человек может пораниться при падении или как-то еще случайно получить травму.
ХУО: Жан Руш[126] однажды мне сказал, что хотел бы быть в зале одновременно с показом его кино, чтобы превратить процесс показа в перформанс.
ТК: Этой идеей Джек Смит был одержим в последние годы. Он монтировал ленты прямо во время демонстрации. На мой взгляд, кино как недоступный для изменений художественный объект представляет собой спорное явление. Те фильмы в течение всего периода существования андеграунда нельзя было причислить ни к одному культурно устоявшемуся течению. Например, в 1980-х в Нью-Йорке музыканты и прочие деятели изобрели «панк-кино»: они снимали фильм, показывали его в клубе «Mudd» и на следующей неделе снимали и крутили новый. Их никогда не показывали больше одного раза, разве что случайно. Если бы люди вроде Эдит де Ак не собирали их и не доносили до широкой публики, они бы так и сгинули. В Нью-Йорке тогда было непросто работать.
ХУО: В 1972 году вы сняли «10 лет жизни на безграничной равнине» («10 Years Alive on the Infnite Plain»).
ТК: Меня преследовала мысль о том, что можно сделать большее, имея малое. Теперь это уже клише, но в то время нам самим приходилось раздвигать границы кинематографа. Я хотел создать сложное произведение всего из шести кадров с двумя изображениями – вертикальные полосы и они же, но в негативе. Я использовал четыре проектора и закольцованную пленку и с прогрессирующей скоростью в течение полутора часов чередовал проекции четырех изображений. Я стремился создать среду, сходную с моими предыдущими музыкальными экспериментами с длительными структурами. В плане звука мне показалось совершенно естественным объединить кино с этим языком музыкального исполнения. К тому же минималистская основа того и другого была весьма созвучна.
ХУО: Теперь я должен спросить про «Желтые фильмы» («Yellow Movies», 1972–1976), в которых длительная структура нашла свое воплощение в виде музейного экспоната. Этот проект начался с короткой однодневной выставки в 1972 году и превратился в длительную непрерывную экспозицию.
ТК: Я понял, что длительные формы дают мне ключ к раздвижению границ. На пятой «Documenta» [1972] я видел фильмы художников, которые по выразительности и новаторству превосходили работы режиссеров. В той же степени, в какой художники стремились отойти от структуры, режиссеры стремились сделать акцент именно на ней. Я подумал, что смогу подтолкнуть режиссеров к более плодородной почве. Конечно, шаги в этом направлении уже сделал Энди Уорхол с его длинными лентами. Но недостаточно длинными для меня. Жизнь ведь долгая. Как насчет фильма длиной в 50 лет? Как можно снять такой фильм? В самом деле, я задумывал снять фильм длительностью даже дольше 50 лет. Как я мог это сделать? Катушка пленки понадобилась бы огромная – слишком большая, чтоб с ней можно было работать, и никакой проектор не проработал бы 50 лет. Моя затея требовала капитального пересмотра технического оснащения всей индустрии кинематографа. Тут нужен был иной подход. И вот я лежу на своей кровати в Нью-Йорке, думаю об этом, о том, как все безнадежно, и вдруг ловлю себя на мысли: «Хм, я ведь недавно покрасил потолок, а теперь он пожелтел!» Я покрасил его два года назад. И я подумал: вот какой временной интервал меня интересует, мне нужны изменения, которые происходят с годами. Мне пришло в голову использовать дешевую малярную краску в качестве эмульсии. Я красил ей кадры непосредственно на экране и оставлял их открытыми свету, грязи, среде и остальному. Эти фильмы медленно меняются в течение человеческой жизни. Такая была задумка у проекта.
В «Желтых фильмах» нашла выражение моя склонность к длинным формам, но в центре замысла лежала идея интервенции, культурной интервенции во внеинституциональное пространство – пространство независимого андеграундного кино. Интервенция не увенчалась успехом, поскольку кинематографисты не ощущали потребности менять внутреннее устройство индустрии. Тридцать пять лет спустя мой фильм стал более доступным для визуального восприятия, но снова не привел к интервенции, хотя теперь, когда его замысел проявился яснее, его восприняли по-иному. Сейчас в моей работе можно увидеть связь не со структурным кино, а скорее с архитектурой. «Желтые фильмы» заключают в себе другой, скрытый вариант прочтения: эмульсированная бумага ассоциируется с окрашенным покрытием, которая, в свою очередь, идентифицируется с окрашенной поверхностью архитектурного пространства, кожей на теле здания. Отсюда возникают уже другие вопросы.
ХУО: Например, что такое живопись?
ТК: Да, возникает вопрос о живописи. Ты вешаешь картину на стену и думаешь: как быть с тем, что краска на стене – это кожа здания? Картина становится преградой, объектом направленного взгляда, взгляда, который не может соприкоснуться с кожей дома. А кожа ведь живая, это ты поймешь спустя несколько лет, когда снимешь картину. Ты увидишь на стене призрачный отпечаток ее былого присутствия, как будто ты снял со стены одежду и обнажил ту часть кожи, которая не видела солнечного света, словно снял бюстгальтер. Эта мысль позволила мне по-иному взглянуть на живопись, на ее парадоксальную функцию одеяния для стен дома. Живопись по-своему встраивается в диалектическую систему, в которой из диалектики обнаженного и одетого тела рождаются мода, сексуальность, желание.
Другой вопрос, конечно, заключается в следующем: что, если художник захочет рисовать прямо на стене? Здесь тоже возникает интересная система, парадоксальный баланс, противостояние, напряжение между сущностью кожи, архитектурой и тем, что ее прячет от глаз; напряжение во взгляде, который тверд, но в то же время восприимчив к желанию. Я очень не люблю подобную терминологию, но, по сути, таким причудливым образом мы начинаем воспринимать архитектуру, подавляя желание. Это я называю архитектурной любовью. Она полезна. Она занятна. Мне нравится архитектурная любовь.
ХУО: Над чем вы работаете сейчас?
ТК: Сейчас я работаю над жанровым проектом о военной съемке, под названием «Обязанные победе» («Beholden to Victory», 1980–2007), в котором я провожу аналогию между отношениями офицера и рядового в условиях авторитарной армейской структуры и отношениями произведения искусства и зрителя. Разумеется, мне надо было решить, кто в отношениях главный. Чтобы отдать должное Джону Кейджу, я сделал главным зрителя. ‹…›
ХУО: Джон Кейдж говорил, что, накладывая партитуру на композицию, ты становишься диктатором и одновременно создаешь монстра Франкенштейна. Ваши проекты, по всей видимости, воплощают дихотомию диктатора-монстра Франкенштейна, в частности ваш анализ авторитарной партитуры.
ТК: Мы возвращаемся к моим поискам истоков авторитарной партитуры. Метафора ли это или очевидное явление? Каждый понимает, что дирижер – это тиран в классическом греческом смысле этого слова, то есть демократически избранный правитель, являющийся тем не менее диктатором – отражает ли это понятие системную сущность партитуры? Изначально подобные мысли возникли у меня после уроков музыки, потому что, в отличие от любых других занятий, уроки музыки, как уроки гимнастики или танцев, требуют очень специфического и жесткого контроля над телом и разумом. Мне это не нравилось и вызывало во мне сопротивление. Генри очень хорошо играл на скрипке, чего я не мог сказать про себя, но я понял, что этим тоже можно гордиться. Благодаря Кейджу я осознал: не я должен стараться играть так, чтобы публике понравилось, а публика должна стараться проникнуться тем, как я играю. Когда я исполнял на концерте «Дуэт» Кристиана Вульфа, мне нравился мой дилетантский подход. Звучало это плохо. Никуда не годное звукоизвлечение. Никакого вибрато. Но я играл по инструкции, и после концерта Кристиан мне сказал, что ему понравилось. Так что я сопротивлялся до такой степени, что в своем роде достиг совершенства. Я не хотел, чтоб меня контролировали. И кстати, в армии я тоже служить не хотел. В то время все молодые парни-американцы попадали под призыв. Я сделал все возможное, чтобы доказать свою непригодность.
ХУО: В беседах с Солом Ле Виттом и другими художниками его поколения я услышал точку зрения, что природа инструкций диалектична. Бренден Джозеф писал, что не находит диалектики ни в ваших работах, ни в работах Флинта[127]. В качестве довода он приводил мысль, что вы стремитесь уничтожить идею партитуры вместо того, чтобы осознать ее.
ТК: Уничтожить, именно. Моя задача – избавиться от социальной и художественной роли партитуры как явления, полностью стереть ее как культурное явление. И точка.
Стив Райх
Стив Райх – один из основоположников минимализма в музыке. Начиная с его ранних работ – записанных на пленку речевых композиций «It's Gonna Rain» (1965) и «Come Out» (1966) – и заканчивая удостоенным Пулитцеровской премии сочинением «Double Sextet» (2007), он экспериментировал с различными формами классической западной музыки, а также со структурами, гармониями и ритмами других прочих музыкальных традиций и национальной американской музыки, в особенности джаза. Композициям Райха присущи циклические фигуры и медленные гармонические ритмы и каноны. Его творчество в значительной степени повлияло на многих современных музыкантов, в частности Брайана Ино. Райх с отличием окончил Корнелльский университет по специальности «Философия» в 1957 году. Следующие два года он учился композиции у джазового пианиста Холла Овертона. С 1958 по 1961 год он проходил обучение в Джульярдской музыкальной школе вместе с Уильямом Бергсма и Винсентом Персикетти. В 1963 году Райх получил степень магистра в области искусств колледжа Миллс, г. Окленд, штат Калифорния, где он работал с Дариюсом Мийо и Лучано Берио. В 1966 году он основал ансамбль из трех музыкантов, который со временем расширился до 18 и более участников. Также Стив Райх учился игре на ударных, изучал балийский гамелан и формы кантилляции (чтения нараспев) текстов еврейского Священного Писания. В 2007 году он был удостоен престижной Императорской премии Японии.
В 2009 году по случаю открытия Манчестерского международного фестиваля на Манчестерском велодроме группа «Bang on a Can» впервые исполнила произведение Райха «2 x 5» во время двухактового концерта с участием электронной группы «Kraftwerk».
Данное интервью, ранее не опубликованное, было взято в 2009 году по телефону.
www.stevereich.com
ХУО: Для начала я хотел спросить, как возникла идея выступления на Манчестерском международном фестивале?
СР: Вообще-то, для меня все началось еще до Манчестерского фестиваля. Мне стало интересно поработать с электрическим басом. Как ни странно, мне нравится звучание электрического баса, потому что он позволяет прописывать одновременно две басовые партии, быстрые и ритмически сложные, которые совершенно смазываются, если их играть пиццикато на контрабасе. При игре на электрическом басу отчетливо слышна каждая нота, и это звучит здорово. Я подумал: «Надо написать что-то с электрическим басом», и почему бы тогда не использовать другие рок-инструменты? Будучи в раздумьях, кто бы мог это сыграть, я неожиданно получил по электронной почте письмо от моего издательского дома «Boosey & Hawkes», в котором говорилось, что организаторы Манчестерского фестиваля предлагают мне написать композицию для рок-группы с использованием электроники. [Смеется.] Я подумывал об этом с тех пор, как закончил работать над «Двойным секстетом» («Double Sextet»), удостоившимся Пулитцеровской премии. Это произведение для шести или двенадцати музыкантов, которые играют одновременно с воспроизведением записи их же исполнения. Я подумал: а что, если добавить к группе «Bang on a Can» еще одного гитариста? Получится две электрогитары, электрический бас, фортепиано и маленькая ударная установка. Каждый из музыкантов записывал бы первую половину композиции, а вторую играл одновременно с воспроизведением этой записи. Это оказалось именно тем, что было нужно Алексу Путсу, директору фестиваля. Я обычно так и работаю: задумываю произведение, иду с ним к Алексу Рознеру, моему агенту, или в «Boosey & Hawkes» и спрашиваю: кто бы мог заказать у меня такое сочинение? Здесь случилось так же. Я не имел представления, в каком формате пройдет концерт, но с самого начала мне сказали, что в той же программе будут участвовать «Kraftwerk»[128].
ХУО: Об этой неожиданной встрече я тоже хотел вас спросить – вы ведь не были раньше с ними знакомы?
СР: Я никогда их не слышал или не обращал внимания на их музыку, поэтому чувствовал себя странно. Я спросил друга: какая у них самая известная композиция? Он сказал: «Autobahn» – и послал мне запись. Я нашел ее весьма интересной. У них было то, что мы в шутку называем «юмором». Они хорошо понимали, что это забавно и эффектно, что это работает. Если группа существует столько, сколько они, значит, они делают все правильно. Нельзя на протяжении 40 лет жить в рок-н-ролле, если тебе нечего предложить слушателю. Они нашли свою нишу и, бесспорно, оказали влияние на огромное количество поп-музыкантов.
ХУО: Любопытно, что вы с ними причастны к изобразительному искусству… Я заговорил о «Kraftwerk», потому что я куратор в сфере живописи, а у вас и «Kraftwerk» есть множество вдохновленных вами поклонников из мира художников. Когда я говорил с Герхардом Рихтером о музыке, он сказал, что вы и Кейдж дарили ему вдохновение. Кажется, вы недавно с ним сотрудничали?[129] Разумеется, я читал статью Ричарда Серра о вас[130]. Во многих интервью вы упоминали, что в начале вашей деятельности художественные галереи сыграли большую роль. Я хотел попросить вас рассказать о вашей связи с миром живописи, о совместных проектах с художниками и о том, как это сказалось на вашем творчестве.
СР: Это правда: когда я окончил магистратуру в заливе Сан-Франциско, где со мной работал Лучано Берио[131], и вернулся в 1965 году в Нью-Йорк, поначалу у меня было много друзей-художников. Сол Ле Витт – мой очень, очень давний друг. Ричард Серра, как вы уже знаете, тоже давнишний друг. Он жил со мной по соседству. Я жил на Дуэйн-стрит, а он на Гринвич-стрит. Между нашими домами было 100 метров. Майкл Сноу, канадский режиссер, жил на Чеймберс-стрит. В Калифорнии я познакомился через своего друга-художника Уильяма Т. Уайли с Брюсом Науманом. Науман учился вместе с Уайли, и, как он сказал, на него оказала влияние моя композиция для магнитной пленки «Come Out» (1966). Благодаря этим людям я смог организовать свои первые концерты. Пола Купер владела галереей «Park Place», где я дал концерты в 1966 и 1967 годах. В «Park Place» выставлялись Сол Ле Витт, Роберт Смитсон, Роберт Моррис и т. д. Пола предложила мне устроить четыре музыкальных вечера – так я оказался на музыкальной карте Нью-Йорка. На мои выступления приходили Роберт Раушенберг, труппа танцевального театра Джадсона, Ивонна Райнер, Стив Пэкстон и другие люди их круга. Позже, когда Науман и Серра выставлялись в Музее искусств Уитни, по их рекомендации мне предложили сыграть и там. Брюс тогда был перформансистом, а Ричард снимал фильмы, поэтому приглашать на выступления людей вроде меня было обычным делом. В 1970 году я сыграл в Музее Гуггенхайма. Мировая премьера «Drumming» в 1971 году состоялась в Музее современного искусства, в старом кинозале, в котором не давали концертов с 1940-х, когда Кейдж выступил там с перкуссионной программой. Повторюсь, всем этим я обязан своим друзьям-художникам, которые были знакомы с кураторами музеев и рассказывали им обо мне. В то время существовала связь между моей музыкой и изобразительным искусством. Сейчас уже нет. В наши дни концерты музыки в музеях – редкость. То, что сделал Герхард Рихтер, для меня стало совершенной неожиданностью. Конечно, я знаком с его работами – и восхищаюсь ими, – но лично с ним я не встречался и не думал, что он про меня знает. Еще мне однажды позвонили и предложили сыграть вместе с ансамблем «Ensemble Modern»[132], а я с энтузиазмом отношусь к подобным проектам. У нас близкие отношения с «Ensemble Modern», мы часто выступаем вместе, и они исполняют многие мои произведения. Герхард Рихтер предложил мне сыграть «Музыку для 18 музыкантов» («Music for 18 Musicians») в Кельнской филармонии и «Drumming: Часть первая» на его выставке в Музее Людвига. Я ответил: «Прекрасно!», хотя был очень удивлен. Спустя пару месяцев снова проходила его выставка, в мюнхенском Доме искусств. И снова он позвонил и позвал меня. Там выступали и местные музыканты, необычайно талантливые.
ХУО: Во многих наших с ним беседах Янис Ксенакис[133] говорил, что в мире не хватает музеев, посвященных исключительно звуку. Несомненно, Ла Монте Янг[134] был бы с ним согласен. Скажите, приходили ли к вам идеи звуковых инсталляций для музеев или «домов звука», музеев звука?
СР: Нет. Я хочу, чтоб мою музыку играли живые музыканты в концертных залах – как сказал поп-музыкант Чак Берри, «любым старым добрым способом»[135]. Взять, к примеру, Иоганна Себастьяна Баха. Вы можете зайти в маленькую кофейню в Германии или Нью-Йорке и услышать фоном его музыку. Разве это значит, что Бах обесценился? Отнюдь. Это значит, в его музыке такая сила, что неважно, каков контекст, каков размер помещения, какова акустика – она все равно работает. К этому я стремлюсь. Как бы вы ни слушали мою музыку – в наушниках, через iPod, дома, в Карнеги-холле, на железнодорожной станции – я хочу, чтобы она работала.
ХУО: Герхард Рихтер считает, что художники не должны решать, в каком контексте выставлять работу: как только ты представляешь произведение миру, оно начинает жить своей жизнью, как ребенок, покинувший отчий дом.
СР: Именно. Иначе ты просто плохой родитель. Если ребенок не сможет заработать себе на жизнь, он сам вернется к тебе за помощью, когда ему будет 50. Если ты к тому времени еще будешь жив. [Смеется.]
ХУО: Пару лет назад я брал интервью у [ученого] Альберта Хофмана, и он рассказал мне об откровении, которое пришло к нему после того, как он попробовал ЛСД. Какими были откровения в вашей жизни?
СР: Я думаю, самое большое откровение случилось со мной, когда мне было 14. Я не слышал тогда никакой музыки, написанной до Гайдна и после Вагнера. То есть я никогда не слышал джаза. А тут вдруг подряд послушал на одной пластинке друг за другом «Весну священную», пятый Бранденбургский концерт с феноменальной партией клавесина и бибоп – Чарльза Паркера, Майлза Дэвиса и барабанщика Кенни Кларка. Один мой друг, который играл на фортепиано лучше меня, захотел основать свой джазовый ансамбль. Я сказал, что буду барабанщиком, и стал учиться играть на перкуссии. Так что с фортепиано я переключился на ударные. И знаете, я как будто всю жизнь жил в доме и не замечал в нем одной комнаты. А потом в 14 лет мне кто-то сказал: «Гляди-ка, там еще одна комната». Я зашел в нее, и она настолько полюбилась мне, что до сих пор живу в ней! Я люблю в западной музыке все от Перотина[136] до Себастьяна Баха, средневековую музыку и то, что началось с Дебюсси, Сати и Равеля. И джаз. Еще одно откровение на меня снизошло, когда я услышал Джона Колтрейна[137]. Это было позже, когда я уже учился в Джульярдской школе в конце 1950-х, и еще в начале 1960-х, когда я учился с Лучано Берио в Калифорнии. Я несколько раз слышал, как он играл с Эриком Долфи, и это было великолепно, потому что они оба замечательные и близкие по духу музыканты. У Колтрейна я научился тому, что интересную музыку можно писать в рамках одной гармонии – особенно это слышно на альбоме «Africa/Brass» [1961, «Impulse Records»] – потому что в одной гармонии можно сыграть все что угодно. В «Africa/Brass» он в основном играет в ми, низкой ми на контрабасе, и сторона пластинки длится около получаса. Вы спросите, что может быть интересного, если полчаса играть в одной только ми? Что ж, если постоянно разнообразить мелодическую составляющую, от красивых мотивов до неразборчивого шума, менять тембры, от обычного звучания инструментов до глиссандо на валторне, которые для пластинки записал Эрик Долфи[138], и звучат они, как стадо слонов в джунглях, добавить сложные ритмы, как это сделал выдающийся ударник Элвин Джонс[139], то благодаря сложному ритму, разнообразной мелодии и переменам тембра можно поддерживать музыкальный интерес, не меняя гармонии. Это базовая составляющая того, что теперь называется минимализмом в музыке. Никого из людей, о которых вы говорите – Ла Монте Янг, Терри Райли, я, Гласс, – не было бы, если б не Колтрейн. На мой взгляд, он оказал огромное влияние на наше поколение.
К использованию фазового сдвига я пришел в 1964 году[140]: рядом с Юнион-сквер в Сан-Франциско я записал проповедь чернокожего пятидесятника о потопе [«Грядет дождь» / «It's Gonna Rain», 1965]. Я сделал петли из пленки с этой записью. В 1960-х с пленочными петлями многие экспериментировали, это не мое изобретение. Ими пользовались во Франции, в Германии и, разумеется, в Штатах. После наших с Лучано Берио исследований меня больше интересовал голос, чем электронный звук. Если сравнивать «Песнь отроков» («Gesang der Jnglinge») и «Электронные этюды»[141] Штокхаузена, первое произведение куда более интересно, вне всяких сомнений. Берио сам работал над композицией «Оммаж Джойсу» («Omaggio a Joyce», 1958), для которой его жена Кэти Бербериан[142] читала «Сирены» [из «Улисса»] Джеймса Джойса, а он потом нарезал пленку и внахлест склеивал фонемы. Мне это казалось гораздо интереснее, чем слушать синусоидальные волны. Тот чернокожий проповедник очень мелодично повторял: «it's gonna rain, it's gonna rain». У пятидесятников вообще очень мелодичная манера проповеди, на грани речитатива и пения. У меня с собой было два магнитофона «Wollensak», очень дешевых моноустройства, которые, вероятно, американцы реквизировали в Германии после войны и продавали за бесценок. Я решил: сделаю две максимально схожие петли при помощи склеечного пресса, бритвенного лезвия и пленки, а потом запущу их и сделаю так, чтоб получилось: «it's gonna, it's gonna, it's gonna, it's gonna rain, rain, rain, rain», то есть чтоб они отличались друг от друга на 180 градусов. Я не глядя заправляю обе петли в магнитофоны, втыкаю один провод от наушников в разъем на первом магнитофоне, другой – в разъем на втором, кладу руки на оба магнитофона, жму на кнопки проигрывания, и по случайности (если вы верите в случайности) или по божественному провидению (верьте, во что хотите), пленки звучат абсолютно в унисон, точно совпадают друг с другом. Шанс был очень мал. [Смеется.] Очень мал! Тем не менее это случилось. Таким образом, я сначала слышал звук по центру головы, потом он начал перемещаться влево, потом на левое плечо – ну, так мне казалось, – потом на левую ногу, затем на пол, затем появилась реверберация, затем эхо, и наконец я услышал: «it's gonna, it's gonna, it's gonna, it's gonna, rain, rain, rain, rain», после чего петли стали снова медленно приближаться к унисону. Я раскрыл рот от изумления и подумал: «Боже мой, какое великолепное соотношение, но самое интересное то, как унисон постепенно переходит в фазовый сдвиг, а это ведь своеобразное продолжение древней традиции канонов в западной музыке». Каноны встречаются в музыке XIII века. Первый известный канон – «Лето пришло» («Sumer Is Icumen In»), и все, конечно, знают «Братца Якоба» («Frre Jacques») и «Row, Row, Row Your Boat». В них одинаковый принцип: параллельно звучат два идентичных мелодических рисунка, ритмически смещенных относительно друг друга. В их основе лежит одна мелодия или отрывок, но из-за ритмического сдвига возникает канон. Я совершил для себя важнейшее открытие. Позже я вернулся в Нью-Йорк записал еще одну пленку, «Come Out» (1966), о которой вы, наверное, слышали, и в ней я расширил и доработал то, что начал в «It's Gonna Rain». А потом я оказался в тупике. Я думал: «Техника-то прекрасная, изумительная, но люди не смогут это играть». В итоге я решил запереться в лаборатории с магнитофонами. Через полгода самоистязаний я решил: «Ладно, я буду исполнять роль второго магнитофона», сел за фортепиано и записал базовый модуль, базовый рисунок для «Piano Phase» (1967), а потом зациклил его. Я сел за инструмент и закрыл глаза – я знал, что я должен играть, – и начал в унисон с записью, а потом стал постепенно ускоряться до тех пор, пока не опередил запись на одну долю. Я подумал: «Ух ты, у меня получается, и ощущения при этом удивительные». Я закрыл глаза, я знаю ноты – их легко запомнить – я не импровизирую, я точно понимаю, что делаю, мне не надо читать с листа, нужно только слушать и рассчитывать свою игру относительно другого голоса. Недолго думая, я пригласил другого пианиста, моего друга из Джульярдской школы, Артура Мерфи[143], первого члена моего первого ансамбля, и мы обнаружили, что «вуаля, мы можем сделать это сами, безо всякой пленки». Этот прорыв случился в 1967 году, и из него родились «Piano Phase», «Violin Phase» (1967) и, наконец, «Drumming» (1970–1971). После «Drumming» я решил: «Все, хватит этой техники, она слишком специфическая, ей не будут учить в музыкальных школах, а близкие каноны можно делать и другими способами».
ХУО: Настало время новых откровений?
СР: Последним произведением стало «Drumming». Больше я не работал в технике фазового сдвига. С тех пор прошло уже 38 лет, и больше я подобного писать не собираюсь. Но идея близкого канона, идея двух наложенных голосов одного тембра, например двух флейт или двух кларнетов, или двух фортепиано, по-прежнему присутствует в моей музыке.
ХУО: Может быть, расскажете еще хотя бы об одном откровении после экспериментов с фазовыми сдвигами?