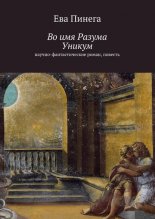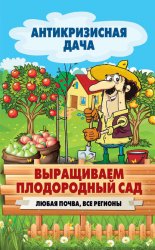Краткая история новой музыки Обрист Ханс Ульрих
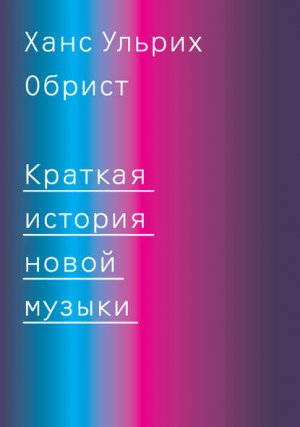
СР: Произведения на основе фазового сдвига формировали ритм и короткие мелодические фрагменты без гармонических изменений, и я подумал: «А что, если ввести гармонические переходы? Что, если собрать ансамбль, в котором будут не только ударные, не только маримбы, не только колокольчики или электроорганы?» Что, если сделать смешанный ансамбль? Эти мысли в итоге привели меня к написанию «Музыки для 18 музыкантов» («Music for 18 Musicians») в 1976 году. Очевидно, с этого сочинения началось мое движение обратно к западным традициям, к ритмическим идеям – идеям, которые я развивал на протяжении 1960-х и 1970-х годов. «Музыка для 18 музыкантов», как вы, вероятно, знаете, имела громадный успех и достигла аудитории, к которой я стремился, – слушателей классической и популярной музыки, слушателей авангардного джаза, а поскольку запись вышла на лейбле «ECM» – хотя записывал я ее для «Deutsche Grammophon», это долгая история, не буду в нее вдаваться, – продано было 100 тысяч копий. С выпуском этой записи в 1978 году моя карьера совершила скачок международного масштаба. Я чувствовал, что должен использовать возможности западной музыки, и в иоге написал «Tehillim» (1981), мое первое вокальное произведение в традиционном смысле. Я использовал голос и раньше: в «Drumming» женские голоса имитируют звук маримбы, в «Музыке для 18 музыкантов» – звук кларнетов и струнных. При написании «Tehillim» я подумал, почему бы, наконец, не дать голосу петь слова? На мой взгляд, это одно из моих лучших произведений.
ХУО: Я помню, как мы с вами встретились в Вене в 1993 году, и вы говорили о важности памяти. Тогда вы только выпустили «Пещеру» («The Cave», 1990–1993)[144], и тогда же миновало пять лет после выхода «Different Trains» («Разные поезда»)[145], и каким-то образом мы пришли к теме истории и памяти. В ваших шедеврах присутствует «протест против забвения», как говорил историк Эрик Хобсбаум, но это уже вопрос для отдельного интервью. Я хочу задать вам еще два вопроса. Первый: есть ли у вас нереализованные проекты, слишком масштабные для воплощения, не прошедшие цензуру или отметенные вами самим?
СР: Нет, тут мне очень повезло. Все, что я хотел сделать, я смог. Во время работы над «Пещерой» я думал: «это слишком амбициозный проект, я никогда не доведу его до конца», но у меня получилось. На это ушло четыре или пять лет, но у нас получилось. Авторство «Пещеры» и «Трех историй» («Three Tales», 2003) на самом деле принадлежит наполовину Берил Коро[146], наполовину Стиву Райху: без видео их просто не существует, а к его созданию я совершенно не причастен. Так что нет ничего такого, что я хотел бы сделать, но оказался не в силах.
ХУО: Райнер Мария Рильке написал замечательную книжку советов молодому поэту [«Письма к молодому поэту», 1929], которую я пару недель назад перечитал и хочу спросить у вас, какой сейчас, в 2009 году, вы бы дали совет начинающему композитору?
СР: Точно такой же, что я мог бы дать в любое другое время: старайся принимать участие в исполнении своей музыки. Работа композитора не кончается с двойной тактовой чертой в конце произведения. Твой долг как композитора сделать так, чтобы твою музыку играли. Если можешь дирижировать, дирижируй. Если можешь играть на музыкальном инструменте, играй. Если можешь запрограммировать драм-машину, запрограммируй. Как можно больше участвуй в исполнении, чтобы потом не пришлось оправдываться перед людьми за запись, которую ты им предлагаешь. «У нас было мало времени на репетиции, музыканты неважно играли» и тому подобное. Очень часто молодые композиторы приносят свои записи с извинениями. Мне не нужны извинения. Я хочу слушать запись и говорить: «Это моя запись, нравится она вам или нет: она такая, какой я ее задумал». На мой взгляд, крайне важно, чтобы молодые композиторы принимали практическое участие в исполнении их музыки, особенно когда они молоды, потому что именно тогда у людей формируется мнение о них как о композиторах.
ХУО: Когда вы говорили о «Двойном секстете», я вспомнил, как в одном интервью вы назвали его произведением «на грани настоящего рок-н-ролла»[147]. Возможно ли, что это ваше будущее направление?
СР: Ну, одно рок-н-ролльное произведение я уже написал, и вы можете его услышать здесь, в Манчестере [«2 x 5»]. Нет, давайте называть вещи своими именами: это не рок-н-ролл, это Стив Райх. Просто Стив Райх стал работать с рок-н-ролльными инструментами, и получилось соответствующее звучание. Меня всегда интересовал джаз, но после Колтрейна джаз медленно начал превращаться в маргинальную музыку. Сейчас он играет уже не такую важную роль в жизни мира музыки, какую играл до смерти Джона Колтрейна. Теперь в фокусе молодого поколения рок-н-ролл и множество, множество его вариаций. Мне нравятся группы вроде «Radiohead». У них много энергии, и я вижу новое поколение музыкантов – они образованы в классической традиции, но при этом играют рок-н-ролл и любят его. К примеру, два музыканта из группы «Bang On a Can», которая будет выступать в Манчестере. Одного из них зовут Брюс Десснер. Брюс Десснер вместе со своим братом Аароном основали группу «The National», очень популярную сейчас. Их песню использовал в своей кампании президент Обама. Аарон играет на слух, а его брат Брюс, с которым мы вместе работаем, учился в Йельской музыкальной школе. Он может прочитать с листа что угодно, и он очень красиво читает свою весьма сложную партию в моем произведении, но играет ее как рок-музыкант – и это прекрасно. Другого гитариста зовут Марк Стюарт. Он учился играть на виолончели в Истменовской музыкальной школе, а для себя занимался гитарой. Переехав в Нью-Йорк, он обнаружил, что умение читать с листа может его прокормить, потому что большинство гитаристов этого не умеют. Так он стал музыкальным директором Пола Саймона[148]. Всему, что Пол Саймон сделал, его научил Марк Стюарт. Два этих парня играют на электрогитарах в моей «рок-композиции», они оба настоящие рок-музыканты и оба получили полноценное музыкальное образование – вот он, новый вид музыкантов. И их становится все больше. И это не искусственная тенденция, нацеленная на продажу записей. Просто молодые люди любят эту музыку и выражают себя таким образом.
Йоко Оно
Родилась в 1933 году в Токио, Япония. Живет и работает в Нью-Йорке.
Йоко Оно известна как автор произведений изобразительного искусства и перформансов с участием зрителей, а также как музыкант, режиссер, участник движения за мир и вдова Джона Леннона. Она была близка к движению Флуксус и испытала большое влияние культуры битников. В Нью-Йорке Йоко Оно начала работать с первопроходцами минимализма в музыке, такими как Джон Кейдж, Ла Монте Янг и легендой джаза Орнеттом Коулменом, над авангардными и экспериментальными танцевальными произведениями. Ее первый альбом, «Yoko Ono/Plastic Ono Band», увидел свет в 1970 году. Подобно ее работам в изобразительном искусстве и перформансам, ее музыка поэтична и проникнута лиризмом и надеждой на мирное будущее человечества.
Работы Йоко Оно были представлены на выставке «WaterMusic» Музея искусств Джорджии (2013), а также на ее персональной ретроспективной выставке Художественного музея Ширн во Франкфурте (SCHIRN Kunsthalle Frankfurt) (2013). Она была удостоена двух премий «Грэмми» за продюсирование их совместного с Джоном Ленноном альбома «Double Fantasy» в 1981 году и за фильм «Gimme Some Truth: The Making of John Lennon's Imagine Album» в 2001 году. Она также стала продюсером более 10 собственных альбомов, в которых она выступала в качестве автора песен и вокалистки. В 2009 году Йоко Оно была награждена «Золотым львом» за жизненные достижения на Венецианской биеннале.
Данное интервью было взято в Нью-Йорке в ноябре 2001 года. Впервые опубликовано в книге Hans Ulrich Obrist. Interviews, Volume I. Ed. «Charta Editions», Milan, 2003, Р. 626–639, и переиздано в книге Hans Ulrich Obrist, Yoko Ono. The Conversation Series, vol.17. Ed. «Walther Knig», Cologne, 2009.
imaginepeace.com
ЙО: Я начинала с музыки. Я училась ей с дошкольного возраста. Моя мама отправила меня в необыкновенную школу Чжийю Гакуэн в Японии, еще до того, как я пошла в младшую школу. В Чжийю Гакуэн, что переводится как «Учебный сад свободы», давали раннее музыкальное образование детям дошкольного возраста. У нас развивали абсолютный слух, учили гармониям, игре на фортепиано и композиции простых песен. В эту школу ходили многие знаменитые японские композиторы. Одной из самых важных вещей, которой меня там научили, – хоть я поняла это только со временем – было умение слушать окружающую обстановку. Нам задавали на дом слушать повседневные звуки и переводить их в ноты. Так у меня появилась привычка постоянно слушать окружающие звуки как музыку.
ХУО: Слушать звуки города и звуки вашей жизни…
ЙО: Да, звуки грода и звуки моей жизни в этот конкретный день. А потом я превращала это все в нотные знаки. Потрясающе, правда?
ХУО: О да. Когда это было?
ЙО: В 1930-х годах. Прекрасная затея – давать такое домашнее задание… переводить звуки в нотные знаки. Я с детства все время делала так в уме. Часы били: дин-дон, дин-дон, а я повторяла бой про себя. Я считала удары уже после того, как часы пробьют. Этот навык пришел ко мне естественным образом. Сейчас я понимаю, какое полезное это было упражнение. [Джон] Кейдж ведь разработал целую концепцию нотной записи шумов… а меня ей научили еще в дошкольном музыкальном садике. Пока я жила в доме моих родителей в Уэстчестере (Нью-Йорк), меня по утрам будил птичий хор за окном. Я поймала себя на том, что автоматически пыталась положить птичью симфонию на ноты. В ней, однако, было слишком много голосов, и у меня ничего не получалось. Сначала я решила, что мне просто не хватает навыка. Но вдруг я осознала: дело не в моем умении, дело в нашей традиции нотной записи. Хор птичьих голосов беднеет, когда пытаешься перевести его в ноты. Нотация упрощает естественные звуки, лишает их затейливой природной красоты. Конечно, по правилам музыкальной записи тоже можно создать большой сложный мир, отдельный от звуков природы. Но если попробовать привнести естественные звуки в музыку, сразу понимаешь, что западные традиции нотации для этого не приспособлены. Поэтому я решила добавлять к нотам инструкции. То же, должно быть, пришло в голову композиторам – создателям конкретной музыки. Подобный образ мысли привел меня к перформансам и инструкциям для картин и скульптур. Когда ты пишешь партитуру, музыкант старается сыграть как можно ближе к ней, но в результате у него все равно получается всего лишь интерпретация. Что, например, конкретно имеется в виду под пианиссимо? Зависит от толкования музыканта. Поэтому необходимо делать уточнения. Интересно, что в музыке партитура и реальное исполнение отделены друг от друга. Автор, будь то композитор или художник, всегда хочет, чтобы его творение осталось в истории таким, каким он его задумал. Но работа не может оставаться в своем изначальном виде, поэтому в случае музыки исполнение должно хотя бы быть максимально приближено к авторскому замыслу.
ХУО: Вы всегда были плодовитым автором. Вашему творческому полету фантазии способствовали изобретенные вами инструкции?
ЙО: Джон Леннон однажды сказал журналисту: «У кого-то бывает просто понос, а у Йоко – понос мысли». В самом деле, я словно настраиваюсь на какую-то космическую волну и черпаю из нее идеи. Меня все время приводило в отчаяние то, что большую часть из них я не могу претворить в жизнь. Инструкции позволили мне перекладывать на других ответственность за конечный вид произведений. И освобождать место в моей голове, забитой идеями. Раньше, иногда по финансовым причинам, иногда из-за технических сложностей я не могла реализовать все переполнявшие меня замыслы. Но я могла писать инструкции. Это освобождало меня. Я становилась все смелее и смелее, а инструкции – все концептуальнее. В мире концептуального искусства тебе не надо думать о том, как физически воплотить свою идею.
ХУО: В итоге вам не приходилось ставить для своих проектов совершенно никаких рамок.
ЙО: Именно. Когда я стала писать инструкции к произведениям, я обнаружила, что могу не придерживаться двух или трех измерений. У себя в голове ты можешь при желании создать все шесть. Можешь скрестить яблоко и письменный стол. В реальном мире это физически невозможно, но возможно в концептуальном. Ты можешь скрестить их и сделать это так, как тебе заблагорассудится. Так у меня родилась мысль о том, что живописи и скульптуре не обязательно быть статичными. Они могут двигаться и расти, как живые. В те дни художники и музыканты с неохотой позволяли другим вмешиваться в свою работу. Им не нравилось давать кому-то трогать их произведения. Даже публика не понимала, как художник может разрешить кому-то участвовать в его творческом процессе. «Хочешь сказать, ты дал кому-то сделать это вместо тебя?» Плохие времена. Над произведением обязан был трудиться один только автор и сохранять его в исконном виде. Но я – дитя войны. Жизнь, скоротечная и переменчивая, толкала меня вперед. Мне казалось, статичное существование противно природе. Время или политические факторы разрушают картины и скульптуры – это факт. Я знала: как бы ты того ни хотел, произведения искусства не могут оставаться неизменными. Поэтому как художник я решила не пытаться удержать то, что удержать невозможно, а идти к позитивным переменам: я впускала в процесс зрителя и давала своим работам расти через него.
ХУО: Получается, никаких временных рамок у вашего творчества тоже нет?
ЙО: Нет.
ХУО: Вашу идею можно применить и к музыке, ведь ее интерпретация при исполнении – это тоже участие в творческом процессе.
ЙО: Да, но даже музыканты тогда считали, что необходимо играть как можно ближе к партитуре. А я хотела отдавать другим свои работы незавершенными, чтобы они дополняли их, а не просто повторяли. К такому тогда не привыкли. В те дни большинство авторов не могли допустить и мысли, что кто-то будет изменять или дополнять их произведение. Для меня это тоже был непростой шаг. Я перфекционист. Мне тоже не хотелось никого пускать в свое творчество. В некотором смысле я переступала через саму себя. Я сделала это для собственного роста, чтобы избавиться от артистического эгоцентризма. И я ощущала, будто совершаю шаг от лица всего элитарного творческого сообщества: я отказывалась от своего эго. Моих инструкций к произведениям тоже нужно было придерживаться, но это все-таки не то же самое, что законченная партитура. Инструкции дают исполнителям больше свободы действий и куда больше возможностей для самовыражения. Много лет спустя, в 1968 году, вышла моя первая пластинка под названием «Unfnished Music No.1» («Незаконченная музыка No.1»). Тут я не писала никаких инструкций. Просто назвала ее «незаконченной». Я думала, продвинутая молодежь к тому времени должна была начать понимать такие вещи. В конце концов, прошло уже 10 лет с тех пор, как я впервые представила миру свою идею. Но оказалось, что никто не в состоянии ее оценить – такое у меня сложилось впечатление, по крайней мере.
ХУО: Когда вы познакомились с Джоном Кейджем?
ЙО: С Кейджем меня в конце 1950-х познакомил Стефан Вольпе[149]. Благодаря Кейджу я обрела уверенность в том, что я двигаюсь в верном направлении. В мире, который называли «авангардным», мои идеи никто не счел сумасбродными. Я делала как раз то, что они поощряли. У меня словно открылись глаза. Композиторов-предшественников Кейджа – Генри Коуэлла, Вольпе и Эдгара Вареза – тоже нужно помнить за их талант и смелость. Уже тогда казалось, что они страдают от забвения, на которое их обрекло появление Кейджа. Я все еще с теплотой вспоминаю о них. Как вы знаете, Фрэнк Заппа учился у Вареза и всегда высоко о нем отзывался. Я всех повидала – и композиторов, и художников. Было необыкновенно жить в то время в Нью-Йорке, где зарождалась целая школа художников и музыкантов, каждый из которых стал в своем роде революционером. ‹…›
ХУО: Есть интересная связь между вашим творчеством и творчеством [Оливье] Мессиана, который изучал орнитологию и транскрибировал птичье пение. Он говорил, что «птицы – величайшие музыканты на планете». Не могли бы вы еще рассказать о транскрипции звуков?
ЙО: Когда я неожиданно поняла, что невозможно точно записать пение птиц, у меня возникла идея инструкций. Осознание ограниченных возможностей партитуры привело меня к инструкциям как альтернативе обычной классической западной нотации.
ХУО: Описание звучит похоже на открытые нотации. Вам в голову пришла концепция открытой транскрипции еще до знакомства с Кейджем.
ЙО: Все благодаря домашним заданиям в Чжийю Гакуэн! Удивительно, что так сложилось, не правда ли?
ХУО: А что вы скажете о Дюшане?
ЙО: Знаете, что я думала? Это может прозвучать высокомерно, но, мне кажется, я пошла дальше его идеи «найденных объектов». Он остановился на них. А я говорила: «Вот, я даю вам нечто, к чему вы можете приложить руку. Можете менять структуру, можете менять внутренний порядок». Я расскажу занятную историю. У меня была картина под названием «Картина, на которую нужно наступить» («Painting to Be Stepped On», 1960)…
ХУО: Помню. «Оставьте кусок холста или незаконченную картину на полу или на земле на улице».
ЙО:…да, и мы дали несколько концертов с Ла Монте Янгом на Чеймберс-стрит, как вы знаете. Кейдж на них привел замечательных людей: Пегги Гуггенхайм, Дюшана и Макса Эрнста…
ХУО: Когда это было?
ЙО: Первый концерт состоялся в декабре 1960 года. Шел снег, и удивительно, что Джон Кейдж, Дэвид Тюдор и все «красивые люди» из городка Стони-Пойнт приехали в такую погоду. Даже в погожий день из Стони-Пойнта часа два-три езды до Чеймберс-стрит. Наша серия концертов обрела известность и популярность, очень быстро и только благодаря рассказам из уст в уста. И вот на один из концертов приехали Дюшан и Макс Эрнст.
Я подумала, может, Марсель заметит мою «Картину, на которую нужно наступить». Но он не заметил. Он озирался по сторонам, и на секунду его взгляд задержался на ней, но я не думаю, что он понял. А я была слишком застенчива и слишком горда, чтобы подойти и объяснить ему, в чем смысл.
ХУО: Расскажите о том, как зрители непосредственно участвовали в создании ваших произведений, добавляли или убирали из них что-то. Я был на вашей выставке в Роял-Фестивал-холл в Лондоне несколько лет назад, на которой вы главным образом просили зрителя добавлять что-то к вашим работам [«Йоко Оно и Флуксус» / «Yoko Ono and Fluxus», 1997]. В чем же суть этой идеи дополнения или сокращения – она, на мой взгляд, очень интересна в связи с реди-мейдами.
ЙО: Все было именно так: я указывала в инструкциях, что к картине надо что-то добавить или убрать из нее что-то, или вообразить в голове. В уме можно представить себе вещи, которые невозможно воплотить физически, и это тоже очень интересно. Можно мысленно смешать две картины. Еще интересно, что каждый делает это по-своему. Можно наложить совершенно разные вещи, существующие в разных измерениях, например картину и скульптуру. Смешать дом с ветром…
ХУО: Дом с ветром? Как красиво. ‹…› Идея инструкции красной нитью идет и через вашу борьбу за мир, что в нынешней ситуации вновь крайне актуально. ‹…› Когда мы встретились с вами в первый раз, много лет назад, вы сказали одну вещь, которую я запомнил на всю жизнь и считаю очень важной. Вы сказали, что весь мир заполнен индустрией войны, и наша задача – по мере наших сил создавать индустрию мира.
ЙО: Перфекционист во мне еще жив. Проблема перфекциониста в том, что ты ограничиваешь себя неким идеальным образом и не принимаешь ничего, что в него не вписывается. Я часто хожу на выставки и думаю про себя: «Какой кошмарный художник, что за куча мусора!» Но постепенно мое отношение меняется. Мир разделен на две индустрии: индустрию войны и индустрию мира. Люди из военной индустрии крайне сплочены своей общей идеей. Они хотят вести войны, убивать и делать деньги. Там никто не спорит между собой, они все заодно. Значит, они представляют собой громадную силу. А в мирной индустрии люди вроде меня – идеалисты и перфекционисты. Поэтому они не могут найти друг с другом общий язык. Они постоянно ссорятся в погоне за своей «идеальной идеей». Они спрашивают у себя и у других: «Как можно достичь мира? Разумеется, так, как я думаю. А ты не прав вот в чем…» Но если бы вместо этого мы попытались принять и начать ценить друг друга, простить наши различия… ведь мы все в одной и той же индустрии мира. Мы должны поддерживать друг друга. Сплотившись, мы могли бы сделать мирную индустрию такой же сильной, как военная, или даже еще сильнее. Только тогда мы смогли бы остановить войны и достичь мира во всем мире. Военная индустрия приносит доход и потому процветает. С экономической и финансовой точки зрения для многих гораздо прибыльнее вести войны. Вот и все. Так что мы должны прекратить распри и выступить заодно, единым фронтом.
ХУО: Мы должны «сделать это»!
ЙО: Вот именно, мы должны объединиться и «сделать это». Вместо «Ты же просто флорист» мы должны говорить: «Как прекрасно, что ты флорист. Спасибо, что ты так красиво обращаешься с цветами», понимаете? Нашу энергию нужно направить на заботу и взаимное уважение, а не попытки изменить друг друга.
ХУО: Это интересная мысль с точки зрения следующего вопроса, который я хотел вам задать. Слово «утопия» в последние годы утратило свое исконное значение и стало ассоциироваться с тоталитаризмом, с режимом, при котором стираются различия между людьми, но ведь бывают и другие утопии и другие их аспекты. Давайте вернемся к изначальной идее утопии не как системы обезличивания, унификации и тоталитаризма, но двигателя перемен.
ЙО: Верно. Не знаю, слышали ли вы, но однажды, когда нас с Джоном пытались выставить из страны [из Соединенных Штатов] из-за иммиграционных проблем, мы основали страну под названием Нутопия, каждый житель которой – ее посол, и мы в том числе. Мы созвали пресс-конференцию, достали перед журналистами из кармана белые платки и сказали: «Мы сдаемся миру». Не сражаемся за мир, а сдаемся миру – это важно.
ХУО: У вас был свой манифест или декларация?
ЙО: Мы написали декларацию Нутопии на внутренней стороне обложки альбома «Mind Games» (1973). В этом году в Венеции пройдет выставка художниц, куда меня пригласили и сказали, что я должна представлять страну. Я подумала и решила: я буду представлять Нутопию. По-моему, это подходящее событие для участия от лица концептуальной страны. Я стараюсь вовлечь в свое творчество как можно больше людей. Например, мое «Дерево желаний» [«Wish Tree», 1981 – наст. вр.] стоит на выставке, и люди выстраиваются в очередь, чтобы привязать к нему свои желания[150]. ‹…›
ХУО: А что еще вы можете рассказать о Нутопии?
ЙО: Это концептуальная страна, и мы все – ее граждане. Вы заметили на задней двери моей квартиры маленькую табличку «Посольство Нутопии»? Джон предложил ее туда повесить. Я покажу вам позже.
ХУО: У вас есть своя символика? И другие посольства?
ЙО: Мы не хотели политизировать и регламентировать нашу концепцию. Мы все – посольства. Мы все – послы.
ХУО: В то время когда вы основали Нутопию, вы общались с Джерри Рубином и Эбби Хоффманом[151]. Если я правильно понимаю, Эбби Хоффман и Джерри Рубин настаивали, чтобы вы с Джоном дали концерт, и это как-то просочилось в прессу. У правительства возникли подозрения, и у вас начались проблемы с визами. Здесь не все ясно: вы одновременно поддерживали и были против Эбби Хоффмана.
ЙО: Нам нравилось представление, которое Чикагская семерка разыграла в суде. Мы видели их по телевизору еще в Лондоне, и сразу встретились с Эбби и Джерри, когда приехали в Нью-Йорк. Но при встрече выяснилось, что наши взгляды решительно расходятся. Они верили в конфронтацию. Концерт, который вы упомянули, должен был стать актом противостояния правительству. Но мы не верили в противостояние. Мы хотели нести перемены через свои картины и песни.
ХУО: То есть вы были согласны с Эбби Хоффманом и Джерри Рубином в том, что перемены необходимы, но у вас кардинально расходились взгляды на то, каким образом их можно достичь.
ЙО: Кардинально. Нам с Джоном было очень важно придерживаться нашего пути – пути мира. Но люди из мира андеграунда считали нас наивными, а правительство, напротив, опасными, так что нам доставалось с обеих сторон.
ХУО: Для выражения своих мирных взглядов вы использовали многие средства, в том числе музыку, но одним из самых известных ваших актов был «постельный протест». Не могли бы вы рассказать мне о вашей акции «В постели за мир» как части стратегии мирного сопротивления?
ЙО: Наш «постельный протест» был театральным актом. Мы превратили наш манифест в спектакль, и это возымело действие. Мы художники, и таков наш способ выражения. Мне кажется, мы кое-чего добились. Например, знаменитая песня «Give Peace a Chance» (1969) доказала, что музыка способна изменить мир. Музыкой можно признаваться в любви, а можно и привлечь внимание к политической ситуации.
ХУО: Много ли раз вы проводили «постельный протест»?
ЙО: Дважды в 1969 году. Первый раз в Амстердаме, второй в Монреале. И ни разу в Нью-Йорке. Хотя многие почему-то думают, что мы устроили его тут. Мы хотели, но не смогли. Поэтому мы выбрали Канаду, чтобы из нее донести до Штатов свое послание.
ХУО: Однако событие приобрело такую огласку, что не имело значения, где вы были на самом деле.
ЙО: Верно, никто и не помнит, где это было! Можно сказать, мы сделали это во всем мире.
ХУО: Если изложить ваш посыл общими словами, вы стремились подняться выше географических, культурных, сексуальных, социальных и каких-либо еще различий между людьми.
ЙО: Очень важно позволять людям быть разными. Вот что мы пытались сказать. Мы чувствовали, что для этой мысли мы очень символические фигуры. Мы с Джоном родом из очень разных мест. Мы мужчина и женщина, мы с Запада и с Востока. Мы представляем совершенно разные слои общества. У нас диаметрально различное происхождение. То есть, в каком-то смысле, мы полные противоположности друг другу, но в то же время мы единое целое. Мы осознавали символизм своих личностей и знали, как люди нас за это ненавидят. Мы вышли за рамки обозначенных для нас позиций. Мы были вместе не только из-за этого, но наш союз казался нам магическим, потому что нам удалось полюбить и полностью понять друг друга, несмотря на все различия.
ХУО: Раз мы заговорили об утопиях, я хотел бы спросить вас о вашей личной утопии, о ваших невоплощенных замыслах – проектах, слишком мелких или масштабных для реализации, проектах, забытых или не прошедших цензуру.
ЙО: Мой лучший невоплощенный проект – тот, что мне придет в голову завтра. Я не люблю оборачиваться на прошлое. Когда мне предложили устроить ретроспективную выставку, я спросила: «Зачем? Разве их проводят не посмертно?» Я против таких затей. В итоге они решили просто не называть ее ретроспективой. Но, в сущности, выставка в центре «Японское общество» [«YES Yoko Ono», Нью-Йорк, 2000] именно ей и была. Если людям интересно, то я согласна сказать «почему бы и нет». Особенно если учесть, что большинство моих работ мало кто видел на момент их создания.
Еще мне не терпится собрать вместе все желания и объединить их в одну башню желаний. Потом, мой «Грузовой поезд» («Freight Train», 1999). Он уже выставлялся в Лондоне и Йокогаме. Это настоящий вагон поезда. Я хочу присоединить его к составу, который идет по европейским городам, и объехать всю Европу. В каждом городе, где поезд остановится, я хочу просить людей написать, что они помнят о случившемся[152]. И так по всей Европе. Вот этот проект я вынашиваю. Мне кажется, Европа – лучшее для него место, там поезд сможет проехать сразу по нескольким странам, это замечательно. Что еще? О, у меня есть много идей для коллажей. И, конечно, музыка… Я собираюсь записывать новый альбом. Уже в самое ближайшее время. Вы слушали пластинку «Blueprint for a Sunrise» (2001)? Так вот, я надеюсь, следующий альбом будет повеселее. [Смеется.]
Фил Ниблок
Родился в 1933 г. в г. Андерсон, штат Индиана, США.
Фил Ниблок – авангардный композитор и режиссер, директор нью-йоркского фонда экспериментальной музыки «Experimental Intermedia». Его самая известная работа – цикл фильмов «Движение работающих людей»/«The Movement of People Working» длительностью более 25 часов, для которого он с 1973 по 1991 год путешествовал по всему миру и снимал людей за ручным трудом в сельской обстановке. Следуя своему базовому принципу, Ниблок пишет музыку без ритма или мелодии, основанную на наращивании микротонов – «очень близких по высоте музыкальных звуков». Накладывая и соединяя длительные звуковые отрезки, полученные в результате обработки звучания акустических инструментов, он создает сложные обертоновые рисунки. Исполнение его музыки обычно длится по несколько часов и сопровождается показом его кинематографических работ. Фил Ниблок не получал традиционного музыкального образования. В 1956 году он получил степень по экономике Университета Индианы и в начале карьеры занимался портретной фотографией джазовых музыкантов и видеосъемкой танцоров в Нью-Йорке.
Данное интервью, ранее не опубликованное, было взято в вестибюле отеля в Лондоне на следующий день после концерта Фила Ниблока в галерее «Серпентайн» 9 октября 2009 года.
www.experimentalintermedia.org
ХУО: Хочу начать по порядку: как все начиналось и как вы пришли к искусству, кино и музыке? После учебы в университете, кажется, джаз играл большую роль в вашей жизни?
ФН: Еще в 1948 году я начал собирать записи классической и джазовой музыки, в эпоху пластинок на 78 оборотов. Потом я два года служил в армии. Вернувшись, я переехал из Индианы в Нью-Йорк. Примерно через год я начал работать в компании по продаже звуко-визуального оборудования. Потом уволился, купил фотоаппарат и начал снимать, так все и началось. Я понял, что у меня есть к этому талант, и уже через год стал профессиональным фотохудожником. Я много ходил по галереям и знакомился с искусством.
ХУО: Это было в 1950-х. Журналист Фред Каплан недавно опубликовал книгу под названием «1959: Год, когда все изменилось» («1959: The Year Everything Changed», 2009)[153], в которой он рассказывает об изобретениях 1950-х годов. Принято думать, что все революции произошли в 1960-х, но он пишет, что «на самом деле космическая гонка, сексуальное и политическое раскрепощение, Кубинская революция, Малкольм Экс, джаз, новая журналистика, поколение битников – все это произошло именно в 1950-х». Согласны ли вы с его точкой зрения на невероятные 1950-е?
ФН: Согласен, кроме того, тогда же появилась техника класса Hi-Fi и высококачественное звуковое оборудование, долгоиграющие пластинки, магнитофоны и еще много чего. Я купил свой первый магнитофон в 1953 году, это была первая модель магнитофона в открытой продаже, насколько я помню.
ХУО: В чем выражалось влияние джаза? Я читал, что вы много фотографировали Дюка Эллингтона[154]. Вы стали свидетелем настоящего взрыва джаза в 1950-х.
ФН: Одновременно и взрыва, и спада. Джаз был одним из крайне популярных в 1930-х годах жанров, затем в 1940-е из-за войны наступило затишье.
После нее популярный джаз, джаз биг-бэндов умер. Большинство их исчезло. К концу 1940-х не оставалось никого, кроме Эллингтона, [Каунта] Бэйси, Вуди Германа и Стэна Кентона. Все остальные бэнды распались. На смену прежнему джазу пришла более интеллектуальная музыка.
ХУО: Так называемый концептуальный джаз. Вы были близко знакомы с Дюком Эллингтоном?
ФН: Честно говоря, я был очень стеснителен и не заводил друзей, хотя мне довелось общаться со многими музыкантами. Я ходил в клубы и на разные мероприятия… Сам я еще не играл.
ХУО: Но вы фотографировали.
ФН: Да, фотографировал. Мне нравилось работать с реалистичной фотографией. Когда я позже увлекся экспериментальным кино, мне было сложно воспринимать абстрактные фильмы, вроде лент [Стэна] Брекиджа[155], потому что я привык к реалистичному изображению, как в фильмах Эдварда Уэстона. ‹…›
ХУО: Как вы перешли к кинематографу? Сначала вы сняли свой легендарный фильм о Сан Ра [«The Magic Sun», 1966], потом начали работать над «Движением работающих людей» [«The Movement of People Working», 1973–1985] – документальной лентой о людях за ручным трудом, своего рода портретом «работы».
ФН: Да, но при этом я занимался многими другими вещами. Я сблизился с миром изобразительного искусства и театра, благодаря своей девушке из «Открытого театра». Я фотографировал их и принимал участие в их деятельности. Я сотрудничал с режиссером и хореографом Элейн Саммерс[156]из Театра церкви Джадсона. Мы стали вместе снимать фильмы. У нее был 16-миллиметровый «Болекс», у меня – 8-миллиметровая камера. Потом у меня тоже появился «Болекс». Однажды в 1965 или 1966 году я решил, что буду на протяжении года снимать по фильму в неделю.
ХУО: Ничего себе!
ФН: Каждую неделю я что-то снимал. Некоторые наработки пригодились мне позже. Я сразу работал над несколькими фильмами, кусочками фильмов. Мне было очень интересно снимать танцы[157]. Кино стало для меня естественным средством выражения. Технически это не представляло для меня никакой сложности, я легко монтировал пленку и справлялся с механической частью. Наконец, был готов мой первый фильм – фильм-спектакль из нарезки танцевальных и музыкальных сцен и образов. Над одной из частей я работал с Максом Нойхаусом[158].
ХУО: Как этот фильм назывался?
ФН: Кажется, он назывался просто «Environments». Это было в 1968 году[159].
ХУО: Вы тогда еще не писали сами музыку.
ФН: Я написал свое первое сочинение как раз для его съемок. ‹…› Я знал, как композиция должна звучать, поэтому просто взял и написал ее.
ХУО: [Флейтистка/басистка] Сьюзен Стенджер[160] сказала мне, что вы практически не монтируете свои фильмы.
ФН: Это не совсем правда. Идея длинной серии фильмов «Движение работающих людей» в 1973 году ко мне пришла минут за пять, не больше. Я успел подумать о том, что я могу сделать и чего не могу, составил для себя инструкцию. В частности, мне пришло в голову свести к минимуму монтаж, сделать так, чтоб зритель не чувствовал смены кадра. В итоге они вышли очень долгими. Когда кадр длится гораздо больше 10 секунд, перестаешь понимать, зачем вообще нужен монтаж. Я подолгу снимал без перерыва и не видел причин потом резать сцены. У меня ведь не стояло цели выстроить сюжет, не было развития или повествования. Так что я просто оставил все в хронологическом порядке. На всю серию у меня ушло 30–40 часов пленки.
ХУО: В 1950-х вы начали экспериментировать с магнитной пленкой и тогда же собрали свои собственные динамики, а потом, в конце 1960-х, начали писать музыкальные композиции. Вы называете их «Энвайронментами», «Environments». Вы первый употребили это слово таким образом.
ФН: «Энвайронменты» представляли собой произведения-перформансы из серии образов, музыки и танца. Они получались очень громоздкими. Без трудностей я мог поставить их только в Нью-Йорке, но никак не ехать в турне по стране. И в труппе нас было пять человек, поэтому для продюсеров наш проект выходил слишком затратным. Я почувствовал потребность одновременно отойти от искусственной природы танца и начать делать что-то самостоятельно.
ХУО: Театр одного актера?
ФН: Скорее, выставка одного художника, хотя мне хотелось сохранить театральную визуальную составляющую. Так родилась идея танцевального фильма о трудящихся людях. Я начал работать над проектом и планировал заниматься им года три, а потом переключиться на что-то другое, но процесс пошел так гладко, что я не мог оторваться 18 лет. [Смеется.]
ХУО: Расскажите, пожалуйста, о серии «Энвайронментов», над которой вы работали в конце 1960-х, до того, как перешли от танца к кино.
ФН: До того как перешел к кино в принятом смысле этого слова. Кажется, «Энвайронментов» было четыре. Когда мы с Мэтью [Коплендом] работали над выставкой [в галерее «Sketch», Лондон, 2007], я понял, что больше всего мне нравится последний[161].
ХУО: Последний хэппенинг, последний «Энвайронмент». Как он назывался?
ФН: «Радиусы в 10 000 дюймов» («Ten Hundred Inch Radii») [«Environments IV», 1971]. У них перекликались названия с предыдущим, «Радиус в 100 миль» («A 100 Mile Radius») [«Environments III», 1971]. Мы снимали его в радиусе ста миль вокруг одного города в штате Нью-Йорк, рядом с Ютикой. ‹…›
ХУО: Как вы придумали термин «энвайронмент»? Его еще употреблял Аллан Капроу. Вы знали его?
ФН: Не помню, чтобы мы пересекались, но я видел много его хеппенингов…
ХУО: На художественной сцене Нью-Йорка? ФН: Да.
ХУО: Значит, изобразительное искусство сыграло роль.
ФН: Конечно. ‹…›
ХУО: Этим летом я брал интервью у Стива Райха[162], и мы с ним разговаривали о минимализме, перкуссии и деятелях-минималистах.
ФН: Тех, что использовали технику повторов?
ХУО: Да. Что скажете о них?
ФН: А они были минималистами? [Смеется.]
ХУО: Вас в такие рамки загнать нельзя, вы свободны и независимы от категорий.
ФН: Потому что у меня визуальный ряд не сочетается с аудионаполнением. Видеоряд, наверное, можно назвать минималистским, но музыка куда более абстрактна. Людям сложно понять, как они связаны. Как вы видите связь между музыкой и видеорядом? [В «Движении работающих людей».]
ХУО: Мне казалось, они образуют некий оксюморон. В хорошем смысле.
ФН: Вы не видите сходства?
ХУО: Вы рассказали о своем подходе, о том, что вы не монтировали фильм, так что сходство, наверное, в прогрессивном характере и того, и другого.
ФН: Неправда, я монтировал свой фильм – просто делал это иначе. Минимализму по сути своей свойственно отказываться от многих возможностей, которые предлагают технологии, и акцентировать внимание на узком наборе аспектов. Так я вижу минимализм. Я определенно стремился свести к минимуму обработку в виде монтажа и не акцентировать внимание на временной структуре. Для меня отсутствие времени – это то, что объединяет музыку и фильм. Мне очень интересно восприятие людей, которые не знают, сколько он длится.
ХУО: Вы избавляетесь от времени или предлагаете его другую концепцию?
ФН: И тот и другой вариант мне нравится. Мне интересно, когда люди по-разному воспринимают происходящее. ‹…›
ХУО: Вы рассказывали, что в начале вашей карьеры композитора на вас сильно повлиял Мортон Фельдман?[163]
ФН: Фельдман – очень интересная фигура. В 1960 или 1961 году он написал несколько произведений под названием «Длительности» («Durations»), и я был на премьере одного из них во время серии концертов современной музыки. Меня впечатлило, что в «Длительностях» отсутствовали ритм, мелодия или временная структура. Это дает невероятную свободу для написания музыки.
ХУО: Ни мелодии, ни ритма, ни гармонии?
ФН: Ну, гармония там, наверное, была.
ХУО: Кто-то процитировал вас в журнале «Wire»: «…ни ритма, ни мелодии, ни гармонии, никакого дерьма»[164]. Значит, все началось с Фельдмана…
ФН: Видимо, да. ‹…›
ХУО: Как еще повлияли технологии на ваши ранние произведения? Их часто сравнивают с ревом реактивных двигателей…
ФН: Да уж. [Смеется.] Очевидно, в то время техника была куда более примитивной и механической. С пленкой я обращался очень легко. С электроникой дело обстояло иначе, но проявка и работа с пленкой – резка, склейка Hi-Fi материала, сборка звуковых систем и так далее – мне все это давалось крайне просто. Примерно в 1967 году я начал работать над интерактивными «энвайронментами», физически интерактивными, то есть зритель заходил в комнату, видел проекцию на стене, наступал на определенную точку, и одна проекция сменялась следующей. Я делал разные объекты, делал даже объекты в виде линз, и собирал из линз самодельные проекторы. Мастерил разные реле, пусковые устройства и фотодиоды. Транзисторы тогда только появились, поэтому техника у меня была незамысловатая.
ХУО: Какие-то ваши поделки сохранилось?
ФН: Есть несколько коробок и банок всякого барахла, но нет! Не думаю, что их можно восстановить. Сейчас тех деталей просто нет, теперь все делается по-другому.
ХУО: Вы были новатором во многих своих начинаниях. Не могли бы вы рассказать о ключевых моментах вашей жизни, о ваших откровениях?
ФН: Не припоминаю таких… Может, похмелье виновато. Но нет, их не было. Я говорил, что «Движение работающих людей» я придумал за пять минут, но ни с чем конкретным этот момент не связан, я просто помню, что так было. Так обычно и случалось: я быстро что-то придумывал, и все – готово. Мне нравится, когда пять минут раздумий приводят к 25 годам работы. Когда я начал заниматься музыкой, меня заинтересовало, как микротоны образуют гармонии. В общем-то, в музыке я ничем больше и не занимался, только микротонами. Очень близкими по высоте звуками, которые вместе образуют новые тона, особенно если взять богатый тембр. Можно назвать откровением мое увлечение этими близкими по высоте звуками.
В конце 1980-х я пробовал экспериментировать с электронным звучанием, но все равно вернулся к акустическим инструментам. Мне просто нравится, как они звучат. Всю музыку рождают инструменты; музыка-рожденная-инструментами. Хотя электроника хорошо подходит для работы с микротонами. Робот – он всего лишь робот, но с помощью него можно генерировать длительные звуки, которые раскрывают микротоны.
ХУО: Вы выделили в своем творчестве особенную роль тромбону, например, в вашем первом произведении для тромбона [«A Trombone Piece», 1979]…
ФН: Все инструменты важны, не только тромбон. Мне удалось поработать с двумя очень талантливыми тромбонистами.
ХУО: Что изменил цифровой век в этом плане? Остались ли инструменты так же важны?
ФН: Нет, я переключился на магнитную пленку. Как я говорил, у меня был магнитофон 1953 года. К работе с пленкой и многоканальными магнитофонами я пришел очень естественным образом. Свои первые сочинения я записывал на пленку в обе стороны, получался совершенно жуткий искусственно сгенерированный шум. Технологии развивались параллельно с моими идеями. Что-то пришло мне в голову – и вот для этого уже есть необходимые технические средства.
ХУО: Мне кажется, с развитием технологий и с тех пор, как вы стали пользоваться «Pro Tools» [компьютерная программа], ваши работы стали меняться, хоть вы и остаетесь верны инструментам. Дело в количестве измерений. Вы перешли с четырех каналов на восемь, потом с 24 на 32. Можно ли сказать, что с цифровые технологии расширили измерения музыки?
ФН: Думаю, в первую очередь увеличилась плотность звука. Сейчас легко можно делать очень сложные звуковые конструкции. Мне выдалась возможность поработать со своим другом в его студии в Бостоне, где у него был один из первых 16-канальных магнитофонов «Ampex». Потом я вернулся к своему восьмиканальному магнитофону, на котором я все время работал. Одно из главных преимуществ «Pro Tools» – что это не занимает места. Все, что мне нужно для работы с «Pro Tools», сейчас в этой сумке – компьютер и жесткий диск. Я могу писать музыку прямо тут.
ХУО: А значит, где угодно – у вас с собой переносная студия! Расскажите о своих партитурах – мне очень интересна эта тема с точки зрения выставок, идея незавершенной структуры, как архитектура у Седрика Прайса[165]. Разве можно иметь окончательный план здания, если его окружение не статично и постоянно изменяется? Пьер Булез в интервью сказал мне, что для него партитуры бесконечны, что он постоянно продолжает их дописывать, создавая, таким образом, партитуры партитур. Партитура – это процесс. Согласны ли вы с ним? Как вы пишете партитуры? [Фил Ниблок показывает партитуры на экране ноутбука.]
ФН: Процесс, на мой взгляд, – верное слово. Написание партитуры – это просто часть процесса. Во времена, когда я работал над произведениями для виолончели [«3 to 7-196», 1974], я писал партитуры на бумаге. А потом я брал пленку с исходным звуком и перезаписывал ее с одного канала на несколько других. Потом я выстраивал структуру произведения, но при этом не слушал, что получалось. Партитура содержит в себе всю идею, и ее создание – это первостепенный процесс.
ХУО: Открытая ли получалась партитура? Давала ли она свободу интерпретации?
ФН: Ни в коем случае. Я пишу решительно закрытые партитуры! Как только я записал их на бумаге, больше никакой свободы. [Смеется.] Я никогда даже не возвращался к своим работам, они всегда оставались в том виде, какой для них предусматривала партитура.
ХУО: Вы бы свои партитуры скорее назвали «рисунками». ФН: Да.
ХУО: Вы не издавали их еще в виде книги?
ФН: Нет, но велика вероятность, что в скором будущем это случится[166].
ХУО: Однако в литературе о вас пишут, что ваши партитуры предполагают некоторые вариации…
ФН: Верно, во время исполнения, как, например, на вчерашнем концерте [в галерее «Серпентайн»]. Первую часть музыканты играли без партитуры, параллельно с воспроизведением записи – в наше время это обычная практика. Во второй части они уже играли по партитуре.
У меня есть произведения двух типов. Раньше я обычно шел в студию, где музыкант играл для меня несколько нот, я их записывал и потом редактировал получившийся материал. Он служил мне базой для будущего произведения, как при работе с партитурой для многоканального магнитофона, так и с «Pro Tools». Затем я начинал выстраивать произведение на нескольких каналах, на основе партитуры или в «Pro Tools». В «Pro Tools» партитура сразу становится произведением, ты просто сразу работаешь с медиафайлами на дорожках. Другого рода сочинения я начал писать с 1998 года. Для них я пишу партитуры, которые уже нужно читать с листа.
ХУО: В ваших партитурах отсутствует неопределенность, но вы согласны с Пьером Булезом, что партитура – это процесс. А что вы думаете о его идее «партитуры партитуры»? О том, что остается за рамками партитуры?
ФН: Булез полагал, что для разных музыкантов нормально по-разному играть одно и то же произведение, а я так не считаю. Для меня самое страшное – играть с кем-то, недостаточно отрепетировав материал, когда музыканты теряются и начинают импровизировать.
ХУО: Вам это не нравится?
ФН: Нет, это какая-то ерунда. Это уже не мое произведение. Меня расстраивает, когда так происходит.
ХУО: Ранее, в других интервью, в ответ на вопрос о вашем любимом сочинении вы говорили, что это «Pan Fried» 1970 года, сочинение для фортепиано.
ФН: Да, я его очень люблю, хоть оно и не вписывается в мои обычные стандарты. Его исполняют на фортепиано, как и вчерашние произведения. К одной-единственной струне фортепиано привязывается нейлоновая струна, которая тянет ее вертикально вверх. Не пилит и не скользит по ней – просто тянет. Вибрации в нейлоне передаются фортепианной струне. Звук получается настолько шероховатый, что основной тон практически не слышно.
ХУО: Почему оно называется «Pan Fried» – «Жаренный на сковороде»?
ФН: У меня есть серия произведений с гастрономическими названиями. Они вошли во второй CD-диск серии «Touch», он назывался «Touch Food» (2003). К диску прилагался буклет с фотографиями разнообразной еды и сладостей.
ХУО: Кажется, вы еще говорили, что для вас особое значение имеет произведение «Hurdy Hurry» (2000).
ФН: Мне очень нравится «Hurdy Hurry». Но центральное место в моей творческой биографии все же занимает работа под названием «Five More String Quartets» («Еще пять струнных квартетов», 1992–1995). При его исполнении музыканты ориентируются на тщательно выстроенные синусоидальные сигналы [основа любого звука], которые они слышат в наушниках. Мне кажется, структура этого произведения и форма его исполнения – это кульминация моего творчества. Началось все с записи исполнения одного квартета, потом он же сыграл параллельно со своей записью в наушниках. В итоге в записи звучат пять наложенных квартетов, а вживую часто играет еще и шестой.
ХУО: Прошлым вечером вы дали концерт в галерее «Серпентайн». Сейчас вы также работаете с Мэтью Коуплендом[167] над шоу в Лионе. Я хотел спросить, что вас связывает с изобразительным искусством? Мы говорили о мире кинематографа, о мире музыки, но ваше творчество оказало большое влияние именно на изобразительное искусство. Почему так вышло?
ФН: Я скорее принадлежу к миру изобразительного искусства, чем к миру музыки или кинематографа. Мои фильмы в сфере кино практически никто не знает. ‹…›
ХУО: Ваше имя часто ассоциируют со стилем «нойз» в музыке. Что вас связывает с этим процветающим жанром, с Масами Акитой и «Merzbow», Микой Вайнио и «Pan Sonic», которые считают себя вашими приемниками? Вас устраивает, что «нойз» стал самостоятельным стилем?
ФН: Не просто устраивает – благодаря ему я могу продолжать заниматься своим делом. Это и в самом деле моя ниша. Так что, скорее, они мне дали жизнь, чем я им.
Современные мастера
Брайан Ино
Брайан Ино родился в 1948 году в г. Вудбридж, Англия. Живет и работает в Лондоне.
Во время обучения в музыкальной школе Ипсвич Брайан Ино испытал влияние современных авангардных композиторов, таких как Корнелиус Кардью, Джон Кейдж и Стив Райх. Хоть он и не владел музыкальными инструментами, он много экспериментировал с записывающими многоканальными магнитофонами и в 1968 году написал теоретическое пособие «Музыка для немузыкантов»/«Music for non Musicians». В 1971 году он приобрел известность как участник знаковой глэм-рок группы «Roxy Music», где он играл на синтезаторе, формируя электронный элемент звучания группы. Вскоре Ино начал работать над своими первыми сольными поп-проектами с замысловатыми текстами и причудливыми вокальными партиями и в 1975 году выпустил свой третий сольный альбом, «Another Green World», состоявший из девяти долгих, цикличных инструментальных электронных композиций. В ходе своих экспериментов он первым употребил термин «эмбиент» и впоследствии обрел широкое признание среди слушателей и критиков как композитор и как продюсер Дэвида Боуи и групп «Devo» и «Talking Heads». В 1979 году Ино начал работать над серией вертикальных видеоинсталляций, сопровождавшихся его композициями в стиле эмбиент. В 2006 году он выпустил компьютерную программу «77 Million Paintings», которая позволяет в режиме реального времени генерировать видео и музыку.
Данное интервью было записано в Лондоне в 2000 году. Впервые опубликовано в книге: Hans Ulrich Obrist. Interviews, Volume I. Ed. «Charta Editions», Milan, 2003, Р. 210–222.
brian-eno.net
ХУО: В вашей книге «Год со вздутым аппендиксом» («A Year with
Swollen Appendices», 1996)[168] есть замечательный список под простым заголовком «Я есть» («I am») из 30 существительных – 30 ролей, которые вы воплощаете:
«Я есть млекопитающее
отец
европеец
гетеросексуал
художник
сын
изобретатель
англосакс
дядя
знаменитость
онанист
повар
садовник
импровизатор
муж
музыкант
руководитель компании
работодатель
учитель
любитель вина
велосипедист
не водитель
прагматик
продюсер
писатель
пользователь компьютера
европеоид
тот, у кого берут интервью
ворчун
дрейфующий автор решений»