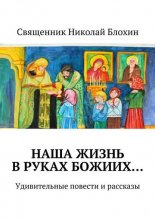Русская философия смерти. Антология Коллектив авторов

А когда опасность смерти проносится и вновь наступает тишина и спокойствие, тогда человек видит, что вся его жизнь была как бы разобрана и провеяна, и делает один из значительнейших выводов своей жизни: не все, чем мы живем, стоит того, чтобы мы отдавали ему свою жизнь. Только те жизненные содержания и акты полноценны, которые не боятся смерти и ее приближения, которые могут оправдаться и утвердиться перед ее лицом. Все, что стоит нашего выбора и предпочтения, нашей любви и служения даже и в предсмертный час, – все прекрасно и достойно. За что можно и должно отдать жизнь, то и надо любить, тому и надо служить. Жизнь стоит только тем, за что стоит бороться насмерть и умереть; все остальное малоценно или ничтожно. Все, что не стоит смерти, не стоит и жизни. Ибо смерть есть пробный камень, великое мерило и страшный судия.
Вот как я созерцаю смерть, мой дорогой друг. Смерть не только благостна, она не только выручает нас из земной юдоли и снимает с нас непомерность мирового бремени. Она не только дарует нам жизненную форму и требует от нас художественного завершения. Она есть еще некая таинственная, от Бога нам данная, «мера всех вещей» или всех человеческих дел. Она нужна нам не только как узорешительница или как великая дверь для последнего ухода; она нужна нам прежде всего в самой жизни и для самой жизни. Ее облачная тень дается нам не для того, чтобы лишить нас света и радости или чтобы погасить в нашей душе охоту жить и вкус к жизни. Напротив, смерть воспитывает в нас этот вкус к жизни, сосредоточивая и облагораживая его; она учит нас не терять времени, хотеть лучшего, выбирать изо всего одно прекрасное, жить Божественным на земле, пока еще длится наша недолгая жизнь. Тень смерти учит нас жить светом. Дыхание смерти как бы шепчет нам: «Опомнитесь, одумайтесь и живите в смертности бессмертным». Ее приближение делает наши слабые и близорукие глаза – зрячими и дальнозоркими. А ее окончательный приход освобождает нас от бремени естества и от телесной индивидуации. Позволительно ли нам проклинать ее за все это и считать ее началом зла и мрака?
Я понимаю, что ее окончательность и непоправимость, ее таинственность и загадочность могут внушить людям трепет. Но ведь поток жизни, в котором мы все пребываем, несет нам ежеминутную ту же непоправимость, ту же таинственность и непостигаемую сложность. Ведь каждый миг нашего земного пути невозвратим и, отторгая, уносится в какую-то пропасть; и эта бездна прошлого и надвигающаяся на нас бездна будущего не менее страшны, чем миг предстоящей нам смерти. Жизнь не менее таинственна, чем смерть; только мы закрываем себе глаза на это и привыкаем не видеть. А смерть, если ее верно увидеть и понять, есть не что иное, как особый и величественный акт личной жизни. И тому, кто ее верно увидит и постигнет, она откроется как новый друг, бережный, верный и мудрый.
25. О бессмертии: (Письмо второе)
Но ты хотел еще знать, мой друг, признаю ли я бессмертие личной души; и я хотел бы ответить тебе и на этот вопрос, со всею прямотою и откровенностью, но помимо всякой богословской учености.
Скажу тебе по совести, что самая мысль об окончательном, бесследном исчезновении моей духовной личности кажется мне бессмысленной, слепорожденной и мертвой. Эту «возможность» я переживаю как нелепую и отпетую невозможность, которую даже обсуждать не стоит, ну, приблизительно так, как если бы кто-нибудь начал рассуждать о темном свете, о бессильной силе или о небытии бытия. Есть люди, склонные к пустому, конструктивному мышлению: они не хотят исходить от реальностей, их прельщает стройность и последовательность мысли, беспочвенность им не страшна, а в истину они не верят. Им-то и надо предоставить оперировать с такими понятиями, как «смертность живого духа». Но присущее мне чувство реальности уклоняется от этого. Каждый человек и в особенности каждый ученый, исследователь должен обладать неким верным чутьем, опытным в созерцании глазом, интуитивным ощущением предмета и его объективной природы, чтобы не поддаваться таким соблазнам и не тратить время на обсуждение пустых и отвлеченных возможностей, чтобы не гоняться за такими логическими призраками и не впадать в «последовательную», но мертвую схоластику. Нереальные возможности суть невозможности, праздные фикции. А тот, кто хочет говорить о реальных возможностях, тот обязан находить соответствующие реальности и держаться за них.
Вот почему я хотел бы установить, что о смерти нашей духовной личности может говорить только тот, кто или совсем лишен духовного опыта, или не желает пребывать в нем и опираться на него. Возможно, что при этом он исходит всецело из чувственного опыта естествознания, рассудочно переработанного и духовно не осмысленного, принимаемого им за единственно допустимый и верный опыт. Но возможно, что он исходит при этом и из буквенного понимания какой-нибудь философской или религиозной книги, в которой об этом «ничего не сказано» или же сказано как раз обратное. Но во всех этих случаях люди идут мимо настоящего первоисточника, мимо подлинного духовного опыта и настоящих духовных реальностей и судят о том, что от них скрыто.
Этот опытный источник, эту подлинную реальность каждый из нас должен пережить лично и самостоятельно, он должен носить их в самом себе для того, чтобы судить о них – из них. Если он лишен этого опыта, если он ему совершенно недоступен, то вряд ли окажется возможным дать ему сколько-нибудь наглядное представление о духе и его жизни, а «доказательство» станет уже совсем невозможным. Но если у него есть хотя бы слабое ощущение духа, как бы «горчичное зерно» этого опыта, или тлеющая искра, скрытая под пеплом повседневной жизни и способная дать пламя, то ему, наверное, можно будет показать все существенное и добиться взаимного понимания.
При всем этом я имею в виду живой опыт нашего не материального, не телесного и притом именно духовного бытия.
Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти. Страшно нам представить себе, что наше телесное естество распадется и предастся тлению. Страшно нам, что угаснет наше земное сознание и самосознание, прилепленное к нашему телу, связанное с ним, им ограниченное и в то же время обогащенное. Прекратится все мое «здешнее». Расстроится все мое земне душевно-телесное устройство. Что останется тогда от меня? Да и останется ли что-нибудь? Что сделается со мной? Куда я денусь? Что это за бесследное, таинственное исчезновение в вечном молчании? Вопрос встает за вопросом и остается без ответа. Тьма. Бездна. Конец. Больше никогда.
Есть, однако, ключ к этой томительной загадке, есть некий подступ к этой пугающей тайне. А именно: никто не может дать мне ответ на этот вопрос, только я сам, только я один могу сделать это, и притом через собственный внутренний опыт. В этом опыте я должен пережить и увидеть мое собственное духовное естество и добыть себе очевидность моего духовного бессмертия. Пока я этого не совершу, всякий чужой ответ, как бы умно и изящно он ни был оформлен, будет мне не ясен, не убедителен, не окончателен; уже в силу одного того, что земной язык не имеет для этих обстояний верных слов и отчетливых представлений, а сверхземному языку я еще должен самостоятельно научиться, то есть приобрести его, или (еще точнее) творчески создать его в себе, чтобы понимать его и владеть им. Если я, например, не разумею по-китайски, то, сколь бы живые свидетели ни рассказывали мне на китайском языке о китайских событиях, я останусь в недоумении, ничего не узнаю и ничего не пойму. Чтобы узреть сверхземное, надо реализовать и оформить в себе сверхземной способ жизни, из которого потом и возникает сверхземной язык… И все это – в пределах земной жизни…
Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти, потому что мы не умеем отрываться от земного, чувственно-телесного способа быть и мыслить и, не умея, цепляемся за наше тело как за спасение. Мы принимаем его за наше «главное», за наше настоящее существо, а оно есть только Богоданная «дверь», вводящая нас во внешний, материальный мир со всей его бременящей грузностью и легчайшей красотою. И когда мы видим, что эта «дверь» отказывается служить нам и рассыпается в прах, когда мы думаем о том, что наше тело станет «безгласною, бездыханною» перстию, то мы в смятении готовы допустить, что это и есть наш сущий и бесследный конец…
Мы не можем и не должны презирать или тем более «отвергать» наше тело2, ведь оно вводит нас в вещественный мир, полный разума и красоты: оно открывает нам все чудеса Богосозданной твари, всю значительность, и чистоту, и величие материальной природы. Тело есть необходимое и естественное орудие нашего приобщения к Божиему миру, нашего участия в нем, и пока мы живы, оно должно оставаться в нашем свободном и здравом распоряжении. Оно дается нам совсем не напрасно, ибо мир природы, в который оно нас вводит, есть таинственное и прикровенное воплощение мысли Божией, живой и художественный символ Его мудрости, так что и мы сами становимся участниками этого воплощения и этого символа, его живою частью, его органическим явлением. Славно и дивно, что нам был открыт этот доступ… Но еще лучше, что он открывается нам на время и потом будет отнят и закрыт: ибо нам предстоит нечто более высокое, совершенное и утонченное.
Итак, несомненно, что наше тело входит в земной состав нашей личности. Но несомненно также, что оно не входит в состав нашего духовного бытия. И в этом мы должны убедиться еще при жизни. Мы должны научиться не переоценивать нашего тела и отводить ему подобающее место и надлежащий ранг в нашем существовании.
Человек способен не только к чувственно-телесному опыту. Ему доступен еще иной, не чувственный и все же предметный опыт; и мы должны вынашивать его, очищать его и предаваться ему. Нам дана способность извлекать себя из телесных ощущений и чувственных впечатлений, уходить нашим вниманием и созерцанием внутрь, в глубину душевно-духовных объемов и освобождать существенное ядро нашей личности от гнета и наваждений материи. Предаваясь этой способности и развивая ее в себе, мы постепенно открываем свое нетелесное бытие и утверждаем его как главное и существенное. Мы приобретаем нечувственный опыт, наполненный нечувственными содержаниями и удостоверяющий нас в бытии духовных законов и предметов. И первое, что нам открывается, – это наша собственная духовная личность.
Мое духовное «Я» открывается мне тогда, когда я убеждаюсь, что я есть творческая энергия, такая энергия, которая сама не материальна, но имеет призвание владеть своим телом как символом, как орудием, как одеянием. Эта духовная энергия имеет силу не служить своему земному телу, но господствовать над ним; она имеет власть отвлекаться от него и преодолевать его; она не признает его «мерою всех вещей». Эта творческая энергия живет ради других ценностей и служит другим целям. У нее другие критерии и мерила. У нее совершенно иные формы, иные законы жизни, иные пути и состояния, чем у тел или вообще у материи: это формы – духовной самостоятельности и свободы, это законы – духовного достоинства и ответственности, это пути – духовного очищения и самосовершенствования, это состояние бессмертия и богосыновства. Эта энергия, как таковая, есть изначально и существенно искра Божия; и человек призван к тому, чтобы принять и утвердить в себе эту Божию искру как свою подлинную и собственную сущность; человек должен предаться этой духовной искре, потерять себя в ней и тем самым найти себя вновь. Тогда он станет Божией искрой и сумеет разжечь ее в целое пламя, а себя превратить в несгорающую купину духа.
Но в действительной жизни дело совсем не обстоит так, что человек остается действенным и распадающимся, так что Божия искра горит в человеке сама по себе и человек живет ее силою, ее формами и содержаниями, а земное тело чадит само по себе, со своими слабостями и необходимостями, во всей своей тварности и тленности. Нет, человек предназначен к единству и призван быть живою и творческою целокупностью. Мой дух, эта творческая искра Бога, призван к тому, чтобы пронизать мою душу и прожечь мое тело, превратить и тело, и душу в свое орудие и в свой символ, очистить их от мертвого бремени и художественно преобразить их. Каждому из нас дается своя искра, и эта искра хочет разгореться в нас и стать огненной купиной, пламя которой должно охватить всего человека и превратить его в Божие огнилище, в некий земной маяк Всевышнего. Итак, в этом жизненном развитии искра Божия очеловечивается и индивидуализируется, а человек оправдывает свое существование и освящается в своем творчестве. Человек становится художественным созданием Божиим, личным светильником Его Света, индивидуальным иероглифом Духа Божия… И тот, кто хоть несколько касался этой тайны единения, этого художества Божия в человеческой душе, тот сразу поймет и примет слово преподобного Серафима Саровского, сказавшего: «Бог заботится о каждом из нас так, как если бы он был у Него единственным».
И вдруг я слышу, что эта олицетворенная искра Божия, это художественное создание Его Духа, в котором Божия благодать и личная свобода человека сочетались и объединились в творческой мистерии, – имеет погибнуть, распасться, исчезнуть в ничтожестве, пустоте и смерти… И к этой праздной выдумке слепых людей я должен отнестись серьезно и принять ее на веру? Эти духовно слепые люди свято веруют в закон сохранения земной материи и физической энергии: это для них достоверно, в этом они не сомневаются. Но именно потому, что дух не есть ни материя, ни физическая сила, он, по их мнению, или вовсе не существует, или же бесследно погибает… Дух – это свободнейшая и интенсивнейшая энергия, призванная к созерцанию невидимого, к восприятию сверхчувственного, к обхождению с бессмертными содержаниями, постигающая именно в этом обхождении свое собственное призвание и бессмертие… Каждая жалкая попытка перенести самую бренную мысль земного мира – мысль о смерти – в сферу нетленных и непреходящих обстояний духа…
Есть великий Художник, который создал внешний мир во всех его великолепных законах и строгих необходимостях и который доныне продолжает создавать мир человеческих духов, во всей его дивной свободе и бессмертности. Мы – Его искры, или Его художественные создания, или Его дети. И именно в силу этого мы бессмертны. И наша земная смерть есть не что иное, как наше сверхземное рождение. Правда, человеку лишь редко удается предоставить свою свободу целиком – Божьему пламени; лишь редко становится человек во всей своей свободе совершенным художественным созданием Духа. Но каждый человек имеет определенную ступень достижимого для него совершенства. Всю жизнь свою он созревает, восходя к этой ступени; всю свою жизнь он зреет к смерти. И земная смерть его наступает тогда, когда ему не дано подняться выше, когда ему нечего больше достигать, когда он созрел к смертному уходу.
Друг мой. Это было великим счастьем, что мне дано было узреть Божий мир, внять его голосу, воспринять его живое дыхание – хотя бы бегло, скудно и беспомощно… Я ведь всегда знал и помнил, что за этим, хотя бы кратко и поверхностно воспринятым мною великолепием имеется еще бесконечное богатство красоты, величия и таинственной значительности, которого я не могу воспринять, которое для меня погибает. И все-таки – какое счастье, что мне довелось посетить этот Божий сад! Сколь благостно было это данное мне разрешение, как много получил мой дух от этого пребывания – от прелести этих цветов, от этих радостно сияющих бабочек, от молчаливо молящихся гор, от благовествующих потоков, от тишины облаков и от ликования птиц, от всех земнородных существ. От моря и от звезд. От добрых и от злых людей и в особенности от великих созерцателей, которые хвалили Творца словами и помыслами, в пении и в живописании, изображением и научением – или же прямою молитвою. Какое незаслуженное богатство! Какая неисчерпаемая глубина! Поистине великие и неоплатные дары…
И это тоже было великим счастьем, что я не только мог видеть этот мир, но и участвовать в его жизни своею жизнью: что я мог сам дышать, любить и страдать, совершать поступки и делать ошибки, идти по пути очищения, верить и молиться; что я имел возможность испытать на самом себе законы мирового естества и осуществлять свою духовную свободу живыми решениями и делами; что мне было предоставлено жить и созревать к смерти…
А потом я буду отозван так, как если бы я созрел для этого отозвания и как если бы я оказался достоин приобщиться новому, ныне для меня невообразимому, сверхземному богатству, – чтобы воспринять его неким новым, внутренним, непосредственно-интимным способом. Все, что я упустил и утратил, все, что я как чувственно-ограниченное земное существо не сумел воспринять и в чем я смутно чувствовал или блаженно предчувствовал невыразимое в словах дуновение моего Творца, – все это и еще иное, прекраснейшее, ожидает меня там, зовет меня туда, – все это откроется мне по-новому в неземных образах и видениях. Тогда я буду воспринимать сущее не как внешний мне предмет, но свободным и блаженным приобщением к его сущности: это будет творческое отождествление, в котором мой дух будет богатеть, не утрачивая личную форму, но совершенствуя ее. Мне еще надо все увидеть и постигнуть, оставаясь самим собою, все воспринять, чего меня лишала моя земная ограниченность, пережить, ликуя, все чудеса Божьего богатства, которые уже открылись мне или еще не открылись мне в предчувствиях, мечтах и созерцаниях моей земной жизни.
Мне предстоит долгое и блаженное восхождение к моему Творцу, к моему Отцу, Спасителю и Утешителю – в дивовании и молитве, в очищении и благодарении, в возрастании и утверждении. И в этом истинный смысл моего бессмертия, ибо всякое несовершенство неугодно Богу и в творении Его неуместно…
Так я понимаю бессмертие человеческого духа.
1943
А. И. Рубин. Что такое философия?
<…> Мысль, созерцая себя в предмете, возвращается к самой себе. Мысль – это уже преодоленное противоречие, возвращение на родину после долгого странствования по чужбине. И вот жизнь не знает этого состояния. Природная жизнь вполне правильно характеризуется Шопенгауэром как воплощение вечного раздора.
В чем заключается вопрос? Вопрос заключается в том, в чем состоит отличие духа от жизни. Если мы примем это различие в раздвоенности, то это не будет неверно. И жизнь, и дух раздвоены, но в разных смыслах. В жизни основным является раздвоенность, а примирение носит временный характер. Так и в жизни основное – это стремление, возникшее из потребности тела, то удовлетворение носит временный характер. Эти потребности непрерывно возобновляют и вызывают вновь стремление. Конечно, мрачная картина, нарисованная Шопенгауэром, в некотором отношении преувеличена. Ведь мы не находимся в непрерывном состоянии голода, жажды или любовного стремления. Но если Шопенгауэр не прав в физиологическом смысле, то он все же прав в психологическом смысле. Борьба за кусок хлеба наполняет всю психику и не дает ей покоя. Забота о завтрашнем дне лишает человека душевного спокойствия и поглощает все его мысли. В созерцании же дело обстоит наоборот. Здесь главным является примирение и обладание. Сама раздвоенность носит характер отдельного момента. Созерцание – это торжество и преодоление.
Что же преодолевается в созерцании? Во-первых, в созерцании преодолевается противоположность субъекта и объекта, так как оказывается, что оба они обладают той же природой, так что у них нет повода к вражде. Но этого мало. В созерцании преодолевается противоположность, существующая в пределах духа. В нем преодолевается и противоположность между жизнью и духом, которая носит гораздо более глубокий характер, чем противоположность внутри самого духа. В чем главная противоположность между духом и жизнью? Она заключается в следующем. Жизнь как природная реальность неразрывно связана со смертью, дух же бессмертен. Мы, таким образом, подходим к вопросу о том, что такое смерть. Это, наряду с вопросом о том, что такое жизнь, – самый трудный вопрос. «Когда еще не знают, что такое жизнь, то где уж знать, что такое смерть», – ответил на этот вопрос Конфуций.
Я отвечу на этот вопрос сразу таким образом: смерть – это материя. Этот ответ, в свою очередь, чреват многими вопросами. Попытаюсь распутать их в общих чертах. Материя есть мертвая, в противоположность живой жизни. Жизнь в себе самой заключает смерть; это общеизвестно. Но дело в том, что жизнь, не поднявшаяся до духа, не имеет понятия о материи, а значит, и о смерти. Животные и растения умирают, но они не знают того, что им предстоит умереть. У животных, правда, есть инстинкт, заставляющий их избегать опасности, но у них нет представления о смерти, страха смерти как понятия. Понятие о смерти имеется только у человека; оно у него появляется вместе с сознанием. Страх смерти, воплощенной в понятии, и есть материя. В понятии материи заключаются следующие моменты: смерть и страх. Одной смерти недостаточно для того, чтобы получалось понятие материи. Обязательным моментом является страх как предвосхищение смерти. Поскольку, по существу, самая сущность страха состоит в смерти – ибо без смерти не было бы страха, – мы можем выразиться еще короче: материя – это страх, воплощенный в понятии; иначе говоря, материя – это осознанный страх1. Все эти определения говорят одно и то же, только они выражают разные оттенки все той же самой мысли.
Теперь мы должны посмотреть, как преодолевается основное противоречие в самой жизни. Нет сомнения, что внутри самой жизни заключается смерть. Но это противоречие преодолевается в пределах самой жизни, средствами самой же жизни. Как же оно преодолевается? Оно преодолевается двояким путем; индивидуальность преодолевает смерть, сохраняя как себя, так и свое потомство. С одной стороны, индивидуальность преодолевает голод, насыщая себя и свое потомство; но окончательно преодолеть смерть она не может. Однако смерть преодолевается рождением. Но в рождении индивидуальность преодолевает смерть своеобразным путем: она не может сохранить себя как данная индивидуальность, она преодолевает смерть, продолжая род, но погибая как индивидуальность. Значит, преодоление смерти происходит путем рождения. Поэтому следует сказать, что настоящими противоположностями являются не жизнь и смерть, а рождение и смерть. Живое как род не погибает, оно бессмертно. Но живое как индивидуальность погибает; оно погибает именно потому, что родилось. Но отдельная индивидуальность преодолевает смерть, преодолевая свою индивидуальную ограниченность в роде. Но особенность природной индивидуальности заключается в том, что она не сознает себя ни рожденной, ни умирающей. Поэтому мы можем сказать: смерть как природное явление преодолевается рождением как природным же явлением.
Но рождение не преодолевает страха смерти. Но в природе в этом нет и надобности, потому что там нет страха смерти. Смерть разлита по всей природе, но она уравновешивается рождением. Мы привыкли смотреть на смерть как на зло, а на рождение как на благо. Но для природы как целого нет этих соображений. Смерть не лучше и не хуже, чем рождение. Это просто два явления, взаимно уравновешивающих друг друга, одно невозможно без другого. «И ты летаешь над творением, согласье прям его лия и в нем прохладным духовеньем смиряя буйство бытия» (Баратынский)2.
Когда же проявляется страх смерти? Страх смерти является только в сознании. Как только появляется сознание, возникает и страх смерти. В этом смысл библейского мифа о древе познания добра и зла. Бог говорит человеку, что в этот день, когда он вкусит плод с этого древа, он умрет. Люди, вкусившие этот плод, стали испытывать страх, и в этом смысле они и умерли. Как же может быть преодолен страх смерти? Ясно, что он не может быть преодолен в пределах природной жизни, потому что природное состояние есть низшее состояние по сравнению с тем, при котором мы испытываем страх смерти. «И страх кончины неизбежной не свеет с древа ни листа» (Тютчев). Но человек не может погрузиться обратно в океан природного бытия. «И ринься бодрый, самовластный, в сей животворный океан» (Тютчев)3. В этом смысле любопытно, что все пантеистические системы призывают нас отказаться от самосознания и вернуться к сознанию. Они призывают нас отказаться от двойного, рефлектированного ряда душевной жизни и вернуться к простому ряду чувственных ощущений, который свойствен всей органической природе. Пантеизм хочет преодолеть материализм на путях возвращения к простому ряду жизни. На первый взгляд, эта попытка кажется вполне убедительной. Жизнь выше материи, нет ничего неодушевленного, все полно жизни. Я считаю, что это верно. То есть верно то, что на самом деле вся природа живая. Но на этом пути преодолеть материю все же невозможно. По какой причине? По той причине, что само понятие материи появляется в сфере мысли. Поэтому невозможно преодоление материи на пути жизни. Говоря иными словами, материя есть рефлектированное понятие, результат самосознания, а жизнь представляет простой ряд, не рефлектированный. Высшее понятие не может быть разрешено таким путем, что мы возвращаемся к более простым ступеням.
Первым воплощением материи является орудие или, говоря правильнее, оружие. Когда человек, стремясь удовлетворить свой голод, стал убивать животных посредством оружия, тогда появилась материя. В оружии страх смерти получает конкретное воплощение. Вид его внушает страх не только людям, но даже и животным. Оружие есть не мертвая материя, а смертоносная материя. Материя появляется впервые не как мертвая, а как убийственная. Поэтому и первая смерть в человеческой истории произошла путем убийства Каином Авеля. Это убийство явилось логическим следствием грехопадения. Когда появился страх смерти, то смерть впервые получила воплощение не в природной смерти, а в убийстве. Это доказывает, что если человек впервые распространил в природе страх смерти, то это произошло потому, что человек был первым убийцей. А убивает человек посредством оружия или орудия, что на первых ступенях одно и то же, так как охотничье оружие – в то же время и орудие. Таким образом, мы приходим к следующему выводу. Материя есть порождение мысли рефлектированной, имеющей место в духе. Столкновение сознания с жизнью порождает понятие материи. Поэтому преодоление этого понятия, преодоление страха смерти, воплощенного в материи, возможно только в сфере духа.
Бергсон4 в книге «Les deux sources de la moral et de la religion» отмечает, что у человека добавочная нагрузка по сравнению с животными, состоящая в том, что животные не знают страха смерти, а человек сознает смерть. Благодаря этому перед человечеством появились новые задачи, которых не было у животных. Это совершенно правильно. Но сама задача показывает, в каком направлении следует искать ее разрешения. Задачи, поставленные духом, могут быть разрешены лишь средствами духа же.
Когда я размышляю над отношением биологической индивидуальности и духовной личности, то я прихожу к выводу, что источник трудностей заключается в следующем. Биологическая индивидуальность находится в состоянии борьбы с другими индивидуальностями. Но эта борьба не осознана в том смысле, что эта индивидуальность сознает себя как таковую и сознательно противопоставляет себя другим индивидуальностям. Между тем для духовной личности понятие самосознания обязательно. Но ошибка заключается в следующем: нам кажется, что понятие самосознания возникает в борьбе с другими личностями. Если бы не было борьбы с другими личностями, то не было бы и самосознания. «О, нашей жизни обольщение, ты, человеческое «Я» (Тютчев)5. То есть мы смешиваем самосознание с эгоизмом. Эти понятия очень близки друг другу, и их легко спутать, если не принять во внимание следующее обстоятельство. Самосознание может носить вполне теоретический характер; мало того, настоящее самосознание и возникает на путях созерцания мыслью себя же самой. Между тем понятие эгоизма носит практический характер и возникло в процессе практической деятельности и борьбы с другими. Эгоизм и материализм неразрывно связаны между собой. Эгоизм – это стремление к приобретению материальных ценностей. Природа же созерцающей мысли состоит как раз в том, что она утверждает себя в слиянии с предметом, который имеет одинаковую природу с нею. Если бы эгоизм осознал себя до конца, то он перестал бы быть эгоизмом, потому что все, что попадает в сферу мысли, теряет характер борьбы и противоположности. Вот почему слово «совесть» показывает преодоление эгоизма. Эгоизм не только не предполагает самосознания, но и полностью противоречит ему; эгоизм возможен только как душевное переживание, обладающее простой структурой, а не как душевное переживание, сознающее само себя.
Итак, мы приходим к положению, что дух может преодолеть жизнь посредством созерцания. Но здесь сразу возникает проблема: каким образом может быть преодолена противоположность между духом и жизнью, если между ними нет среднего термина? На первый взгляд, жизнь со своими телесными потребностями и дух со своим созерцанием имеют такую противоположную природу, что трудно себе представить, как может быть преодолена эта противоположность на путях духа. Говоря просто: жизнь испытывает потребность в жажде и голоде, но эта потребность ни в коем случае не может быть удовлетворена на путях мысли. Здесь как будто неразрешимое противоречие: телесные жизненные потребности не могут быть удовлетворены посредством мысли; они вечно осуждены двигаться в разных плоскостях, не касаясь и не взаимодействуя друг с другом. Таков ответ, который невольно навязывается, когда мы рассматриваем противоположность духа и жизни. Но на самом деле все обстоит не так. Дух с самого начала относится к природе вовсе не созерцательно, а в высшей степени активно. Как же это происходит? Дело в том, что созерцание, правда, представляет самую сущность духа. Но здесь разница в следующем. Понятие сущности может быть понято в разных смыслах. По отношению к одним явлениям сущность может быть понята как их основа, базис, но по отношению к другим явлениям сущность может быть понята как завершение, окончание. И вот, если мы говорим, что сущность природной жизни составляет борьба, а сущность духа – примирение, или, другими словами, что сущность природной жизни составляют голод и половое влечение, а сущность духа – мысль и созерцание, то мы применяем понятие сущности в двух разны смыслах. Для природы сущность – это основа, то, на чем она зиждется, из чего она исходит, а для мысли – это завершение, то, к чему она приходит. Если мы говорим, что сущность духа – это созерцание, это значит, что это есть идеал, к которому он стремится, последняя и высшая ступень, которой он может достигнуть. Если же мы говорим, что сущность природной жизни – это телесные потребности, то это значит, что это исходная точка природной жизни, а вовсе не идеал ее.
Отсюда мы естественно приходим к вопросу о том, есть ли идеал в природной жизни. С точки зрения эволюции такой идеал как будто имеется. Трудно отрицать наличие прогресса, развития в животном мире. Всякий понимает, что путь от амебы к обезьяне представляет восходящий путь. Но особенность этого пути состоит в том, что он представляется восходящим для того, кто наблюдает этот путь извне. Для человека, изучающего все многообразие форм живой природы, представляется несомненным наличие прогресса, развития в животном царстве. Но в пределах самого животного царства нет внутреннего, имманентного прогресса. Каждый животный вид в известной степени представляет собой завершенное целое, и дальше стремиться ему некуда. И уж во всяком случае отдельная животная индивидуальность никуда не стремится. Она проходит свой жизненный цикл от рождения до смерти, но нельзя сказать, чтобы она развивалась в смысле достижения какого-то идеала.
Совсем иначе обстоит дело у человека. Сама жизнь человека состоит в постановке известных идеалов и в достижении их. Я думаю, здесь дело в том, что только у человека есть понятие времени, в особенности – будущего. У животного нет будущего. «Их жизнь, как океан безбрежный, вся в настоящем разлита» (Тютчев). Поэту представляется громадным плюсом, что животные не испытывают страха смерти6. Благодаря этому их жизнь обладает такой полнотой, какая недоступна нам. Страх смерти уменьшает нашу жизнедеятельность, он не дает нам возможности отдаться всей полноте бытия. Но Баратынский, наоборот, видит как раз в этом преимущество: «А человек, святая дева, ты предстоишь, с его ланит мгновенно сходят пятна гнева, жар любострастия бежит»7. Но если можно считать, что Баратынский прав в смысле констатации факта, то Тютчев не прав, и вот в каком смысле.
Та полнота бытия, по которой тоскует Тютчев, состоит именно в преодолении страха смерти. Страх смерти уменьшает нашу жизнедеятельность, освобождение от него дает чувство полноты. Но природная жизнь, не знающая страха смерти, не знает и чувства полноты. Полнота жизни и природы на самом деле есть полнота жизни духа, но только она потом проецируется в природу. Настоящее как преодоление страха смерти не имеет ничего общего с тем настоящим, которое господствует в природе. В природе еще нет времени, в человеке есть время, а идеал, к которому человек стремится, это преодоление времени в настоящем, то есть созерцание, где преодолена противоположность субъекта и объекта.
Намечу вкратце путь духа. Сначала мысль обретает орудия, которые являются воплощением понятия материи. Затем уже дух доходит до созерцания. Так что самосознание представляет не исходную точку духа, а конечный результат, к которому он приходит в результате длительного развития. Per aspera ad astra8. Через орудия и труд – к чистому созерцанию. Таков путь человеческого духа. И теперь остается только поставить вопрос: является ли это путем всего человечества, или же путем отдельного человека, или путем как всего человечества, так и отдельного человека?
Стоит поставить этот вопрос, как намечается целый ряд трудностей в его решении. А именно: вопрос состоит в том, каким образом вообще возможно созерцание в качестве завершения как личной жизни, так и исторического процесса. Трудность здесь в том, что это не просто завершение в смысле окончания пути, но такое завершение, которое представляет собой скачок и переход в иную плоскость бытия. В индивидуальной жизни это сразу сказывается в том, что окончание жизненного пути никому не может представляться просто в виде смерти как завершающего момента. Даже у тех, кто отрицает бессмертие души, и то имеется какой-то идеал дальнейшего продолжения жизненного дела человека: или же он оставляет потомство, которое продолжает дальше его дело, или он живет в своих творениях, в учреждениях, которые он создал и сотворил. Так что в индивидуальной жизни эта трудность решается различным образом. Если мы разберем этот вопрос, мы придем к следующему выводу. Вопрос ставится так: как возможен переход от деятельности к созерцанию и возможен ли он вообще? У тех, кто отрицает бессмертие души, на самом деле этого перехода вовсе нет. Почему? Потому что продолжение себя в роде или даже в своих творениях на самом деле есть продолжение себя в деятельности, во времени. Отдельная индивидуальность живет только краткий промежуток времени. Продолжая себя в роде, она удлиняет путь своей жизни. Она живет не сама, но в своих потомках. Свет, который в ней горел в виде жизни, передается дальше, следующим поколениям, но в виде той же жизни, в виде того же света. Это преодоление не времени вообще, но данного времени в частности. Человеческая жизнь коротка, она удлиняется в потомках. Это не уничтожение времени, а, наоборот, сохранение его. Мало того, это даже не сохранение времени, а творчество его. Нам кажется, что мы рождаемся во времени, но это иллюзия. Мы не рождаемся во времени, а время рождается с нами. Если бы не было рождения и смерти, то не было бы и времени. Не рождение происходит во времени, а, наоборот, время имеет свое продолжение в рождении. То есть основным является рождение, а не время. Это ясно из того, что вообще бессмысленно представить себе, что живое произошло из мертвого, из неорганической материи во времени. Живое не может родиться из мертвого. Невозможно представить себе тот момент, когда живое рождается во времени. Правда, точно так же невозможно представить себе, что живое, а вместе с ним и время, возникает из чего-то вневременно. Отсюда совершенно правильно сделать вывод: жизнь невозможно представить себе возникшей в какой-то промежуток времени. Значит, жизнь есть нечто вечное, не возникшее и не уничтожающееся. Хорошо. Но в таком случае невозможно представить себе переход от жизни к созерцанию. Почему? По той же причине, по которой мы не можем представить себе возникновение жизни, мы не можем представить себе и прекращение ее. Ведь известно, что смерть не есть прекращение жизни. Жизнь рода течет беспрерывно, и смерть входит в эту жизнь таким же необходимым звеном, как и рождение. Раз есть индивидуальность, которая рождается, она неизбежно должна и погибнуть. Но жизнь не прекращается. Сама сущность жизни и есть голод, жажда и половое влечение; они могут прекратиться у отдельной личности, но не могут прекратиться вообще. А между тем созерцание и есть преодоление телесной жизни. Причем интересно проследить градацию этих потребностей: жажда не может быть уничтожена, но она погашается легче всего и фактически является наименьшим препятствием к созерцанию. Голод не так настойчив, то есть не требует такого мгновенного утоления, но зато он больше всего навевает на человека забот. А половое влечение является менее необходимым, но зато это высшее воплощение жизненного начала, потому что в нем выражается родовое начало. Однако оно, с другой стороны, возбуждает больше всего работу мысли, находясь в ней в наиболее тесной связи.
И вот проблема индивидуальной жизни. Голод преодолевается в труде, половое влечение в семье. Труд и семья суть те формы, которые служат к преодолению голода и полового влечения. Но обе эти формы суть формы практической жизни, а не созерцания. В истории человечества производство и общество суть те формы, в которых преодолеваются эти же потребности. Но и они не суть формы созерцания. И вот вопрос: имеются ли учреждения, которые служат созерцанию, которые не ставят себе целью практическую жизнь, в чистое созерцание? Впрочем, вопрос надо ставить не об учреждениях, а о формах человеческого духа. Вопрос должен быть поставлен так. Имеются ли такие формы человеческого духа, в которых созерцание выражается в наиболее чистой форме? Иными словами, человеческий дух выражается, воплощается во всех формах его жизни, но в каких формах он находит чистейшее воплощение? Ясно, что ответ на этот вопрос зависит от того, что мы будем считать сущностью духа. Если сущность духа состоит в мысли, а сущность мысли в созерцании, то дух находит свое лучшее воплощение в тех формах, где лучше всего выражается его сущность, то есть созерцание, которое переходит в самосозерцание.
Казалось бы, что общего между самосозерцанием и орудиями труда? На первый взгляд, между ними нет ничего общего. Но на самом деле дело обстоит не так. Дело в том, что необходимым условием созерцания является преодоление страха смерти. Там, где нет страха смерти, там нет и чистого созерцания. Этот страх смерти вовсе не должен присутствовать в явном виде, он может быть и в скрытой форме. Но все равно страх смерти является необходимым условием и стимулом созерцания. На этом страхе и построено все созерцание в том смысле, что стремится преодолеть его. В задачу, решить которую должно созерцание, необходимым элементом входит смерть. «Мудрец меньше всего думает о смерти» (Спиноза)9. Но уже сама эта формулировка показывает, что на самом деле он больше всего думает именно о ней. Sub specie aeternitatis10. Это именно значит – преодолевши страх смерти. И вот здесь следует сказать прямо: созерцание не только преодолевает страх смерти, но оно же первое и порождает этот страх. В жизни как природном начале нет страха смерти. Есть рождение и смерть, но нет страха смерти. Страх смерти имеется только у человека, и возникает он вместе с мыслью. Таким образом, в известном смысле страх смерти и мысль неразрывно связаны между собой. Каким образом?
Мысль есть способность составлять суждения и общие понятия. Она [имеет] способность увлекаться, абстрагироваться. От чего? От настоящего мгновения. Способность вспоминать, иметь бледные представления, образы прошлого. Как только мы получим понятие о прошлом, мы тем самым возвысимся над жизнью как чистым настоящим. Но [это] настоящее, это есть не жизнь, это есть смерть. Таким образом, мысль порождает одновременно и понятие смерти, и понятие прошлого, и понятие материи, и понятие орудий. В какой связи находятся между собой эти понятия? Связь материи со смертью более или менее понятна, поскольку мы говорим о мертвой материи. Живая материя уже не материя, а жизнь. Но особенность материи заключается в том, что в ней смерть воплощена как прошлое. Смерть по самому существу своему должна нам представляться как нечто угрожающее, нечто внушающее страх, нечто такое, что висит над нами, нечто подобное дамоклову мечу. Но в материи эта самая смерть уже воплощена как нечто готовое, как нечто осуществившееся, как нечто такое, что уже произошло. Во всей мертвой материи воплощена смерть. Материя есть воплощенный страх смерти, получивший уже оформление. В этом парадоксальный характер материи. Страх есть нечто неопределенное, не оформленное, есть нечто неизвестное, угрожающее нам. А между тем в материи страх получил форму прошлого, готового, завершенного. Теперь вопрос, может ли быть страшным прошлое? Может ли нам внушать страх то, что прошло? Мы все знаем, что прошлое нам уже не страшно, если оно действительно прошло. Нас не страшит опасность, которой мы уже избегли, болезнь, которая уже прошла. И вот здесь вопрос, внушает ли нам материя страх. Я думаю, что да. Правда, многие утверждают, что мысль о космической жизни уничтожает в них страх смерти. Мне кажется, что здесь дело обстоит таким образом. Мысль о космической жизни вовсе не уничтожает страха смерти, но при материалистическом образе мысли мысль о космической жизни является единственным утешением, которое возможно найти. Это так. При материалистическом образе мысли ничего другого не остается. Самое возвышенное в материализме – это бесконечность времени, пространства и материи. И вот эта бесконечность в каком-то смысле и утешительна. Утешительный момент заключается здесь не в том, что утверждается жизнь, а в том, что доказывается ничтожество уже этой жизни. Утешение здесь не в утверждении жизни, которой мы наслаждаемся сейчас. Материализм как философское учение неизбежно приводит к буддизму. Буддизм – это этическая система, которая больше всего соответствует материализму, если продумать его до конца. Утешение не в том, что утверждается жизнь, а в том, что нам терять нечего. Мы стремимся привести к нулю свою жизнь уже теперь, и тогда нам, понятно, терять нечего. Потому что хуже нуля уже ничего не может быть. Буддизм есть преодоление страха смерти, но не в том смысле, что утверждается жизнь, а в том, что утверждается всеобщее господство смерти. «И в дикую порфиру древних лет державная природа облачилась» (Баратынский). «Ходила смерть по суше, по водам, свершалася живущего судьбина» (там же)11. Раз все есть смерть, то нет уже и страха смерти. Страх смерти испытывает мыслящий дух. Но дух здесь отрицает всю жизнь благодаря тому, что он сознает ничтожество природной жизни как таковой. Полное отрицание природы – в этом ответ буддизма. Буддизм есть не отрицание материализма, а, наоборот, последний вывод из него. Но буддизм выше стоицизма в том смысле, что он доказывает ничтожество природной жизни. Если мы будем считать, что материализм ниже стоицизма, то нам придется сказать, что буддизм выше стоицизма, потому что в этом торжестве мертвой материи над живой природой мы имеем торжество абстрактной мысли над природой, лишенной мысли. Это торжество материи есть торжество мысли, воплощенной в материю. Насколько человек, испытывающий страх смерти, выше, чем животное, которое не испытывает этого страха, настолько же буддизм, являющийся воплощением этого страха смерти, выше, чем стоицизм, утверждающий, что мудрец не испытывает страха смерти.
1948
В. Н. Ильин. Великая Суббота
(о тайне смерти и бессмертия) (1938)
Посвящается памяти о. Александра Ельчанинова1
Странствия владычна и бессмертныя трапезы высокими умы на горнем месте вернии придите, насладимся.
Ирмос 9-й песни канона Великого Четверга
Томимый земной, не духовной, но душевной тоской по ушедшей Евридике, в безумной жажде ее земного «как прежде» бытия, Орфей, артист-мистагог, совершает насилие над потусторонним миром, пользуясь для этого магическими чарами искусстваa. Орфей как будто имеет успех – аполлонистическим чарам его лиры и его голоса поддаются страшные привратники той области, «откуда возвращения нет», – и артист-мистагог выводит Евридику из преисподней. Но, увы, это не подлинная Евридика, но лишь тень ее, тень, истаивающая и рассеивающаяся в лучах реального дневного света. Гениальный артист, представитель мужественного аполлонистического начала, не владеет женственной, дионисической и духоносной тайной живой материи, этой «матери и кормилицы сущего» (по выражению Платона), но лишь насилует ее. Орфей – Аполлон владеет лишь прекрасным образом Евридики, ее «эйдосом» (или, как еще говорят, «идеей»), но не ею самою2.
Конечно, это тоже некая реальность, но надо сказать, вопреки утверждениям ортодоксального платонизма, реальность ослабленная, истонченная, неосязаемая. Это реальность неполная, только часть реальности, или, лучше сказать, ее призрачная эманация.
В жажде осязаемой материальной полноты, видимой телесной реальности есть глубочайшая, божественная, богоугодная правда. Эта правда искажена до полной неузнаваемости материалистической метафизикой, обернувшейся черным спиритуализмом, давшей материю навыворот и приведшей к злой духовности и к новому и уже смертоносному перевоплощению. Наиболее духовный и глубокий из евангелистов – св. Иоанн Богослов – является в то же время метафизиком воплощения и апологетом осязаемой и видимой телесности, полноты священного реализма. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни» (1 Ин. 1, 1) – вот о чем благоденствует святая трость гениальнейшего из богословов. Он с любовию передает нм о жажде св. Фомы увидеть в руках Спасителя «раны от гвоздей и вложить перст в раны от гвоздей и вложить руку в ребра Его» (Ин. 20, 25). И Церковь вслед за учеником, «его же любяще Иисус», воспевает «доброе неверие Фомино», связавшего полноту веры с полнотой телесной реальности и, следовательно, с полнотой любви. Дух Утешитель есть в то же время Дух Воплотитель и Дух Воскресительб. В Третьей Ипостаси Св. Троицы соединены тайна материальной живой полноты и тайна вечного блаженства. «Господи, хорошо нам здесь быть», – в экстазе райского услаждения говорит св. Петр, созерцая несознанное сияние Живодавца Христа и преображение Его пречистой плоти.
Вне этой христианской полноты воскресшей и преображенной плоти царит сумеречная и глубокая тоска, переходящая в безысходное отчаяние. Вот другой пример, из «Одиссеи» Гомера.
В полной глубокой печали сцене свидания Одиссея со своей умершей матерью, так же как и в попытке Орфея, мы являемся горестными свидетелями неудачи мужественного, хотя и любящего, насилия сына, стремящегося во что бы то ни стало телесно ощутить родную плоть отошедшей, той, которая дала своему сыну плоть, ныне жаждущую прикосновения к своему первоисточнику. Подчиняясь насилию магических чар, притягиваемая с неким страшным автоматизмом свежепролитой кровью жертвенных животных, мать Одиссея является в виде призрачной тени, сначала безучастной и неподвижной, но потом узнающей сына и ласковой к нему. Но когда сын, «увлеченный любовию», захотел «обнять упокоенный матери душу» – она трижды проскользнула между его рук «призраком или сонной мечтой», «наполняя сердце кручиной». И тень матери в ответ на нежные упреки объясняет своему плачущему сыну, «средь людей злополучнейшему», что она всего лишь призрак; она указывает ему на весь ужас развоплощения, на невозможность преодолеть тление и вступить в сладостное телесно-земное общение с любимым: «Все пожрала лютого пламени необорная сила». Все это повествование пронзает душу и гнетет ее невыносимой тоской, вызывая безотрадные слезы. Магическое насилие Одиссея и пролитая кровь жертвенных животных не привели ни к чему устойчивому и подлинно реальному.
Но жажда вечной, устойчивой и подлинной реальности неистребима. Сама же жажда неразрывна с надеждой на ее осуществление. Но не может быть надежды, подлинной и пламенной, о том, чего нет и быть не может. Подлинная надежда неразрывно связана с верой и любовью, составляя с ними и с их конкретным объектом онтологическое единство. Человечество возлюбило свое подлинное неразрушимое и вечное бытие, оно уверовало в него и загорелось Божественным огнем упования – надежды на свершение любимого. Всякая подлинная любовь есть взаимная любовь, и тем более взаимна любовь к вечному и бесконечномув. Весь пафос пророческого служения в Древнем Израиле как бы сосредоточен в словах Валаама:
«Говорит слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко» (Чис. 24, 16–17).
Отвечая на все желания, на всю тоску мятущегося человеческого духа проникнуть в загробный мир вслед на ушедшими туда дорогими нашему сердцу, явится Богочеловек, «будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничтожив Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобно человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2, 6–7).
Чтобы посетить и спасти мертвецов, чтобы утешить тех, кто погибает от тоски по мертвым, явился всеми чаемый Сын Божий. Он сошел к окованным узникам преисподней, сошел к ним путем крестного распятия. Иисус Христос сошел на землю, ища падшего, ища умершего от греха Адама, и в нем каждого из нас… «и не найдя его на земле, даже от ада лютого сошел»г. Такой любви смерть уже не могла удержать в своих «заклепах» и «вечных вереях» (оковах). Только такой любви дано было сказать: «Не бойся: Я есть первый и последний. И живой, и был мертвый, и вот жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти» (Откр. 1, 17–18).
Лишь та любовь, которая «кладет душу за друзей своих» и умирает с умершими, – не знает рабства у смерти, но со всемогущей силой расторгает ее узы, «как лев от колена Иудина», и оживляет уже не призраки, как артист, не механизмы, как ученый строитель, но живые личности в преображенной плоти.
Из глубин истории и предыстории идет эта надеющаяся и любящая вера в загробного Божественного спутника, являющего собой мощную опору в жутком потустороннем, мытарственном странствовании души. И древняя священная песнь Давида говорит о том же.
«Если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня». (Пс. 22, 4).
Пришла полнота времен, сбылись символы закона и вещания пророков, и звезда Исаакова воссияла в царстве мертвых. Та самая звезда, которая привела «звездам служащих» астрологов-волхвов с востока к «солнцу правды», – она же воссияла узникам ада. Но в нашем «мире печали и слез» – кто может указать границу между адом посюсторонним и адом потусторонним? И не одно и то же ли это?
Жезл и посох Доброго Пастыря выводит погибших овец из долины «сени смертной» на вечные пажити и неоскудевающие источники.
Мировая поэзия, искусство, вся мудрость и философия в их высших достижениях сходятся с Вечной Книгой на этом абсолютно желанном и любимом, а потому и абсолютно реальном. Дух воскресения и бессмертия, – Он является источником подлинного вдохновения и подлинной, нетленной красоты, живущей в тленных образах.
- Он вдохновением волнуется во мне,
- Он славить мне велит <леса,> долины, воды;
- Он убедительно пророчит мне страну,
- Где я наследую несрочную весну,
- Где разрушения следов я не примечу,
- Где в сладостной тени невянущих дубов,
- У нескудеющих ручьев
- Я тень, священную мне, встречу.
Достигнув должного напряжения, перейдя пределы обыденных скоропреходящих желаний, направленных на малоценные и потому призрачные, нереальные объекты, – абсолютно желанное, а потому и абсолютно ценное непременно реализуется, осуществляется по той причине, что оно само есть сверхвременная реальность. Эту сверхвременную реальность мы не только воспринимаем, но и воплощает тем всемогущим органом, который именуется верой. Вера видит присносущее как грядущее, как будущее, которое непременно, силою и властью веры, станет настоящим. Отсюда высший действительный онтологизм веры, которая отличается от суеверия ценностью блаженной жизни и полноты прекрасной, духоносной плоти, преображенной по образу Богочеловека и облеченный в Его славу. «Тогда праведники воссияют, как солнце в Царстве Отца их» (Мф. 13, 43). Этот образ Царствия Божия есть образ абсолютно желанный. Здесь желание связано с горением сердца, летящим на мощных орлиных крыльях верующей любви, побеждающей запреты и оковы потусторонних сил, сокрушающей и умертвляющей «привратников ада». Силою веры, пламенем ее вожделенной любви и приходит следующая за искупительными страстями Великая Суббота, заря Воскресения, непреложный предвестник Вечного Дня. Прообразом Великой, новозаветной Субботы является ветхозаветное субботнее почивание после творческой страды. Если чутко прислушаться к сокровеннейшему голосу, звучащему в евангельских повествованиях о воскресении Христовом, если воспринять любящим и уповающим сердцем утаенную от равнодушного духа тайну Церковного Предания, выразившегося в богослужебных и учительных текстахд, то открывается, что Христос воскрес в ответ на слезы и тоску Его Матери и Учеников, в ответ на огненную, палящую жажду увидеть ушедшего Учителя. Христос воссиял из гроба, не стерпел жгучих слез тех, кто скорбел о Его утрате. Здесь – высшая мера свершения второй заповеди блаженства: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Сила надгробных рыданий раскрывается в воскресении умерших. Поэтому так несказанно переходит это рыдание в торжественно-победную «аллилуйю». Этому учит нас сам Христос, свершивший плач по умершем друге – Лазаре, прежде чем Божески властно воззвать к смердящему мертвецу: «Лазарь, иди вон!» Плач и утешение одно. Вернее сказать: утешение есть инобытие плача. Дух Святой дарует нам слезы, и Он же отирает их с наших очей. Вот почему слезы – такое бесценное сокровище, поистине бисер Духа Святого. «Печаль яже по Бозе» – залог Воскресения и жизни Вечной. Удостоверяя перед Своими страданиями общее воскресение, Христос воскресил Лазаря силою Отчего Духа и Сам затем воскрес из мертвых силою Того же Духа Утешителя. Воскресение мертвых есть самое большое утешение в трагедии бытия, ее сияющий «катарсис», ее просветление и разрешение.
Но кто не познал этой жажды уйти в потустороннее еще при жизни, кто не ощутил на своей голове дуновения «нездешней прохлады», веющей из иного мира, тот не узнает и по смерти запредельной тайны. «Жизнь мудреца есть умирание», – говорит Платон. Но это умирание – животворное, оно ведет к инобытию новой вечной жизни, жизни после воскресения. Будущая жизнь бесконечно более реальна, чем наше посюстороннее слабое, еще неокрепшее полубытие, печальная полужизнь, которую так легко разрушить и которая непременно разрушится.
Человек пытается научно постигнуть все сферы бытия, пользуясь техническим приложением наук; но самого главного, без чего все становится бессмыслицей, «науки о смерти» («танатологии») он изучать либо вовсе не желает, либо изучает ее поверхностно, «механически», «позитивистически», не входя в духовные глубины самого страшного и важного феномена, по отношению к которому события земной жизни – лишь ряд прелюдий, выражаясь словами Ламартина. Но уже в глубокой древности в развитых религиях египтян, ассиро-вавилонян, греков, индусов издавна хранилась и передавалась из поколения в поколение мистериальная, таинственная наука наук, которая и находит свое полное и подлинное раскрытие в христианском учении о великосубботнем животворном почивании, о сошествии во ад и Воскресении.
«Человек умирает только раз в жизни, – говорит о. Павел Флоренский, – и потому, не имея опыта, умирает неудачно. Человек не умеет умирать, и смерть его происходит ощупью, в потемках. Но смерть, как и всякая деятельность, требует навыка. Чтобы умереть вполне благополучно, надо знать, как умирать, надо приобрести навык умирания, надо выучиться смерти. А для этого необходимо умирать еще при жизни, под руководством людей опытных, уже умиравших. Этот-то опыт смерти и дается подвижничеством»е.
В этих удивительных словах приоткрывается одна из бесчисленных, но очень важных загадок смерти.
Смерть есть некое негативное, искаженное, обращенное вниз возвышение. Задача человека – развиваться, возвышаться и путем подвига дойти до высшей степени совершенства. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный» (Мф. 5, 48). Можно дерзновенно утверждать, что сладкий, первобытный рай, еще ныне благоухающий и звучащий ангельской музыкой в душах наших, надо было перерасти для Небесного Сиона и сменить сад на град. Нам надлежало из детей в Божием саду превратиться в небесных граждан Божией веси. И вот на путях этого совершенства и роста человек сорвался, соблазнился «переулком» греха, его черным «подпольем». Человек страшно, безмерно пал, пал до смерти, и вместо полета в верхнюю блаженную бездну сверхбытия с ее бесчисленными возможностями и «обителями», вместо «пищи богов» – «амброзии и нектара» – венец творения вкусил горчайшую чашу питья смертного, стал «червем» и ниспал в нижнюю бездну, в ее безысходную крепость, в низшим и самым «крепким» категориям тварного бытияж. Но за этими «заклепами» и «вратами медными», за всем этим потусторонним ужасом есть некое начало иного бытия, и, пробившись к нему, с него надо начать восхождение и возвышение.
Нужно, чтобы смерть была не провалом в преисподнюю к этим ужасным «низшим и крепким» категориям бытия, не впадением в кошмарное состояние «спящей» и «свергнутой» монады3, но чтобы смерть была спасением от «злосмрадной тли и огня вечного», чтобы она была восхождением, полетом туда, куда всегда должен быть направлен духовный взор человека.
Подвижничество есть окрыленность одухотворенной души, умеющей отрываться от влекущих долу «нисших и крепких» категорий; подвижничество есть приобретение возможностей быть крепче этих категорий, увлекая и их самих на путь преображения силой Святого Крепкого – Воплощенного Слова, проложившего Духом Жизни путь по мрачным местам, прежде непроходимым и погибельным, где невооруженных Крестом наверняка подстерегает «Бобок»4. Поэтому и есть два противоположных рода смерти: провал, «Бобок» – и поднятие, «восхищение» (унесение ввысь), преображение. Эти два противоположных способа умирания знала уже древняя мудрость, но лишь христианство, с его «мечом обоюдоострым», разделило их до конца, указав истинный путь преображения и вечной жизни через воскресение «во Христа крестившихся и во Христа облекшихся».
Еще древние («ветхий завет эллинства») стремились облегчить роковой переход и опознать «новую страну», место «пакибытия». «У древних, – говорит П. Флоренский, – переход мыслился либо как разрыв, как провал, как ниспадение, либо как восхищение. В сущности, все мистерийные обряды имели целью уничтожить смерть как разрыв. Тот, кто сумел умереть при жизни, он не проваливается в преисподнюю, а переходит в иной мир. Посвященный не увидит смерти – вот затаенное чаяние мистерий. Не то чтобы он оставался вечно здесь; но он иначе встречает кончину, чем непосвященный. Для непосвященного загробная жизнь – это абсолютно новая страна, в которой он рождается как младенец, не имеющий ни опыта, ни руководителей. Посвященному же эта страна уже знакома, – он уже бывал в ней, уже осматривал ее, хотя бы издали, и под руководством людей опытных. Он уже знает все пути и перепутья потустороннего царства и переходит туда не беспомощным младенцем, а юношей или даже взрослым мужем. Он, как говорили древние, знает карту иного мира и знает наименование потусторонних вещей. И поэтому он не растеряется и не запутается там, где от неожиданности толчка и по неопытности, придя в себя после глубокого духовного обморока, непосвященный не найдется, как поступить, и не поймет, что сделать»и.
В христианстве, в его церковной полноте, то, что древние чаяли получить в мистериальной посвященности, – дается таинствами (по-гречески так и будет – «мистериями»; таинство – мистерия <misterium>). О двух важнейших для воскресения и вечной жизни – о крещении и причащении – подробно говорит Сам их Основоположник.
«Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5).
«Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6, 53–54).
Христиане – это те, кто познал тайну второго рождения и принял участие в Божественной Трапезе. Христиане – это рожденные от Духа и напитанные Бессмертной Трапезой, «лекарством бессмертия». Подлинная, конкретно-живая вера, связующая союзом любви тех, кто возлюбил «бесценный бисер Христа», не может быть оторвана от второго рождения водою и Духом от таинства Плоти и Крови Возлюбленного. Тайна Великосубботнего почивания, Воскресения и Вечной Жизни – это тайна Иорданской купели и Сионской Горницы. Крестом, Духоносным орудием животворящей смерти, освящаются крещальные воды, и тем же крестом, низводящим Утешителя, свершается пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, то есть приобщение земного хлеба и вина небесной, пречистой и славной плоти и крови Сына Марии и наше приобщение Трапезе, приобщенной Богочеловеку. Оба таинства приносят спасительный опыт животворной смерти, тот опыт, которого напрасно искали древние мистики.
Вода, хлеб и вино относятся к тварному всеединству, к Тварной Софии. Крест – начало раздельно-ипостасного единосущия пресв. Троицы, относится к божественному всеединству Софии Божественнойк. Богочеловек, неслиянно и нераздельно сочетавший в Себе оба аспекта Софии, рожденной от Духа Свята и Марии Девы, попрал слияние и разделение смерти – слияние с низшими стихиями и крепкими категориями мира и разделение Божественного и тварного миров, то самое разделение, которое мы познаем как невыносимую скорбь смертной разлуки в каждом конкретном случае. Тайна смерти есть отпадение от Софии, тайна Воскресения и бессмертия – возвращение к Софии. Вот почему так важно заступничество Приснодевы Марии, Матери Божией в час исхода души из тела, вот почему дана Ей власть далеко отгонять в этот час «темные зраки лукавых бесов» и на Страшном Суде Ее Сына избавлять от вечной муки, то есть от смерти второй, удостаивая вечного и блаженного наследия. Ибо кровь и тело Богочеловека Нового Адама – от Новой Евы, Той, в которой Тварная и Божественная София воссияли двуединым светом, «Неопалимой Купиной», явившей миру Свет Троичный, исхищающий от вечного огня, полагающий холодное, черное естество Богочеловеческим бытием, «зерном двоерасленным»л, и, окропленное духоносными делами любви, приносит плод Воскресения и Вечной жизни.
1938
Примечания
а. Как бы это ни казалось парадоксальным, но в своей основе искусство едино с наукой и техникой. Поэтому замысел Орфея по существу ничем не отличается от замысла «Московского Сократа» – гениального Федорова. Однако это уже особая тема, требующая специального и детального обсуждения.
б. Об этом мы находим много вдохновенных и глубоких страниц в блестящей книге о. Сергия Булганова «Утешитель» <О Богочеловечестве. Таллин, 1936. Ч. II. – Ред. >.
в. Об этом см. мою статью «Трагедия безответной молитвы» (в «Вестнике христ. студ. движения» за март 1933 года).
г. Из последования Утрени Великой Субботы. По поводу этой службы нужно сказать следующее. Подобно тому как Спаситель схождением в воды Иорданские освятил для нас крещенскую купель, а в Тайной Вечере в Сионской горнице даровал нам Бессмертную Трапезу и основал Новозаветный храм, так и Своим Великосубботним почиванием во гробе освятил наши гробы и положил начало нашему отпеванию, которое, будучи оплакиванием, в то же время есть приуготовление к воскресению и к исхождению на сретение Воскрешающему в последний день. Со времени воскрешения Лазаря и Великосубботнего почивания мы все уже в своей смерти уподобляемся брату Марфы и Марии, другу Господа.
д. Например, в гениальном огласительном слове св. Иоанна Зластоуста, читаемом в конце Пасхальной Утрени. В качестве философской предпосылки и развиваемой нами богословской теме можно указать замечательную идею Н. О. Лосского: «Желание и целестремительная активность могут быть направлены не иначе, как на реализацию предвосхищаемой и положительной ценности» (Лосский Н. Ценность и бытие. Париж., 1931. С. 52).
е. О. Павел Флоренский. «Не восхищением непщева» <Богословский вестник. Сергиев Посад, 1915. Т. 2. С. 512–562. – Ред. >.
ж. Мы здесь пользуемся превосходной терминологией Николая Гартмана, которую он развил в своем этюде «Законы категорий» (Kategoriale Gesetze), о чем уже шла речь.
з. Мы пользуемся здесь терминологией Лейбница.
и. О. Павел Флоренский. Op. cit.
к. Мы здесь сочетаем терминологию Вл. Соловьева с терминологией о. Сергия Булгакова. О различии Софии Божественной и Софии Тварной см. его «Агнец Божий» (О Богочеловечестве. Париж, 1945. Ч. I. – Ред.).
л. Из последования Утрени Великой Субботы.
Н. И. Трубников. Проблема смерти, времени и цели человеческой жизни:
(Через смерть и время к вечности)
Нет более трудной для исследования и более важной для размышления проблемы, чем проблема смерти не в каком-нибудь из ее частных или специальных аспектов, например медицинском, демографическом, криминологическом и т. д., а в ее общечеловеческом, мировоззренческом смысле.
В конечном счете каждый из нас рано или поздно начинает размышлять о смерти, чтобы решить для себя, не что есть смерть вообще, которую он так или иначе наблюдает, о которой читал или слышал, то есть смерть других, людей и животных, но его собственная смерть. Это ведь совсем не одно и то же: чужая смерть1, которую можно наблюдать, которая имеет отношение к физическому миру, к эмпирическому миру каждого из нас, и смерть собственная, которую наблюдать нельзя и о которой можно только размышлять, в которую можно не верить, которой можно страшиться, от которой можно до времени отмахнуться и т. д., то есть смерть в ее метафизическом смысле, смерть, не данная нам эмпирически; эти две смерти в нашем представлении о них существенным образом отличаются друг от друга.
Первая, как фактор нашего эмпирического бытия, довольно легко принимается нами как явление, хотя неприятное и даже, когда это касается наших близких, ужасное, но тем не менее естественное, не выходящее за пределы обыденных законов мира. Мы ведь все знаем, как много уже умерло, и каких достойных, и как давно. Вторая – наша собственная смерть – принимается нами существенным образом иначе и ставит нас перед проблемой, труднее и главнее которой для нас быть не может.
Большая беда наша в том, что эта проблема возникает перед нами по большей части тогда, когда смерть встала рядом с нами, когда уже поздно что-либо решать, ибо решение предполагает изменение того, что сейчас в терминах модной науки получило название «стратегия нашего поведения»2, предполагает будущее, которого, собственно, больше нет. Мы сожалеем, что прожили так, что могли бы и должны были жить иначе, чем прожили, что, если бы у нас было еще время, было будущее, мы бы не повторили прежних ошибок, изменили всю нашу жизнь с тем, чтобы, когда придет последний час, иметь возможность сказать себе: мы прожили не зря, за такую жизнь не грех заплатить и смертью. К сожалению, счастливый случай очень редко дарит нам возможность новой жизни. И еще реже мы склонны, когда эта возможность все-таки возникает, вспоминать о наших размышлениях там, на том краю. Потому что край тот был ужасен, и те размышления были ужасны, а мы сейчас живы и с живыми и опять исповедуем житейскую мудрость, которая советует мертвым мирно в гробе спать и жизнью пользоваться живущим3.
И этот уход от проблемы вызван, очевидно, не просто тем, что мы снова живы и готовы к жизни. Скорее всего, нас уводит от размышлений наш страх смерти, страх небытия, ужасное для нас представление жизни без нас, без того, что ее представляет, без того, что видит эту синеву и зелень, слышит эти звуки. Мы просто не в силах соединить наше представление об этих звуках и красках, обо всем этом мире с отсутствием нашего представления о них, с абсолютной пустотой нашего небытия; не в силах соединить весь этот ощущаемый сейчас нами мир с полным отсутствием нашего ощущения. Мы не можем поверить, что его, этого мира, для нас больше не будет, а потому мы не можем поверить, что не будет в этом мире нас. Эмпирически обреченные на смерть и убежденные в нашей смертности, мы не можем соединить в одно два таких разных, враждебных друг другу, исключающих друг друга, для нас абсолютно несоединимых представления. И нас пугает даже не столько сам факт нашей физической смерти, сколько необходимость соединить в нашем сознании то, что в нашей мысли, в нашем размышлении соединить нам не дано. И мы или живем в этой раздвоенности между физикой и метафизикой нашего бытия и нашего небытия, которая погружает нас в вечный страх выбора между одной и другой, или безуспешно пытаемся забыться, отвлечься, опьянить себя алкоголем нашего дела или нашего безделья, как наши более или менее отдаленные предки, да многие и сейчас еще опьяняли и продолжают опьянять себя верой в возможность бытия по ту сторону смерти4. Не того бытия за смертью, в каком сохраняются от небытия Сократ, или Толстой, или неведомый нам резчик по камню или дереву, создавший портал или наличник какой-то церкви, но бытия того, кто не оставил ничего.
Передо мной – старая фотография. Лев Толстой беседует с крестьянами. Какой-то из восьмидесятых годов прошлого века. Я знаю, что Лев Толстой умер, и его знакомое лицо на фотографии меня не волнует. Волнует же, что все эти люди, крестьяне в картузах и жилетках с выпущенными подолами рубах, парень, который смотрит в объектив аппарата, дети, лошадь на втором плане – все это, когда-то живое, слышавшее и видевшее, разговаривавшее, как мы сейчас, умерло, возвратилось в небытие, откуда пришло, оставив после себя лишь эту бледную тень. Все эти люди пришли домой, повспоминали разговор с графом-чудаком, а потом умерли…
Или еще. В деревне Заплавье, на берегу Селигера, фронтоны многих домов украшены мастерски выпиленными из дерева надписями. Можно встретить, например, такую: дом братьев таких-то, построен в таком-то году, а строил его плотник Арлоф. Именно «Арлоф». Этот плотник Орлов был неграмотен, но он не был ремесленником, спешащим поскорее выполнить заказ и получить мзду. Он был художник и мастер, который надеялся и верил, что дело его рук переживет его руки и его дела. Пусть даже этот дом сгорит. Пусть его нынешние хозяева заменят почерневшие доски фронтона свежими, пусть они заменят их яркими листами какого-нибудь новейшего полипропилена. Пусть будет так. Будет обидно и жалко, но плотник Орлов жил в этом резном фронтоне и будет жить в памяти тех, кто успел увидеть его мастерство. А вот фамилия «братьев таких-то» будет забыта, как она забыта сейчас мной. Да и с какой стати я мог бы ее запомнить? Только за то, что жили в доме, построенном мастером «Арлофым»? Они тоже в небытии. Их нет. От них еще более слабая, даже не собственная, а отброшенная плотником Орловым тень. А сколько вообще не оставили тени?5
Вот это и есть самое ужасное. Это сознание бытия без нашей тени. Ведь если мы не оставили тени, значит, нас никогда не было. Значит, мы не существовали, были лишь призраками и жестоко ошибались, думая, что мы живем. И что тогда толку, что мы жили, если наша смерть бросила нас в небытие. Значит, наша жизнь не имела смысла, не имела никакой цены.
Вот от этого вопроса мы и убегаем. Если мы боимся больше всего, вопроса о смысле и ценности нашей смерти, забывая, что это и вопрос о смысле и ценности нашей жизни. Не жизни и смерти вообще, а именно нашей собственной жизни и смерти, потому что от того, как мы решаем этот вопрос о смысле и ценности нашей смерти, зависит решение вопроса о смысле и ценности нашей жизни. Не жизни вообще, которую каждый из нас наблюдает, о которой читает в художественной и специальной литературе, а своей жизни.
Если моя смерть есть конец моего бытия, если она ничто для мира, если мир и без меня останется, каким он был, если моя смерть ничего не убавила и не прибавила, ничего не изменила в мире, значит, и моя жизнь ничто, меньше, чем тень. Значит, она ничтожна для мира. Значит, мир и при мне остался таким же, каким был без меня, и не приобрел ничего, и ничего не потерял. Тогда я не имею никакой цены, никакого достоинства. Тогда я могу жить и могу не жить. Тогда всякий другой не имеет больше достоинства и цены и тоже может жить и не жить. Его жизнь и его смерть тогда значат для мира не больше. Значит? А значит, что можно убить себя и другого, можно убить всех. Всем и всему цена копейка.
История, та история, страницы которой пишутся не в книгах, а во временах бытия и о которой потом пишутся страницы книг, знает разные решения проблемы смерти, разные ответы на вопрос: что есть смерть человека – и, соответственно этому ответу, и решение вопроса: что есть человеческая жизнь? Что есть смерть человека в мире и для мира и, соответственно, ответ на вопрос: что есть жизнь человека в мире и для мира? Этот вопрос рождает религии, мировоззрения и соответствующее им поведение, рождает образ мыслей и образ бытия людей.
<…> В конце концов (это вывод): чем будет для нас смерть, тем будет для нас и жизнь. Если ничтожна, не имеет цены и смысла наша смерть, то столь же ничтожна и наша жизнь.
Ценная и осмысленная жизнь Сократа тождественна его ценной и осмысленной жизни.
Страшная и бессмысленная, полная боли и ужаса смерть Ивана Ильича тождественна страшной и бессмысленной, полной боли и ужаса его жизни.
Вывод (и рекомендация): жить там, так и с теми, где, как и с кем хотел бы умереть.
Через страх смерти к бессмертию. От страха смерти к страху бессмысленной смерти, то есть бессмысленной, пустой жизни. <…> Где-то на последнем этапе – переход страха смерти в страх бессмертия. <…>
Цель в объективных определениях физического мира. Ее смысл и ценность в технике, практике, хозяйстве, например, посеять, чтобы собрать урожай, и т. п. И ее смысл в субъективных определениях личной жизни. Вынесенная за настоящее <цель. – Ред. > тождественна смерти. Смерть, даже не смерть, а погребение, место на кладбище как объективная цель человеческой жизни. Абсурд и чушь.
Цель как идеал, достижимый не в будущем, а достигаемый, созидаемый сейчас, в настоящем. Надо вообще перенести цели человеческой жизни из будущего в настоящее, чтобы иметь в запасе и будущее. Если же мы переносим идеал в будущее время, мы лишаемся настоящего, а тем самым и будущего, делаем из цели охапку сена перед носом осла. <…>
Арифметика: Ради будущего можно убить: вошь, коллежскую асессоршу, чтобы потом облагодетельствовать сотни и тысячи (Раскольников). Ради прошлого нельзя: Иван Карамазов о слезе замученного ребенка и билетике в будущее счастье.
Арифметика в будущее – Раскольников.
Арифметика в прошлое – Иван Карамазов – у одной, даже у одной вши-асессорши были мать и отец, две бабки и два деда, четыре прабабки и четыре прадеда и т. д.
Будущее против прошлого = сто, пусть тысяча облагодетельствованных против миллиона обессмысленных жизней, обессмысленных одной смертью жизней.
Значит: не отнимай чужой жизни, потому что она принадлежит не тебе, потому что не ты породил ее, а те… хорошо учить других, Ивана Ильича, мол, не так ты прожил, а потому и т. д. Но вот пришло горе большее, чем своя смерть, и рука опускается, и не кинуть в него камнем. Для Ивана Ильича не стало больше смерти, кончилась смерть, когда кончилась жизнь. Моей смертью кончится моя жизнь, но не то горе, которое я принес им всем. Кончится мое личное, но не их горе, но ведь мое личное только потому, что – их. Конечно, они простят, но что мне сейчас это прощение – не больше, чем тогда.
Нет для человека ничего приятнее отвлеченной истины. Любой, научной ли, нравственной, политической и т. п. Нет ничего легче, как складывать эти истины, сочетать их, противопоставлять и сопоставлять.
Христос ей сказал: иди и больше не греши! Куда? Как? Как, на какой дороге оставить свой грех, когда он здесь, во мне? Идти назад в пространство? А что делать со временем? Если бы он разрешил и научил идти назад во времени! Если бы мог сказать: отпускаются тебе грехи твои, иди назад, на два года, возвратись туда и больше не греши! Можно вообще короче: если ты не успел сделать ничего, то незачем и вспять. Если написал плохую книгу, напиши сейчас хорошую. Возвратясь вспять, ты напишешь такую же плохую, пускай и другую6.
Бог пытал Авраама: возьми сына твоего Исаака и иди на гору Мориа, а потом подсунул ему «другого» агнца, а Авраам и рад, а другой-то тоже агнец, у другого-то тоже кровь, у другого-то тоже жизнь и для него тоже смерть.
Бытие, 22, 1–13.
2. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
10. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
12. Ангел сказал: не поднимай руки своей на отрока и не делай над ним ничего; ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.
13. И возвел Авраам очи свои, и увидел: и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна…
Во-первых, почему же «единственного твоего»7? Ведь у него был Измаил от служанки, и Авраам прогнал его. Родовая ветхозаветная мораль? Сын от служанки не сын? Но ведь это только юридический казус, не более. Авраам не подсуден здесь законам, но он подсуден совести.
Я бы, как Т. Манн, мог бы здорово порассуждать об Аврааме и о модели Отца8: ведь он уже принес в жертву Измаила, в жертву «законной» жене своей Саре. Своего первенца. И он готов убить Исаака, уже не первенца, уже не «единственного своего». Авраам не донес нож до шеи Исаака. Почему? Пожалел? Нет, и еще раз нет. Он перестал жалеть его, перестал любить его, когда изгнал Измаила.
– Останься, – думал он, – и я буду ненавидеть тебя и этой ненавистью питать любовь к изгнанному.
И второй план: я по-иезуитски поступился совестью в пользу закона эмпирически, чтобы сверхэмпирически попрать закон. Я принес Измаила в жертву закону. Я принесу Исаака в жертву моей совести. Отомщу закон, покорившись ему, выполнив его9.
А вот уже не для Т. Манна. Ну ладно. Пусть не для Авраама, а для Бога-то тот и другой первородны. Почему Бог может выбрать одного и изгнать другого? Заменить одного другим? Что ему, Богу, дает не силу, не власть, но нравственные основания принести и принять жертву, выбрать из двух первородных одного и другого. Как для него это возможно? Ладно, я человек, то есть зверь, полузверь, хитрый и мстительный. Я не все понимаю, очень мало знаю. Но он?!
Бог Авраама – зверь. Бога Авраама я могу понять фрейдистски: убей конкурента, даже если это твой подросший сын. Это Бог старого народа (сейчас американцы убивают своих сыновей, мы начинаем убивать их). Боги греков наоборот: убей отца, если уже подрос и вступил в полосу активной жизни. <…>
Убей старое или убей новое – вот два глубоких начала человеческой жизни. И еще диалектика: убей старое, пока оно еще новое и не успело окрепнуть.
(Продолжаю)… не ты породил ее, а те ушедшие в небытие, кто был до тебя, кто в страданиях жил и в страданиях умер, чтобы жил и передал жизнь ты, в надежде, что когда-нибудь будет лучше, счастливее. Если ты захотел отнять у себя или у кого-нибудь другого жизнь, не забудь, что ты отнимаешь ее у тех, кто теперь лишен силы и власти остановить твою руку. А потому и ты не имеешь нравственной силы и власти, помимо власти грубого насилия, распорядиться их правом на твою и на всякую другую жизнь. Не можешь пренебречь своим долгом перед ними, теперь полностью находящимися в твоей власти, беззащитными перед тобой. Убивая себя, ты убиваешь их, и потому всякое самоубийство есть убийство; убивая одного виноватого, ты вместе с ним убиваешь и всех тех невиноватых, кто жил и умер с надеждой на их жизнь. Всякое убийство оказывается в этом отношении бесконечным регрессом убийств, как оно одновременно оказывается бесконечным прогрессом убийств, потому что нельзя убить, не обессмыслив жизнь тех, кто умер, и не поставив под угрозу убийства жизнь тех, кто еще живет и будет жить. <…>
Мы со страхом думаем о нашем небытии в будущем и в самом крайнем случае с улыбкой легкого сожаления (мол, любопытно было бы) – о нашем небытии в прошлом. К этим двум небытиям мы относимся очень различно: вполне спокойны в одном случае и безутешны в другом. Существует ли, однако, сколько-нибудь строгое основание для такого различения? Субъективное и метафизическое различие состоит для нас в том, что в одном случае у нас есть какая-то надежда, пускай и очень слабая, совсем жалкая, тогда как в другом – никакой. В физическом и объективном смысле мы можем говорить о разнице только в направлении к тому или другому небытию из точки настоящего времени. В более строгом смысле для измерений физического и объективного небытия нет: прошлое есть прошлое бытие, будущее есть будущее бытие, то, что было, и то, что будет. Метафизически и субъективно дело обстоит точно так же, хотя это не так легко себе представить. За пределами нашей жизни (за пределами нашего времени, взятого как некоторый начальный пункт отсчета вперед или назад) эти направления (в прошлое и в будущее) тоже равнозначны. Они не безразличны для нас, как не безразлично то, что мы знаем и помним, и то, чего мы не знаем и знать не можем. Но они равнозначны в том, что то и другое равным образом не для нас. В том и другом мы не имеем участия, безучастны. Они равнозначны и в том, что, лишаясь жизни, мы лишаемся не только начального пункта для этого отсчета, но и будущего, и прошлого, причем лишаемся вполне одинаково. Прошлое и будущее исчезают для нас вместе с исчезновением нашего настоящего. Исчезает не только время, но и сама наша вселенная. Но если к исчезнувшему времени и исчезнувшей вселенной прошлого (мы что-то о них знаем) мы, пока мы живы, легко примысливаем себя, легко делаем их при помощи нашего воображения нашими временем и вселенной, то со вселенной будущего дело обстоит для нас иначе. Имея ее сейчас, пока мы живы, в виде некоторого представления, мы должны отмыслить себя от нее сейчас, должны сейчас определить ее как бытие, а себя как небытие, чего мы ни в коей мере не делаем в первом случае. В этом-то и заключается для нас совершенно непреодолимое противоречие, выход из которого возможен лишь в идею бессмертия души или, в менее грубой форме, в идею бессмертия духа, то есть бессмертия нашего ощущения жизни (надо бы показать весь ужас подобного состояния, если бы оно было возможно) или нашей мысли и нашего дела, которые живут в жизни и в памяти других людей и не так скоро исчезают, хотя исчезают с исчезновением нашей вселенной, эпохи, культуры и т. д.
В этом смысле время для нас есть не более чем наше время, время нашего идеального и реального бытия. (Идеальное наше бытие дано нам в виде созерцания реального. Реальное – в виде осознанного идеального – это тоже надо учесть.) И в этом же смысле времени нашего бытия нет, не существует, так как здесь нет ни времени, ни бытия, ни небытия. Наш страх перед небытием в ближайшем смысле есть страх перед тем, чего нет, чего не было, чего никогда не будет. Но лишь в ближайшем смысле. В своей более глубокой основе он вызван опасением, в наше время вполне обоснованным, что нам не хватит не будущего (последнее всегда безгранично), но настоящего, что завтра или послезавтра мы лишимся нашего настоящего.
В этом смысле проблема смерти, проблема страха смерти и страха небытия может быть удовлетворительно разрешена в зависимости от разрешения проблемы наполнения нашего настоящего жизнью, наполнения настоящей жизни настоящей жизнью. Значит, нужно обратиться не к прошлому, не к будущему, а к настоящему. И если нам удастся в нем найти возможность жизни, если мы в нем будем жить не для того, чтобы жить завтра или послезавтра, мы удовлетворительно решим и проблему смерти. Если мы в нем будем жить ради того, чтобы жить сейчас, здесь и теперь, то уже не время будет двигаться вокруг нас, все время оставляя нас где-то на периферии движения жизни, не оно будет идти помимо нас, как пейзаж мимо проходящего поезда или берега мимо плывущего корабля (наша общая очень вредная иллюзия восприятия времени, воспитанная у всех нас привычкой следить за стрелками часов и перелистывать страницы календаря). Нет, мы сами, отнюдь не как поезд, не как сцепленный с паровозом вагон по заранее проложенным железным рельсам и с заранее известными станциями, а как корабль, пусть как одинокая утлая ладья, направим свой путь к заветной цели в океане вечности, имея на борту избранный нами груз знаний и памяти. И тогда нам придется самим избрать, идти ли нам по ветру, куда он дует, куда влечет власть слепой стихии, или круче к ветру, против него, хотя и лавируя, делая галсы влево и вправо, не неуклонно приближаясь к свободно избранной цели.
Это новое времяощущение еще не задает нам цель, но оно помогает взять ответственность за направление движения на себя. Оно не вручает в виде награды рукоятку штурвала и компас, но оно пробуждает потребность в том и другом, оказывается необходимым условием становления ответственной за свою судьбу личности. Оно помогает человеку понять, что можно и не отдаваться на милость ветра и волн, что и в своей ладье он властен не ждать, что с ним будет, не ждать жизни, которая будет или может быть когда-то, но искать и созидать ее. Не ждать, куда бы его привели железные рельсы необходимости, если бы они были, или случайные порывы ветра, но выбирать, куда, с кем и с чем ему двигаться сейчас. И, выбирая, пусть созидая свое настоящее, наполняя его, человек сам окажется способным выбирать, наполнять свое будущее, работать на него единственно достойным образом, то есть созидать его, иметь его.
<…> Главное: не столько страх смерти, сколько страх небытия. Невозможность совместить бытие с небытием, примыслить небытие к бытию. Логика такова: если есть небытие, то что есть бытие, то есть если есть нечто несуществующее, то ведь тогда и существующее оказывается несуществующим.
Ответ: небытия нет. Есть лишь конечное, всегда конечное, насколько далеко бы ни был отнесен этот конец, бытие10.
Где-то в начале: Соломон Екклезиаст. Ему было хуже всех, потому что он имел действительно всё: власть, богатство, мудрость, успех и т. д. Всё, кроме вечной молодости. Ему было лучше жить? Нет, много хуже, потому что ему много хуже было умирать, стареть. Он не мог сказать себе перед смертью: я не зря прожил, потому что имел власть сделать и сделал счастливым мой народ, мою родину. Не мог сказать: при мне не было голодных и униженных, убитых и заточенных в темницы, при мне не прибавилось сирот. Если бы он мог это сказать, может быть, ему было бы легче умирать, он умирал бы не зря, потому что не зря жил. Он знал бы, что трижды живой пес никогда не сделает того, что сделал он, умирающий теперь лев.
И дело не только в хорошо прожитой жизни, правильно прожитой. Как хорошо прожитая жизнь может наполнить смыслом и ценой смерть, так и честная, возвышенная смерть может оправдать в общем-то пустую, может быть, даже и дурную, жизнь. <…>
К отчуждению: да, я только тогда и живу, когда выношу вовне себя плоды моего труда, когда овеществляю себя в своем деле, отчуждаю себя от себя, когда мне удается сделать мое личное общим, а общее своим личным. И если мне сегодня не удалось ничего сделать, <…> если я ничего не «отчуждал» или не «отчудил», я прожил сегодня зря, я убил себя на сегодняшний день, не жил.
Но для чего я все это делаю? Почему мне необходимо вынести себя вовне моего тела, овеществить себя? Ведь не ради дела как такового. (Серебряков в «Дяде Ване»: Надо, господа, дело делать!) Дело ради дела?
Давайте попробуем проследить, на что же в конечном счете направлены все наши помыслы и дела, начиная от заготовки дров на зиму до Рафаэлевой Мадонны. Ведь только на преодоление смерти. Сначала мы хотим отодвинуть ее сколько можно дальше в пределах нашего телесного бытия (дрова, пища, одежда и т. д.), сохранить наше «я» сначала в формах данной нам жизни. Однако, постигая предел телесной жизни, ее кратковременность, мы стремимся продлить ее в более устойчивых формах дела, дома и т. д., вплоть до самых высоких сфер литературы и искусства.
Это мощное чувство жизни, эту энергию преодоления времени следовало бы или можно было бы наукообразным образом обозначить как либидо этерналис11, чтобы подчеркнуть некоторую связь этой мысли с идеями Фрейда и отталкивание от этих идей; если не углубление их, то хотя бы более верную, конечно, на мой взгляд, интерпретацию. Более того, представление о примитивном либидо сексуалис, представление, ставшее уже пошлым, мне кажется, можно было бы свести к более глубокому этернальному чувству. Это libido sex – животная, то есть доступная животным форма того же самого стремления. В конце концов лишь на очень низких ступенях развития человек рождал детей, потому что жаждал половой связи. Цивилизованное время каким-то, пускай и не совсем чистым, образом сумело разделить эти два дела: так сказать, золотую Афродиту и деторождение. И мы в какой-то мере научились рождать детей, когда хотим этого.
Дело, однако, для меня заключается не в этом. Мне кажется, что по крайней мере сейчас, по крайней мере для некоторого из людей либидо этерналис является наиболее мощным импульсом для всех дел жизни, в том числе и для деторождения, и для искусства, науки, литературы, философии. Я хотел бы задать вопрос: не этому ли этернальному либидо служит вся страсть мыслителя, все исступление художника, вся ярость фанатика? Даже убийство. Даже оно в темноте ночи или в тусклом свете застенка не имеет ли в своей основе, в самой своей глубокой, чаще всего скрытой основе эту, не всегда понятную, извечную, я бы сказал – предвечную страсть увеличить количество жизни? Пусть даже не абсолютно. Пусть относительно. Не есть ли и оно способ увеличить коэффициент собственной жизни, относительную длительность своего бытия, изменить этот коэффициент в свою пользу и тем самым свою относительную возможность осуществить себя в жизни? Ведь не борьба за кусок хлеба и место под солнцем (об этом можно говорить сейчас лишь в крайних, совершенно исключительных случаях), но борьба за время, за количество жизни, хотя бы и в ущерб ее качеству. А в конце концов – то странное, не лишенное своеобразной радости, очень далеко обычно спрятанное чувство, в котором, впрочем, не признаемся даже самим себе, при вестях о смерти не совсем ближних: «давно пора» – о зажившихся, «на этот раз не я» – о сверстниках или: «а я еще держусь» – о более молодых12.
1983
Приложение
Георг Зиммель. К вопросу о метафизике смерти
Культура сокровеннейшей жизни любой эпохи и то значение, которое эта эпоха приписывает смерти, находятся постоянно в тесной зависимости друг от друга. Наше понимание жизни и наше понимание смерти – в сущности, только два аспекта единого отношения к миру. Быть может, на предлагаемых здесь рассуждениях, хотя и построенных на самых разнообразных понятиях смерти, нам удастся выяснить метод их построения как пример выросшего из современных культурных условий отношения мышления к этим проблемам.
I
Неорганическое тело отличается от живого прежде всего тем, что форма, ограничивающая его, дана ему извне – иногда внешне, когда оно прекращается, потому что начинается другое, препятствующее его протяжению, грозящее его сломить, согнуть; иногда более внутренним образом, когда ограничение совершается под влиянием молекулярных, химических и физических сил. Так, ветры и непогода определяют форму скал, охлаждение – форму лавы. Органическое же тело само создает свою форму: оно перестает расти, когда рожденные с ним оформляющие силы достигают своего предела; они же и длительно определяют особый род его объема. Так, условия всего его существа являются одновременно и условиями его видимой формы, тогда как неорганическому телу эти последние даны как внешние ему силы. Тайна формы кроется в том, что форма – граница; она одновременно и вещь, и прекращение вещи, сфера, в которой бытие и небытие предмета сливаются воедино. И вот, в отличие от неживого, органическое существо не нуждается для положения этой границы во втором существе. Далее важно, что эта граница не только пространственна, но и временна. Благодаря тому что все живое умирает, что его смерть (все равно по понятой или непонятой еще необходимости) уже предопределена его природой, жизнь его приобретает форму, в которой, однако, количественный или качественный смысл сплетаются иначе, чем в форме пространственной. Проникновение в значение смерти требует прежде всего освобождения от того аспекта, в котором она обыкновенно рассматривается, то есть освобождения от представления «парок», внезапно «перерезающих» ту жизненную нить, которая до момента смерти плелась будто бы как жизнь и только как жизнь; смерть отнюдь не ограничивает жизнь в том смысле, в каком неорганическое тело пространственно прекращается потому, что другое, в сущности, ничем с ним не связанное, надвигается на него и определяет его форму как «прекращение» его бытия [; подступающей извне к живому «скелет» как образ смерти – подлинный символ этого механистического понимания]. Благодаря этому неверному представлению смерть рисуется большинству людей каким-то черным пророчеством, постоянно витающим над жизнью, но соприкасающимся с ней лишь в момент своего исполнения, [подобно тому, как над жизнью Эдипа витало пророчество], что он когда-нибудь убьет своего отца. В сущности же, смерть с самого начала заложена в последнюю глубину жизни. Я оставляю в стороне все спорные вопросы биологии. Нужно ли одноклеточные организмы признать бессмертными, так как, постоянно делясь на новые и столь же живые существа, они без наличности внешней силы никогда не умирают, и считать, значит, смерть за явление, присущее только сложным организмам, – или же утверждать, что одноклеточные существа, по крайней мере частично, а быть может, и окончательно, подлежат смерти, – на все эти вопросы мы здесь не обязаны отвечать. Нас интересуют только те существа, которые безусловно умирают и отношение которых к смерти отнюдь не теряет своей силы и остроты от того, что жизненная форма иных существ не отмечена этою же необходимостью. Так же мало опровергает приуроченность нашей жизни к смерти и длительную зависимость первой от последней и тот факт, что нормальная жизнь вначале безостановочно подымается в гору, становясь все более жизнью, все более жизненной жизнью; лишь после того, как она достигла своей кульминационной точки, отстоящей в известном смысле от смерти дальше, чем любая из предыдущих, она начинает медленно крениться книзу. Однако и этот первый период всенарастающей жизни поставлен общей связью явлений в неоспоримое отношение к смерти. Если бы даже наступающее отвердение сосудов и не давало возможности констатировать и в нем присутствие смерти как бы pro rata[39], он все же был бы другим, не составляй он звена той цепи явлений, которая замыкается смертью. Как причина определенного следствия не должна заключаться в нем субстанционально, в полноте своих признаков, как данное явление может вызвать к жизни качественно совершенно отличное от себя образование, так, обратно, и смерть – или хотя бы только частица ее – может с самого начала соприсутствовать жизни, несмотря на то что как действительность она не будет видима ни в одном из ее моментов. Каждую минуту жизни мы изживаем как смертные, и все было бы иначе, если бы смерть не сопутствовала нам с начала всех начал, если бы она не была назначением нашей жизни. Так же мало, как мы рождаемся в минуту нашего рождения, а скорее каждую минуту рождается какая-нибудь частица нас, так же мало и умираем мы в последнюю минуту. Лишь эта мысль выясняет оформляющее значение смерти. Смерть ограничивает, то есть оформляет, нашу жизнь далеко не только в последний час; напротив, являясь формальным моментом всей нашей жизни, она окрашивает и все ее содержание. Ограниченность живого существа смертью предопределяет как все его моменты, так и все элементы его содержания; качество и форма любого жизненного момента были бы иными, если бы он был в состоянии преодолеть эту имманентную ему границу. Один из самых смелых парадоксов христианства заключается в том, что оно оспаривает это априорное значение смерти и рассматривает жизнь с точки зрения ее собственной вечности. К тому же – вечности не в смысле примыкающего к последнему моменту нашего земного бытия продолжению жизни; наоборот: вечная судьба души ставится здесь в прямую зависимость от всего ряда жизненных элементов, и каждый момент жизни определяет степенью своей этической значительности наше трансцендентное будущее, преодолевая таким образом свою собственную ограниченность. Так христианство побеждает смерть не только тем, что продолжает данную во времени линию жизни за оформляющую границу жизненного конца, но и тем, что определяет все моменты жизни, в которой деятельна смерть и которые внутренне ограничены ею, как моменты вечной ответственности.
Но и для обратно направленного взора смерть является создателем жизни. Все организмы существуют в конце концов в окружающем их мире лишь благодаря тому, что им дана возможность приспособления в самом широком смысле этого слова. Отказ организма от этой приспособляемости означает его смерть. Как всякое рефлекторное или сознательное движение может быть истолковано как стремление к жизни, к более интенсивной жизни, так оно может быть понято и как боязнь смерти, побег от нее. В этом смысле символом каждого нашего движения является арифметическая величина, которая одинаково может быть построена путем сложения снизу и вычитания сверху. Или, быть может, сущность нашей активности – тайное для нас самих единство, которое мы можем постичь, как и многое другое, лишь разложив его на борьбу за жизнь и бегство от смерти. Каждый шаг жизни вскрывается, таким образом, не только как приближение к смерти во времени, но и как нечто, этою смертью, как реальным элементом жизни, положительно и априорно оформленное. Оформление же это определяется наряду с другими элементами и устремлением от смерти, благодаря тому, что нажива и наслаждения, работа и отдых, как и все другие с естественной точки зрения рассмотренные проявления жизни, представляют собой инстинктивную или сознательную борьбу со смертью. Так, ту же жизнь, которую мы проводим в приближении к смерти, мы проводим и в постоянном устремлении от нее. Мы походим на тех, которые ступают по палубе корабля в направлении, противоположном его движению: в то время как они идут на юг, корабль их и палубу уносит на север. И эта двойственность движения определяет каждую минуту их положение в пространстве.
II
Это оформление жизни смертью на всем ее протяжении остается пока, конечно, таким образом, который сам по себе совершенно не обязывает нас ни к какого рода заключениям: нам было лишь важно заменить обыкновенное представление смерти как внезапном перерезывании парками нити жизни – другим, более органическим, для которого она с самого начала является оформляющим моментом непрерывного жизненного развития. Не будь смерти и по ту сторону ее явной видимости в час умирания, жизнь была бы совершенно и окончательно иной. Но как бы ни рассматривать такое распространение смерти на всю жизнь, видеть ли в нем предуготовление и предвещение последнего часа или имманентное окрашивание и оформление каждого жизненного момента самого по себе, – во всяком случае лишь оно, в связи со смертью как неповторяемым актом, обосновывает целый ряд метафизических представлений о сущности и судьбе души. В дальнейшем я не делю оба намеченные здесь смысла смерти; было бы нетрудно вскрыть влияния и того, и другого в общем ходе следующих рассуждений.
Гегелевская формула, что каждое «нечто» требует своей противоположности, сливаясь с которой в высшем синтезе оно одновременно и уничтожается, но и «приходит к самому себе», вскрывает, быть может, всю глубину именно в отношении жизни и смерти. Жизнь сама требует смерти как своей противоположности, как то «другое», во что она как «нечто» претворяется и без чего она потеряла бы свой специфический смысл и свою специфическую форму. В этом отношении жизнь и смерть стоят на одной ступени бытия, как тезис и антитезис. Но это же отношение их требует и третьего, высшего начала: ценностей и напряженностей нашего бытия, которые высятся над противоположностью жизни и смерти и в которых жизнь обретает себя самое и достигает своего высшего смысла. В основе этого убеждения лежит мысль, что жизнь, как она нам непосредственно дана, развертывает свой процесс в полной неотделимости от своих содержаний. Это фактическое единство может быть только пережито; интеллектуально оно не вскрываемо. Лишь аналитика мышления разлагает его на составные элементы процесса и содержания; понятно, что проведенная таким образом линия отграничения соответствует объективной структуре вещей не меньше, чем – в совершенно иной плоскости реальности – данное нам в чувстве единство переживания. Фактическая же и психологическая возможность разделения дана, в особенности, как мне кажется, в отношении к некоторым высшим ценностям, только тем фактом, что их носитель, то есть процесс, в котором они осуществляются, подлежит смерти. Живи мы вечно, наша жизнь осталась бы, вероятно, совершенно неотделимой от своих ценностей и содержаний; не было бы никакого реального основания мыслить их вне той единственной формы, в которой они нам даны и в которой мы можем переживать их неограниченное число раз. Но вот мы умираем и тем самым вскрываем жизнь как начало случайное, преходящее, как нечто, что могло бы быть и иным. Так вырастает мысль, что содержание жизни отнюдь не должно разделять судьбы жизненного процесса, и зарождается представление о независимом от всякого течения и конца, стоящем по ту сторону жизни и смерти, значении некоторых содержаний жизни. Таким образом, только факт смерти расторгает изначальное слияние и солидарность жизненных содержаний и жизни; но лишь в этих вневременно значащих содержаниях обретает протекающая во времени жизнь свою последнюю высоту; принимая их, возвышающихся над собою, в себя и проливаясь обратно в их мир, жизнь как бы возвышается сама над собой, обретает себя самое, становится смыслом и ценностью и постигает свое назначение. Чтобы иметь возможность сознательного устремления к своим содержаниям, жизнь должна сначала их идеально отрешить от себя. Этому отрешению способствует смерть, которая может оборвать процесс жизни, но совершенно безвластна в отношении к значению жизненных содержаний.
Если это разграничение жизни и ее содержания, свершаемое смертью, и устанавливает конечность жизни и вечность содержания, то тот же акцент переходит все же и на ту сторону линии разделения. Процесс нашей внутренней душевной жизни, взятой как целое, выявляет с каждым шагом своего развития все сильнее и яснее то своеобразное «нечто», которое мы именуем нашим «Я». Речь идет о сущности и ценности, о ритме и, так сказать, внутреннем смысле нашего существования как совершенно определенной части действительности; о том, что мы, в сущности, уже с самого начала собою представляли и чем мы в полной мере все же никогда не становимся. Это «Я» представляет собою своеобразную и требующую более детального определения категорию, нечто третье, стоящее по ту сторону данной действительности и ирреальной, лишь постулируемой идеи – ценности. Это «Я» связано, однако, в начале своего развития, как для субъективного сознания, так и в своем объективном бытии, самым тесным образом с отдельными содержаниями жизненного процесса. Мы видели, как этот процесс отделяет от себя свои содержания и как они приобретают определенное значение по ту сторону их динамически-реального извивания; но это лишь одна сторона явления: как бы с другой стороны, этот же процесс отпускает от себя uno actu[40] с содержанием и «Я», которое тем самым отделяется от (всецело заполняющих вначале наивное сознание) содержаний жизни как особое значение и ценность, бытие и требование. Чем больше мы переживаем, тем решительнее определяется это «Я» как единое и длительное во всех колебаниях нашей судьбы и нашего миропредставления; и не только в психологическом смысле, в котором восприятие схожего и пребывающего в разнородных явлениях облегчается их численным нарастанием, но и в объективном смысле: здесь «Я» как бы отстаивается само в себе, выкристаллизовывается из всех текущих случайностей переживаемых содержаний и, становясь все увереннее в самом себе, все независимей от своих содержаний, развивается навстречу своему собственному смыслу и своей собственной идее. Так вступает в свои права мысль о бессмертии души. <…> Вечность жизни принципиально мыслится основанною не на форме эмпирической ограниченности, а понимается как вырез из вечного бытия, бессмертие перестает быть невыносимым прыжком из одного порядка вещей в другой, и притом вполне противоположный. Переселение душ являет эту вечность жизни как бы в призматическом преломлении, в бесконечном ряде разноокрашенных и индивидуально-ограниченных существований. Смерть является, таким образом, лишь концом индивидуальности, но не концом жизни.
Но тут-то и возникают все трудности представления переселения душ. Какая же жизнь кончается со смертью? Лично индивидуальная? Но тогда не понятно, что ближайшее существование может мыслиться как существование того же неразрушенного субъекта. Если же мыслить переселение душ с сохранением личности, то возникает вопрос: что же остается в ней тождественной самой себе, если она рождается сначала князем, потом тигром, затем нищим и, наконец, шакалом? Какой же элемент бытия или сознания остается неизменным, чтобы оправдать наименование всех этих явлений как явлений одного и того же субъекта? Известные нам из истории представления ставят эту альтернативу во всей ее резкости. У очень многих и далеких друг от друга примитивных народов существует верование, что новорожденный есть возвратившийся покойник. Некоторые племена негров показывают новорожденному разные вещицы умерших членов семьи. Если какой-нибудь предмет вызывает у ребенка особое внимание, то это значит, что ребенок – вернувшийся собственник этого предмета. «Это дядя Ион, он узнает свою трубку!» У новозеландских маори жрец перечисляет перед новорожденным имена его предков: при каком имени ребенок чихнет или кашлянет, тот член семьи возродился в нем. Это является, очевидно, самой грубой и внешней формой возвращения умершего в жизнь, формой, которую едва ли даже можно назвать переселением душ, ибо дело идет о возвращении умершего во всей полноте его психофизического существа. Но все же это представление является самою крайней формой индивидуализма, который в самых разнообразных оттенках является одной из разновидностей учения о переселении душ. Крайность другого направления представляет из себя более глубокое учение буддизма. На сомнения этического свойства: как же грехи прежде жившего взыщутся с другого, никогда не грешившего, – буддизм отвечает, что вся постановка вопроса совершенно неверна, ибо никакого достойного наказания грешника совсем не существует. Существуют только природно-безличные мысли и деяния, которые минутами собираются вместе и составляют определенный агрегат; во втором агрегате, причинно связанном с первым, мы встречаем все еще продолжающееся следствие тех прежних элементов или их частей. Грех и наказание не постигают, таким образом, двух различных субъектов, связанных единством некоего «Я», а разыгрываются в отношении безличных комплексов психофизических отношений и относятся друг к другу, как определенное явление к своему, быть может, очень запоздалому следствию. Очевидно, что и это предельное напряжение безличного элемента разрушает точный смысл представления о переселении душ; ибо раз с самого начала совершенно отрицается стоящая по ту сторону всех своих особых содержаний душа, то очевидно, что и представление о пребывании себе самой торжественной души в целом ряде существ, связанных лишь различием таких содержаний, становится совершенно невозможным.
Вот обе крайности. Очевидно, что все возможные представления о переселении душ будут лежать между ними и окажутся связанными с тем или иным понятием «личности». Для того чтобы оставаться тождественной самой себе во многих телах, эта личность должна быть лишена всех тех признаков, которые вырастают для нее из связи души и тела. Аристотель, однако, смеется над учением о переселении душ, которое заставляет любую душу входить в любые тела; так же, говорит он, могло бы и плотничье искусство войти во флейты; в действительности же каждая определенная душа может быть связана только с одним определенным телом. Но даже и предположение Аристотеля, что душа есть не что иное, как жизненность живого существа, – еще не делает необходимым отклонение переселения душ, особенно в том случае, если душу полагать тождественной индивидуальности существа. Эту индивидуальность можно толковать как форму отношения души к ее содержанию, форму, отнюдь не зависящую от этих содержаний, а потому и тождественную самой себе среди бесконечно разнообразных комплексов душевных переживаний. Каким образом эта индивидуальность, этот особый ритм, организованность, окрашенность переносится с одного существа на другое – это вопрос, на который ответ невозможен. Индивидуальность есть категория, которая одинаково мало растворяется как в физическом, так и в психическом элементе, нечто третье, что находится и в том, и в другом и составляет как бы общий знаменатель их дуализма. Согласимся, значит, с Аристотелем в его утверждении, что (в экзистенциальном смысле) одна и та же душа не может переселяться из одного тела в другое: все же самые многообразные психофизические образования могут быть определены как тождественные по своей индивидуальности. Как это ни парадоксально, это все же так: князь и тигр, нищий и шакал могут быть наделены одной и той же «индивидуальностью». Пусть психофизические существа всех четырех не будут иметь между собой ни одного схожего по своему содержанию элемента, все же общий колорит, зависящий от взаимоотношения характернейших свойств, может везде повторяться. Индивидуальность в отношении к отдельным элементам сравнима с ценностью дроби, которая может быть образована самыми разнообразными факторами. Переход «души» князя в тигра действительно наталкивается, быть может, на трудности, вскрытые Аристотелем; но все же, как князь, князь может быть «тем же», чем тигр – как тигр. Этот внутренний закон существа, вполне индифферентный по отношению к материи своего существования, и может быть назван его «индивидуальностью»: и если вообще фантастическая мысль переселения душ должна быть принята, то связанность каждой души с определенным телом отнюдь не может препятствовать этому. Вполне признавая ее, можно, однако, мысль о переселении связывать с бесконечно многими законами отношений между телом и душою или вообще между элементами существа, связывать, значит, с той индивидуальностью, которая, не вскрываемая даже и pro rata ни в одном из этих элементов, все же придает всему существу как бы некий отпечаток, хотя и вполне определенный, но благодаря своему формальному характеру переносимый с одного комплекса психофизических элементов на другой, по своему содержанию от него совершенно отличный. Таким образом, смерть преодолевает не душа, в смысле исторически реальной субстанциональности, а вневременный по своей значимости закон, воплощенный то в таком, то в ином комплексе элементов действительности; важно лишь то, чтобы все эти элементы составляли единый во времени и смертью отдельных реальностей разделенный на периоды ряд, как и весь мировой процесс, взятый в целом, представляет собою – по своей пространственной ограниченности, причинному порядку и логической структуре – определенную индивидуальность, осуществленную в форме одного сплошного свершения единорядного времени. Нечто аналогичное встречаем мы в эмпирически-психологической действительности. Душа каждого человека проходит между рождением и смертью чрез целый ряд построений, совершенно противоположных эпох, судеб, которые, в отношении содержания, остаются совершенно чуждыми друг другу. Но несмотря на это, индивидуальность субъекта являет собою совершенно законченную картину: как звук человеческого голоса остается один и тот же, какие бы этот человек ни говорил слова, так и во всем многообразии каждой жизни остается один, основной ритм, основная окраска, основная структура, какой-то априорно-формальный закон всякого свершения и претерпевания, закон, переживающий кончину отдельного жизненного содержания и переносящийся, как индивидуальность всей жизни, на каждое другое.
Этим мы затронули мотив, который рождает возможность отказаться даже и от индивидуальности, как носительницы метемпсихозы, а тем самым и возможность придать этому наиболее странному учению о бессмертии еще более неограниченный смысл: правда, не телеологический, делающий это учение более близким современному человеку, но все же причинный, способный придать его возникновению как бы идеальное обоснование. Проходящая сквозь целый ряд тел и жизней душа есть не что иное, как душа отдельной жизни, «написанная большими буквами»; переселение душ – не что иное, как несуразное расширение, обострение и абсолютирование некоторых явлений будничной, относительной жизни. Уясним себе все изменения, претерпеваемые нами самими от рождения до смерти, и мы увидим, что их отдаленность друг от друга вряд ли меньше, чем дистанция между некоторыми человеческими и животными существованиями. Каждый, кто действительно жил, знает чувство, будто между полюсами его переживания лежит не только вся человеческая, но и вообще всякая мыслимая жизнь, будто им охвачены не только все противоположности жизни – в них всегда еще скрывается коррелятивная соотносительность сторон, – но удаленности и неспособные к взаимному соприкосновению безразличности, связанные между собою лишь чисто формальным жизненным единством и тем фактом, что все эти элементы как бы нанизаны на протянутую во времени сплошную нить жизни. Уже одни удаленности типичного развития: лепечущий ребенок, мужчина в расцвете своих сил, отживающий старик, – что дает право апеллировать к этим явлениям, как к единству, если не то, что сквозь все течет один и тот же жизненный поток, совершенно не дающий им, однако, ничего схожего и совершенно не объясняющий их единства. Существуй переселение душ в действительности, этот поток мог бы без особого напряжения и без изменения своего направления охватить своим формальным единством и еще несколько более удаленные друг от друга элементы человеческого и животного существования. Между рождением и смертью мы не раз чувствуем себя «перерожденными» – телесно, душевно, в смысле новой судьбы, чувствуя, однако, все время ту же душу: она как бы пронизывает все переживания, но не окрашивается ни одним из них. Есть нечто, что пребывает в нас неизменным, в то время как мы – мудрецы становимся глупцами, лютые звери – святыми, и за минуту еще счастливцы – отдаемся отчаянию. Все механическое меняется с мельчайшим изменением своих частей, ибо в нем нет реального внутреннего единства, скрепляющего все элементы. Если по изменении частей такой механизм, по каким-либо терминологическим соображениям, и продолжают называть «единым», то, в сущности, забывают, что имеют перед собою не то же единство, а совершенно иное. Совсем другое дело живое или, точнее, одушевленное существо. Тут мы представляем себе, что оно могло бы не только иначе действовать, но даже и быть совершенно иным, не теряя своей тождественности, ибо в нем переживания связаны определенным «Я», пребывающим все время по ту сторону всех отдельных содержаний и действий. Оттого и можно, пожалуй, только по отношению к человеку утверждать, что он мог бы стать иным, чем он стал; всякое другое существо перестало бы быть в таком случае самим собою. Очевидно, что именно в этом пункте скрещиваются проблемы свободы и личности («Я»); лишь он выясняет нам, почему полярности и отчужденности разнообразных настроений и судеб, решений и чувств представляют собою разностремящиеся качания маятника, который тоже ведь подвешен к одной неподвижной точке.
Если перейти теперь от такого рассмотрения действительности к вопросу о переселении душ, то станет ясно, что это учение отражает все ту же действительность, но только в преувеличенном виде. Главную загадочность жизни, особенно всего, что собрано в душе (тот факт, что каждое существо ежеминутно иное и постоянно все то же), оно, в сущности, только как бы растягивает удалением друг от друга отдельных моментов жизни. Если же рассматривать то же отношение с точки зрения веры в переселение душ, то мы должны будем в каждой жизни видеть аббревиатуру по бесконечности времен и форм разлившейся души; так, индивидуальная жизнь не раз рассматривалась как явление жизни родовой, и каждый новый день, во всех созвучиях счастья и страдания, во всех переливах силы и слабости, заполненности и пустоты часов, во всей его смене творчества и восприятия, – как миниатюра целостной жизни. Все тела, сквозь которые проходит душа, являются, таким образом, только материализациями тех состояний, которые она сама создает и претерпевает; так, мытарства теней в аду Данте являются как бы образами мук, которые душа пережила во время своего земного существования. Судьба души между отдельным рождением и отдельною смертью и ее же судьба между первым рождением и последнею смертью, которая устанавливает учение о переселении душ, взаимно символизируют друг друга.
Такое понимание мифа вскрывает, как его глубочайший смысл, уничтожение абсолютности жизни и смерти в пользу относительности той и другой. Суровая и ни в каком высшем синтезе не снимаемая противоположность жизни и смерти заменяется сплошным, единообразным, бесконечным бытием, в которой жизнь и смерть, являясь друг для друга началом и концом, сплетаются, как звенья единой цепи; причем смерть постоянно отделяет бытие, оформляет его и переводит к новой жизни. Современному человеку учение о переселении душ представляется, конечно, прежде всего крайним парадоксом и дикой фантастикой. Но если мы все же находим его приверженцев среди народов, стоящих высоко в своем развитии, и среди выдающихся людей нашей культуры, то это говорит за то, что, несмотря на всю свою причудливую и ненаучную форму, это учение инстинктивно скрывает в себе углубленное представление о сущности жизни. Если бы к этой сфере инстинктивно уловленному можно бы было отнести и отмеченную нами в конце символику, то мы могли бы вернуться к тем мыслям, с которых начали нашу статью. Если бесконечное умирание и бесконечное возникновение в новых формах есть, с одной стороны, назначение души, а с другой – символ индивидуальной жизни, отдельные моменты которой как бы растянуты до самостоятельных существований, – то смерть является погруженной во все эти части жизни совершенно в том же смысле, в каком это вскрыло и наше начальное, хотя и совершенно иначе ориентированное рассуждение. Если формы существования вечно странствующей души соответствуют дням и минутам каждого отдельного периода существования, то смерть как граница и форма, как элемент и определенная сила присуща каждому дню и каждой минуте в том смысле, в каком она определяет и расчленяет ритм и оформление всего жизненного потока. В грубой и, так сказать, материалистической форме учение о переселении душ преодолевает представление о смерти как о перерезывании нити жизни парками совершенно в тех же двух направлениях, которые совершенно независимо от него были вскрыты и нами: оно, с одной стороны, уничтожает абсолютность смерти в жизни тем, что абсолютизирует жизнь как некое целое, конкретизированное отдельной жизнью и соответствующей ей смертью как началами относительными, а с другой стороны, погружает смерть в поток жизни как символ того, что жизнь, так сказать, каждую минуту преодолевает цезуру смерти, которая, являясь положительным моментом жизни, постоянно пронизывает и оформляет ее. Подобно грубым символам, в которых примитивные народы предвосхищают глубочайшие метафизические идеи последующего духовного развития, и учение о переселении душ учит тому, что нужен всего один только шаг, чтобы постичь смерть как элемент жизни и чтобы преодолеть ее; учит тому, что смерть существовала до того момента, когда парки перерезали нить, и что жизнь будет существовать и после него.
1910
В. Н. Топоров. Об одном специфическом повороте проблемы авторства
Уже само выдвижение темы авторства в качестве предмета обсуждения предполагает, очевидно, как минимум некоторые сложности, неясности, нерешенности этой темы, с одной стороны, и, с другой, проблемность темы авторства, то есть насущную потребность и заинтересованность в получении такого ответа на вопрос, который позволил бы не только представить «авторство» как важный культурно-исторический феномен универсального значения, но и открыть в нем самом некий пока еще остающийся тайным нерв, определяющий интенсивно суть самого явления и отсылающий к тому исходному и более широкому контексту, в котором возникла проблема авторства.
Как бы то ни было, эта проблема, если и ясна, то только на некоем среднем уровне как результат «конвенции», заключенной (или предполагаемой) явно или неявно в данной культурно-исторической, социальной, правовой и т. п. ситуации. Приблизительно то же может быть сказано и о принципиальном несовершенстве установлений об авторском праве и об ущербности этических оценок статуса автора. Несмотря на многочисленные труды по проблеме авторства, сама фигура автора, составляющая суть проблемы, остается не только слишком жестко связанной с конкретными обстоятельствами, со сферами права и морали, но и чем-то эмпирически-усредненным и приблизительным, тем среднестатистическим типом, который стоит между проблемой и ее исследователем, мешая ему непредвзято приблизиться к ней. Но если такая «практическая» типология авторства и авторских ситуаций, фиксируемая соответствующими официальными установлениями или «общим» мнением, все-таки существует, то типология, выстраиваемая sub specie потенциальных ситуаций, в которых может оказаться автор (то есть некое «логическое» исчисление их), остается неразработанной. То же, но, видимо, с еще большими основаниями, можно сказать и о генетической и культурно-исторической перспективе проблемы автора и авторства, хотя данные самого языка (по крайней мере, для «европейского» зона, начавшегося более двух тысячелетий тому назад) недвусмысленно отсылают к своему прошлому, к своим мифоритуальным «первоначалам».
[В «европейском», соответственно – «евро-американском» культурном круге для обозначения автора, вне всякой конкуренции выступает слово, восходящее к лат. auctor (характерно, что ориентация была сделана именно на латинское слово, а, например, не на древне-греческое и т. п.), достаточно многозначному. Помимо автора как писателя (ср. у Цицерона auctor rerum Romanarum; legere auctorem; bonus auctor latinitatis или versus sine auctore. Suet., auctorem esse «повествовать», «авторствовать». Тас., Suet, и т. п.) лат. auctor обозначает творца, создателя, основателя (auctor urbis Verg.); родителя, родоначальника (auctor gentis, generis originis); дарителя, наделителя; поддерживателя, помощника, поборника, сторонника; вдохновителя, инициатора, руководителя; знатока-авторитета, откуда вытекают и «юридические» употребления слова – «судья», «поручитель», «свидетель», «опекун», «гарант», «представитель-агент» и т. п. Эта многозначность недвусмысленно отсылает к идее творения-созидания, порождения, власти-присвоения, долга-обязанности, гарантии-ручательства и т. п., ср. лат. auctoritas с сильным развитием «юридических» смыслов, в частности, связанных с правом собственности, владения, ср. auctoritas aeterna; lex auctoritatem fundi jubet esse. Cic. и т. п. Этот набор значений определяет типичные функции демиурга, как бы продолженные до уровня их юридической фиксации, и вводит исследователя в ситуацию акта творения, в атмосферу сакральности, сопровождающую творение (ср. augustus как «священный», глубинно-«возрастающе-возвышенный» ср. augeo). Творение, космос в архаичных мифопоэтических традициях возникает из узости (ср. др. – инд. amhas) – тесноты хаоса путем дифференциации его стихии и расширения, распространения, увеличения «пред-космического» ядра, «зародыша» космоса, его широких, открытых, свободных пространств. Из локуса первотворения «космизированная». Вселенная раздвигалась во все стороны по горизонтали, но и по вертикали (все символы «центра» первотворения растут-возрастают – мировое древо, столп, гора, сакральное сооружение, трон и т. п.), и примеры этого достаточно хорошо известны. Лат. augeo «расти-возрастать», «расширять», «увеличивать», «(при) умножить», но и «усиливать», «укреплять» и даже «оплодотворять» (ср. terram imbrihus. Cic), лежащее в основе слова auctor, тем самым оказывается глаголом творения, как и и. – евр. *aug-: *aueg-: *ueg-: *uog-: *ug-, ср. лит. dugti, гот. аикап, др. – исл. аика, др. – инд. vaks, авест. vaxs-, нем. wachsen и др. Эту мифо-поэтическую и ритуальную перспективу (и мифы, и ритуалы, так или иначе «разыгрывающие» тему первотворения, усиленно подчеркивают мотив расширения-возрастания, усиления-укрепления как «ингерентное» свойство демиурга), несомненно, нужно иметь в виду и тогда, когда речь заходит о той трансформации демиурга «первых времен», которая родила «автора» сего времени. А следовательно, необходимо помнить и о преемстве «автором» ряда существенных черт демиурга – его суверенности и верховенства (власть – обладание), самодостаточности, интенциональности творчества – «авторства», включая – на некоем высшем уровне – и право прсвоения «чужого» или отказа от «своего». В этом смысле проблема авторства гораздо шире и глубже того, что под нею обычно понимается. Она – о границах и способах присваивания и отчуждения творения и о конфликте между свободной и самодовлеющей волей «автора» и ограничениями, выдвигаемыми «пользователями-потребителями» творения «автора». Более того, «решение» проблемы авторства предполагает отбрасывание – «редукцию» всех эмпирически случайных моментов и прорыв к некоей «чистой форме» акта редукции, к тому (по Гуссерлю) тотальному горизонту знания о явлении, который никогда не последний, но всегда открыт для выявления в нем новых смыслов. Само же осмысление неотделимо от интенциональности как свойства сознания быть «направленным» и быть сознанием чего-то. Эта категория сознания не может оставаться в пренебрежении и при анализе «подвижного», всегда in statu nascendi, понятия «авторства»].
Здесь пойдет речь об одном «странном» случае, связанном со священником церкви Николы в Кленниках на Маросейке, отцом Алексеем Мечевым. Об этом простом и скромном пастыре, «разгрузчике чужой скорби и горя», полагающемся на сердце и «милующую любовь», в нем пребывающую, человеке «духоносной свободы», «старце в миру» писали многим обязанные ему лично Бердяев, Флоренский, Дурылин, пастыри и пасомые (прежде всего Александра Ярмолович), и поэтому нет необходимости повторять то, что известно о нем. Пожалуй, здесь уместно напомнить только о том религиозно-психологическом типе, который он являл собою. Отец Алексей был не только «прост и скромен» и не только носил в себе высокие, «состоянию святости сопричастные дары» (среди них и дар прозрения). На должной своей глубине этот тип уже как бы по условию не мог быть простым и даже скромным, как склонны были определять отца Алексея при поверхностном взгляде. Ибо он не был параллелен миру («вдоль-мирен»), но был ему, по сравнению Флоренского, почти совпадающему с terminus technicus, «перпендикулярен» («поперек-мирен»). Черты юродства, несомненно, были отцу Алексею свойственны, а юродство всегда не самое простое и не самое прямое отношение человека к миру, и даже святость не «пререкает» того, что задано в юродивости. Эта «перпендикулярная» миру юродивость имеет отношение к дальнейшему, но не исчерпывает его, а только позволяет обнаружить главное в той специфической форме, которая была избрана отцом Алексеем.
Когда отец Алексей умер (9 июня 1923 г.), на столике около его кровати была обнаружена рукопись, написанная его рукой и подписанная буквою А (текст был написан на бумаге, которую ему выдали за несколько дней до кончины в Верее, куда он отправился на покой, умирать; отец Алексей был неизлечимо болен, ждал кончины и, более того, знал ее сроки). Рукопись была обнаружена сразу же после смерти сыном усопшего Сергеем, тоже священником. Правы те, кто рассматривает эту рукопись как духовное завещание и соответственно этому оценивает ее. «Дне тайны – тайна духовной жизни и тайна духовной кончины – выразительно показаны этими предсмертными строками, – писал Флоренский по горячим следам (его статья завершается датой – 23 августа 1923 г.). – Но, как всегда бывает с тайнами, они столь же открыты, как и закрыты, сделаны доступными одним, чтобы избежать взора тех, кто все равно не понял бы открываемого».
Приехав в Верею, отец Алексей объявил местному священнику, что он приехал умирать. Было известно, что несколько дней до неизбежно скорой кончины будут посвящены составлению духовного завещания. В анонимном свидетельстве цель завещания определялась довольно неожиданно – «чтобы не говорили, а прочли бы то, что он написал». Написанным оказался текст, опубликованный под названием «Надгробное слово, составленное о. Алексеем перед своей кончиной», и это тоже было неожиданным. Но неожиданность формы завещания как жанра надгробного слова – ничто перед неожиданностью содержания и «направленностью» этого слова. Выборочные фрагменты из него помогут представить целое:
«Батюшки о. Алексея нет больше, хотя и теперь привлек сюда эти многочисленные толпы он же, но только затем, чтобы проститься с ним навсегда. Он во гробе. И сие – великое страшное событие. Это потеря всеобщая, потеря невознаградимая! Те замечательные глаза, оживлявшие почти совсем омертвевшее тело, в которых всегда светился огонек неба, так действовавший на сердца человеческие, лучи которого будто проникали самую глубь души собеседника и читали там, как на бумаге, опись прошлого и настоящего, – эти глаза померкли и закрылись мертвенной печатью. Уж больше им не проницать души человеческой. Те учительные уста, сильные не убедительными человеческой мудрости словами, но явлениями духа […], сильнейшей любви к ближнему […] теперь замкнулись навсегда. Уже больше не услышим мы благословения батюшки; уже больше не раздастся его святая речь […]. Увы! Дорогого о. Алексея не стало. Плачьте все духовные его дети […]. Вы лишились в о. Алексее великого печальника, любившего вас всею силою христианской любви, отдавшего вам всю жизнь и, можно сказать, принесшего вам ее в жертву.
Подойдите к этому гробу и поучитесь у лежащего в нем, как вам жить по-христиански, no-Божьи в юдоли мира […]. Итак, забывающий Бога христианский мир! Приди сюда и посмотри: как нужно устроить свою жизнь. Опомнись! Оставь мирскую суету и познай, что на земле нужно жить только для неба. Вот пред тобой человек, который при жизни был знаем многими, а по смерти удостоился таких искренних слез и воздыханий. А отчего? В чем его слава? Единственно только в том, что он умел жить по-Божьи… Не думай, что жить на земле только для Бога – нельзя. Се гроб, который обличает тебя. В чем – вы спросите – смысл такой жизни? В одном: в полном умерщвлении всякого самолюбия [курсив наш. – В. Т. ]. Что у него было для себя? Ничего. С утра до вечера он жил только на пользу ближних. […] Он жил жизнью других, радовался и печаловался радостями и печалями ближнего. У него, можно сказать, не было своей личной жизни […].
Придите, наконец, ко гробу сего великого пастыря […] и научитесь от него пастырствовать в мире. […] Тут всякий, кто только ни приходил к нему, кто ни открывал ему своей души, всякий становился сыном многолюдной его паствы. […] Страдавшим казалось, что он будто сам облегчает их скорби и печали душевные, как бы беря их на себя. Кроме личного благочестия, о. А. имел ту высочайшую любовь христианскую, которая долго терпит, милосердствует […] и сорадуется истине […] Это та любовь, не знавшая никакого самолюбия, о которой засвидетельствуют все, кто знал почившего, любовь, которая заставляла его сливаться своей пастырской душой с пасомыми, она-то и давала ему такую силу в области их совести […]
Итак, придите все, целуйте его последним целованием и берите каждый, чья душа сколько может. Смотрите больше на этого человека, пока его духовный образ ввиду этого гроба еще живо предносится нашему взору […] Вся ему прости, яко Ты благ еси и Человеколюбец. Аминь!»
Неожиданности на этом не оканчиваются. Десятилетия спустя Н. А. Струве установил, что предсмертное слово принадлежит не о. Алексею, а заимствовано им, с большими сокращениями и приспособлением pro domo sua, из слова иеромонаха Григория Борисоглебского перед чином погребения Оптинского старца Амвросия (13. 10. 1870), которое само, с соответствующими изменениями, следовало предшествующим ему образцам, более или менее естественно коренящимся в самой жанровой структуре надгробного слова в русской православной традиции. Однако связь текста о. Алексея именно с текстом Григория Борисоглебского вне сомнений (нужно подчеркнуть, что Флоренский не знал об источнике текста о. Алексея, но, как подчеркивает Струве, «духовная проблема, поставленная наличием слова […], остается, и размышления о. Павла Флоренского сохраняют всю свою силу»).
В более глубоком смысле – и это нужно подчеркнуть особо – проблема авторства в данном случае или вообще не важна, ил» же должна решаться именно в пользу отца Алексея. В практическом плане более существенными оказываются иные вещи (так, нет уверенности, что заглавие надгробного слова принадлежит самому тексту, а не его публикатору или «первозаписавшему» его; неизвестно, является ли опубликованная рукопись той, которую держал Флоренский и т. п.). Однако мысль так или иначе вынуждена обращаться к самому о. Алексею как предмету обсуждаемого слова. Уже то, что и автор этого слова, и тот, ради которого оно было составлено, обозначаются одинаково – о. А., – отсылает не к простой небрежности, но к некоей преднамеренности, к своего рода знаку – sapienti sat! Идя еще дальше, можно высказать предположение, что о. Алексей вообще «снял» для себя вопрос об авторстве, считая его сферой непреодоленного Я. Во всяком случае «Надгробное слово, оставленное о. Алексеем» этим оставленное выводит о. Алексея из-под подозрений в плагиате, потому что он может пониматься как «ни автор, ни неавтор» или «столь же автор, сколь и не-автор». Весьма правдоподобно, что именно так и смотрел на это сам о. Алексей. В известном отношении это соответствовало бы тенденции к анонимности (как в отношении своего, так и чужого авторства), свойственной старой духовной традиции на Руси. Но и анонимность слова не все объясняет; к тому же текст написан рукой о. Алексея, оставлен там, где мог это сделать именно он; наконец, в рукописи нет никаких следов «укрывания» творца этого слова и его «предмета». Тем не менее «странности» в тексте несомненны, и для того чтобы понять их как естественность, нужно довериться тексту и избрать в проводники по нему самого о. Алексея с оглядкой на его духовную структуру и его психологический тип. Рассмотрение этих особенностей, здесь опускаемое, как и порубежность самой ситуации прощания, последнего целования, когда все смыслы напрягаются и обостряются, а многое как бы выворачивается наизнанку, вносит оттенок «нездешнести», парадоксальности, и в итоге создается та атмосфера живого обряда, при которой открывается новое видение казалось бы привычного (единственный известный образец этого жанра у о. Алексея «Надгробная речь памяти О. Иннокентия» многое объясняет и в типе и в стилистике его слова о самом себе).
Отец Алексей не отвращал взора от гроба – даже своего собственного – и умел «смотреть прямо» в лицо усопшего, даже если им был он сам. Он знал: «что ныне ему, то завтра каждому из нас» и за этим нас, «перволично-обобщающим» вариантом Кая смертного, стояло и его индивидуальное Я. Но при этом ему было дано еще не просто знание, но и про-видение этого «завтра» и его кануна, в частности и, может быть, в особенности, когда это относилось к нему самому. Срок своей жизни и час кончины не был секретом для о. Алексея, и подготовиться к смерти было для него естественным, но неестественной, более того, парадоксальной была избранная им форма, «перпендикулярная» к обычаю, норме, самому миру. Флоренский проницательно увидел главное для о. Алексея в этой ситуации. «Прилично жить и прилично умереть» – таково требование мирское. Но духовному требуется не приличие, а соблюдение закона в существе его, а соблюсти в существе – нередко значит – нарушить по букве. Юродивым мирское приличие постоянно нарушается. И было бы странным, если бы о. Алексей, не быв в жизни приличным, оказался бы таковым в кончине […]. Мог ли тот, кто жил поперек мира, не поступить наоборот? Своим последним словом он показал, что не признает за миром права суда, ибо «духовное судит только духовный». Мир ждал повода к похвале, но о. Алексей пресек эту возможность и сам сказал о себе, или, точнее, об о. Алексее то, что услышал в ином мире, которому принадлежит и суд и похвала…». Было бы, однако, ошибочно думать, что «пресекая» возможность похвалы со стороны мира, о. Алексей действовал только или даже по преимуществу в силу установки на «перпендикулярность» в отношении к «пресекаемым». Более того, о. Алексей, похоже, подозревал, что главное могут свести к этой «перпендикулярности», и все-таки он не отказался именно от такой им избранной формы надгробного слова. Главное, кажется, было в тех императивах, которые возникли в глубине его личности. В «Надгробном слове» себе самому он, кажется, видел последний смысл и самый радикальный из имевшихся в его распоряжении способ преодоления своего Я, изживания и опустошения «личного», отречения от него во имя того, что больше его. Механизм прибытка при этом «преодолении» в принципе тот же, что и при жертвоприношении, сопровождаемом аскетическим ограничением, умалением, отказом и сознанием своей духовной потребности в этом.
Говорят: «Слово – серебро, молчание – золото», но все ли отдают себе отчет в том, что есть два молчания – до слова и после него? Золотым можно назвать только последнее, и золотое оно не только потому, что это – преодоление слова, но и потому, что, преодолев слово, молчание как бы отпечатывает в себе тень этого слова, без которой оно было бы «пустым» или в лучшем случае медным. «Золотое» же молчание предполагает «прибыточный» переход от «плюс-слова» к такому «минус-слову», которое, включая в себя всю глубину слова, все-таки больше, чем оно. Та же ситуация и с преодолением Я: здесь не спуск от Я в долы без-личного, но, напротив, тот подъем на высоты «транс-эготического», при котором преодолеваются все соблазны переоценки Я и преодолевается само Я как полноценная личность и ее знак, на память об этом Я и о связи с ним нового «ан-эготического» состояния сохраняется.
Разумеется, феномен «Надгробного слова» может иметь и более сильное объяснение, которое и было предложено Флоренским и отчасти даже подтверждено другим свидетельством. «Увидеть Бога, – писал он, – это значит перенести свое «я» из ветхого Адама, из организма своей самости, в абсолютную истину… Умереть для мира – означает великую тайну, которой нам, не умершим не понять, но которую мы должны твердо запомнить, что она существует. Можно оставаться среди людей и делать вместе с ними дела жизни, но быть мертвым для мира и руководить деятельностью своего тела, находясь уже не в нем, а со стороны, из горнего мира». Далее развивается эта идея «прижизненной» смерти: «В своем слове подписавшийся инициалом А. описывает о. А. лежащим в гробе. Это – не общая мысль о своей смерти – в высшей степени наглядный образ, в котором каждая черта живет непосредственным созерцанием… Единственное, что можно счесть в данном случае источником, – это видение, представшее внутреннему взору о. Алексея и заставившее его написать им написанное…, может быть, даже вопреки привычкам характера. В этом видении, как, вероятно, и вообще в последнее время своего пребывания на земле, о. Алексей настолько перенес свое «я» в другой мир, что о том «старике», который лежал в постели, уже не мог мыслить как о «я» или о чем-то близком к «я». Автор настаивал на том, что смерть отца Алексея для мира не метафорический способ выражения, что «не только в смысле нравственном он умер для мира, но и физическое тело его совершенно омертвело и казалось не живым». Познакомившись с мнением Флоренского, сын о. Алексея о. Сергий поведал о выхождении его, происшедшем за два-три дня до кончины отца. Об этом выхождении успел рассказать и сам о. Алексей: внезапно он увидел себя гуляющим в саду и крайне удивился, увидев свое тело лежащим на кровати как мертвое.
Разумеется, эти предположения заслуживают внимания, а свидетельства – доверия, хотя, строго говоря, сами мотивировки написания надгробного слова и именно такого, каким оно было написано, не нуждаются с непременностью в столь сильных предположениях. Существуют многочисленные и разнообразные свидетельства тому, что в определенных условиях и в филогенезе и в онтогенезе резко возрастает тенденция смотреть вперед, то есть про-зревать, преодолевать преграды на пути взгляда, наконец, предвидеть (в широком плане Homo sapiens отличался от других антропоидов именно быстрым возрастанием способности приспособления к будущим событиям; вместе с тем показательно, что детям идея будущего дается легче, чем идея прошлого), что, вероятно, может быть связано с первоначальностью «эвокативной» в будущее направленной речи, которая лишь в процессе формирования связной памяти уступила первенство «дескриптивной» речи, овладевшей сферой прошлого (ср. Дж. Уитроу). Немало свидетельств о случаях преодоления Я (и тоже в особых обстоятельствах) и об отказе в связи с этим от пользования перволичной формой (как и в случае «Надгробного слова» о. Алексея) – от многочисленных примеров an-tma-vda до преподобного Пафнутия Боровского: как и о. Алексей, он заранее узнал о дне своей кончины (сразу же сообщив об этом своему ученику Иннокентию) и с этого момента полностью отказался от пользования перволичной формой.
Случай о. Алексея лишь по внешней форме, выбранной им самим, выглядит иным: он связан как бы с присвоением себе чужого Я («авторского»), если угодно, не с плагиатом чужого текста или не только с ним (если подходить к вопросу формально и помещать это событие в непредназначенный для него контекст), но и со своего рода подменой автора текста собою. Отец Алексей Мечев «присвоил» себе некий текст, составленный другим по другому случаю, хотя и в сходной ситуации, и обратил к тому же этот текст на самого себя («авторефлексия»), создав тем самым некий парадоксальный казус. Тем не менее религиозный (в частности, профетический) опыт говорит, что «мечевский» случай один из многих вариантов такого нарушения «авторского права», который не является преступлением, во-первых, и, во-вторых, не имеет своей специальной целью сокрытие авторства (хотя раскрытие его также может не входить в задачу «присваивающего», как в случае о. Алексея. И дело тут вовсе не в том, что понятия «авторства» и «авторских прав» весьма изменчивы и вообще относительны, а скорее в тех границах, которые ставятся «присваивающим» между собою и другим, «подлинным» автором, и соответственно в уровне «медиумичности», определяющем степень внутренней конгруэнтности «присваивающего» и «подлинного» автора. Между нормой, принятой в цивилизованном обществе наших дней, и ситуацией о. Алексея – широчайший спектр промежуточных возможностей (одна из них – «присвоение» в ряде случае пророком Иеремией Я, принадлежащего Ягве, то есть по видимости кощунственное вытеснение Бога, захват его Я; впрочем, можно думать и о другом варианте объяснения: Я Иеремии для придания ему максимальной значимости как бы передается Ягве, влагается в его уста; психологически здесь и сейчас произносимое воспринимается как Божье слово, как явление его Я, но – и это самое важное – и слово Божье и «личность» Бога онтологичны; то же, что «эмпирически-телесно» произносит это Иеремия, вторично и само по себе вне онтологии).
Жизнь по закону Я, открывшему новый эон, связанный с становлением личности, таит в себе серьезные опасности, ибо Я, действительно, «связывает» и часто отрицательным образом. Закон Я, если он не помещен в более широкий контекст и в нем не узревается то, что содержит в себе семя освобождения, создает тот Я-ориентированный и этим самым Я-оправдываемый мир, который более всего и превращает жизнь человека в ловушку, в фрагмент дурной бесконечности. Но закон Я компенсирует (хотя бы отчасти и даже условно) свое общее несовершенство выдвижением системы моральных правил, которые в пределах этого «Я-законного» мира могут оказаться и полезными. Однако эти моральные правила нередко как раз и дают миру основание рассматривать поведение-позицию о. Алексея, отраженную в его надгробном слове, как «неправильную», «нескромную», ошибочную. При этом, кажется, не осознается, что у него были еще большие основания выступать именно против этих правил, против попыток утвердить их не просто как форму и условность, но и как положительное содержание. Это и отражено в надгробном слове о. Алексея; пафос слова в значительной степени разоблачительный: за высокой оценкой самого себя угадывается раскрытие-разоблачение морали, от которой «ни горячо и ни холодно». В своем слове о. Алексей, по сути дела, не просто негативно-разрушителен к миру «принятого» и «приличного», к миру, в котором живут по закону Я и по правилам, требующим не афишировать это Я, но и – хотя и парадоксальным образом – положительно созидателен, потому что он открывает миру и людям, в нем живущим, истинные ценности жизни, восстанавливающие сам этот мир из руин Я-разъединяющего состояния и возвращающие дар прямого и подлинного взгляда на мир, взгляда, который не различает Я от не-Я. Если такое понимание ситуации верно, то оно вносит новые элементы и в самую суть проблемы авторства в случае «Надгробного слова» о. Алексея. Когда жало Я вырвано (или, как сказал бы Будда, когда элементы бытия, дхармы, лишены души, Я), когда сами знаки личности потерпели девальвацию (включая имя, текст и индивидуальный стиль как сферу проявления знаков «личного»), когда преодолено чувство владения-обладания, – тогда проблема авторства или вообще снимается, или приобретает существенно иной вид: говоря весьма огрубленно, проблема авторства-неавторства о. Алексея в отношении «Надгробного слова» оказывается иррелевантной, и оба, казалось бы, взаимоисключающие заключения – о. Алексей – автор и о. Алексей – не автор – равно верны или равно неверны, и сам критерий «верности-неверности» в этом случае лишен существенности, онтологичности. Тем не менее едва ли можно остаться безразличным к тому, как о. Алексей снимает самое проблему авторства: сочетание видимого на поверхности захвата-присвоения чужого (как бы расширение Я и его сферы) и глубинной анонимности, преодоления своего Я, его знаков, его присваивающих актов таково, что, с одной стороны, снимает с о. Алексея обвинение в плагиате, а с другой, не делает его «автором» в том смысле, который выступает как главный при решении проблемы авторства.
Было бы ошибкой не замечать, что ситуация отца Алексея Мечева в тех или иных формах все чаще обнаруживает себя в литературе XX века. Господин Тэст, универсальный ум, осознавший свою анонимность, более того, гений анонимности, воплощенное абсолютное сознание и чистая потенциальность, лишен признаков и атрибутов и, следовательно, лишен личности, Я. Он принципиально не может быть «автором»: действия ему не свойственны, всякого конкретного воплощения он избегает. Если бы он был писателем-автором, он вынужден был бы расстаться с литературой, как и задумывал это сделать «частичный» двойник господина Тэста, его автор. Но и в сфере «воплощенности» ситуация в художественной литературе наших дней обнаруживает тектонический сдвиг по сравнению с XIX веком в том, что касается проблемы авторства, плагиата, необъявленных присвоений, интертекстуальных агрессий. Носам этот сдвиг на поверхности смягчается новой мерой возможного в литературе и новым литературным этикетом. Во всяком случае проблема авторства, если ожидать ее корректного решения применительно к современному состоянию, должна иметь свою теорию, которая была бы способна упреждать завтрашний день в развитии этой проблемы. Наконец, в свете известного положения Юнга, согласно которому не Гете создал «Фауста», а душевный компонент «Фауста» создал личность Гете, проблема авторства открывает еще один неожиданный ракурс, который мог бы стать предметом исследования в «мета-литературоведении».
1993
Комментарий
В этом разделе обобщаются три типа информации: биография автора; перечень его основных сочинений; литература о нём; комментарий неясных мест, исторических реалий, расшифровка цитатного ряда, перевод иноязычных выражений.
Мы не стремились к симметричному соотнесению объемов авторского и комментирующего текстов, исходя из меры сложности вошедших в Антологию сочинений.
М. М. Щербатов
Щербатов Михаил Михайлович (1733–1790) – русский социолог-утопист, философ, экономист, историк, писатель, переводчик, один из основоположников обличительной потаенной литературы в России.
Князь, сын М. Ю. Щербатова, сподвижника Петра I. Вышел в отставку капитаном Семеновского полка в 1762 г. Депутат Комиссии по составлению Нового Уложения (1767–1768), защитник дворянских привилегий. С 1768 г. служит в Комиссии по коммерции, с 1771 г. занимается по службе генеалогией и геральдикой. В 1773 г. – действительный камергер, с 1775 заведует секретным делопроизводством по Военному Совету. С начала 1778 г. – тайный советник, Президент Камер-коллегии. Печататься нчал с 1759 г. Центральное сочинение – памфлет «О повреждении нравов в России» (1786–1787), полностью опубликованный впервые А. И. Герценом в Лондоне, в 1858 г. Как писатель-утопист, М. М. Щербатов известен «Путешествием в землю Офирскую г-на С…, шведского дворянина» (1786). Как историк – восемнадцатью книгами «Истории Российской с древнейших времен», которую М. Щербатов издавал с 1770 г. (доведена до 1610 г.; напечатано семь томов). Философ и богослов-моралист, М. Щербатов издал ряд трактатов: «Размышление о самстве» (то есть эгоизме), «Рассмотрение о жизни человеческой», «Разговор о бессмертии души», 1788; «Размышление о смертном часе», 1788. Кроме того, М. Щербатов – автор экономических трактатов, писал басни, оды, сатиры, лирические стихи, перевел «Страшный суд» Э. Юнга.
Соч.: Сочинения. Т. 1–2 / Ред. Н. П. Хрущова и А. Г. Воронова; Изд. кн. Б. С. Щербатова. СПб., 1896–1898; История Российская… Т. 1–7 (Ч. 1– 15). М., 1770–1791 (переизд. 1901–1904); Неизданные сочинения. М., 1935; Разговор между двух людей о любви к Отечеству // Ученые зап. ЛГУ. Серия Филология. Л., 1968. Вып. 72. С. 203–207; Мысли о душе: Метафизика XVIII в. / Подг. текста, вступ. ст. Т. В. Артемьевой. СПб., 1996. С. 255–290; «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева (факсимиле издания 1858 г. в Вольной Русской типографии А. И. Герцена и Н. П. Огарева). М., 1983. Прошение Москвы о забвении ее // Москва-Петербург / Сост., вступ. ст., комм., библиогр. К. Г. Исупова. М., 2000.
Лит.: Пыпин А. Н. Полузабытый писатель XVIII в. // Вестник Европы. СПб., 1896. № 11. С. 264–305; Чечулин Н. Русский социальный роман XVIII в. СПб., 1900; Кизеветтер А. А. Русская утопия XVIII в. // Помощь евреям, пострадавшим от неурожая. СПб., 1911. С. 231–246; Федосов И. А. Из истории русской общественной мысли XVIII в.: (М. М. Щербатов). М., 1967; Артемьева Т. В. 1) Михаил Щербатов. СПб., 1994; 2) Идея истории в России XVIII в. СПб., 1998. С. 79–93, 220; Исупов К. Г. «Прошение Москвы о забвении ея» кн. М. М. Щербатова в истории московско-петербургского диалога // Акад. В. М. Истрин: К 125-летию со дня рождения ученого-филолога. Тезисы докладов. Одесса, 1990; Артемьева Т. В. Новая Атлантида М. Щербатова // Вопросы философии, М., 2000. № 10. С. 104–108 (вступ. ст. к публикации: Щербатов М. М. Путешествие в страны истинных наук и тщетного учения); Рустам-Заде З. П. Жизнь и творчество М. Щербатова. СПб., 2000.
Размышление о смертном часе (1788)
Печатается по изд.: Щербатов М. М. Соч. СПб., 1898. Т. II. С. 295–308.
1. «Боергав в своей химии…» – Бургаве Герман (1668–1738) – нидерландский врач, ботаник и химик, иностранный член Лондонского Королевского общества с 1730 г. Учился в Лейдене, где защитил диссертацию на степень доктора философии, в 1693 г. получил степень доктора медицины, с 1709 г. – профессор Лейденского университета. Его сочинение «Основания химии» (1732), в котором систематизировал химические знания того времени, было широко распространено в качестве учебника. См. о нем: Погодин С. А., Раскин Н. М. Герман Бургаве // Химия и жизнь. М., 1969. № 11.
Разговор о бессмертии души (1788)
Печатается по изд.: Щербатов М. М., кн. Соч. СПб., 1899. Т. II. Стлб. 309–358.
1. Платон (428 или 427–348 или 347 до н. э.) – древнегреческий философ, ученик Сократа, основал в Афинах школу, просуществовавшую более девяти веков (ок. 387 г. до н. э. – 529). Учил о бессмертии души, о небесном Эросе как высшей страсти к познанию, к духовному восхождению. Познание есть анамнезис – припоминание того, что душа видела до своего соединения с телом, припоминание идей, виденных душой в «умном месте». Из написанных им диалогов наиболее значительны «Пир», «Федр», «Федон», «Государство», «Законы», «Апология Сократа», «Теэтет», «Парменид», «Софист», «Тимей». Соч. М., 1968–1972. Т. 1–3.
2. Сократ (470/469 – 399 до н. э.) – древнегреческий мыслитель. См.: Лосев А. Ф. История античной эстетики: Софисты. Сократ. Платон. М., 1969.
3. Волынский Артемий Петрович (1689–1740) – русский государственный деятель. Происходил из древнего рода, примкнул к реформаторам. В 1704 г. зачислен солдатом в драгунский полк. На военной дипломатической службе находился до 1719 г., затем – губернатор в Астрахани до 1724 г., а с 1725 по 1730 г. (с перерывами) – казанский губернатор. Важное событие в его карьере – женитьба на двоюродной сестре Петра Великого Александре Львовне Нарышкиной; в 1722 г. царь доверил Волынскому возглавить поход в Персию (1722–1723). Военная неудача навлекла на него царский гнев и немилость. Во время своего губернаторства в Казани страсть Волынского к наживе, необузданный его нрав достигли своего апогея и вызвали учреждение над ним со стороны правительства особой опеки, «инквизиции». С 1738 г. – кабинет-министр, а в 1739 – единственный докладчик по делам кабинета. Вскоре в результате дворцовых интриг со стороны Бирона и своего главного противника Остермана Волынский навлек на себя недовольство императрицы Анны Иоанновны и был отставлен. По подозрению в казнокрадстве был арестован, а когда в его личном архиве обнаружили «генеральный проект» улучшения государственного правления в империи, Волынского обвинили в государственной измене. Его «конфиденты» – Хрущов, Еропкин и Соймонов под пыткой указали, что Волынский намеревался по смерти Анны Иоанновны занять императорский престол. Генеральное собрание, судившее Волынского и его сообщников, приговорило его «живым посадить на кол, предварительно вырвав ему язык, а его сообщников четвертовать, а затем отрубить им головы». 27 июня 1740 г. Волынский, Еропкин и Хрущов были казнены; похоронены они были на Выборгской стороне близ церковной ограды Сампсониевского храма. Новая русская императрица Елизавета, сменившая Анну Иоанновну, торжественно поклялась перед тем, как взойти на престол, «никого не казнить смертью». Она осуществила этот обет в своем указе от 17 мая 1744 г., фактически отменившем смертную казнь в России, и в продолжении 20 лет своего правления (1741–1761) Елизавета противостояла Сенату и Синоду в их попытках склонить ее к отказу от данного ею слова. Волынский известен как автор «рассуждений» – «О гражданстве», «Каким образом государем суд и милость иметь надобно» и др. См.: Корсаков Д. А. Артемий Петрович Волынский // Древняя и новая Россия. СПб., 1876. Кн. 1; 1887. Кн. 1–2; Городецкий Н. Н. Памятник на общей могиле Еропкина и Хрущова // Русская старина. СПб., 1886, № 6.
4. Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772) – курляндский дворянин, граф (1730), фаворит Анны Иоанновны, при дворе которой состоял с 1718 г. После ее смерти 17 октября 1740 г. стал регентом при несовершеннолетнем Иване VI Антоновиче. 9 ноября 1740 г. был арестован, обвинен в незаконной узурпации власти, лишен состояния и сослан. Петр III вернул его в Петербург, а Екатерина II восстановила его на курляндском герцогском престоле.
5. Хрущов Андрей Федорович (1691–1740) – русский государственный деятель, учился за границей, среди молодых людей, посланных Петром I, изучал в Голландии кораблестроение и мореходство. По возвращении был советником адмиралтейской конторы, а с 1734 г. сделался помощником B. Н. Татищева, заведовавшего горными заводами на Урале и в Сибири. Вернувшись в Петербург, Хрущов сблизился с Артемием Волынским, с кружком которого его объединяло отрицательное отношение к хозяйничанью в России чужестранцев и стремление увеличить политический вес и права среднего дворянства. Казнен вместе с Волынским и Еропкиным.
6. Фенелон Франсуа де Салиньян де Ламот (1661–1715) – французский писатель, выходец из аристократической семьи, с 1695 г. был архиепископом Камбре, в 1699 г. отлучен от церкви. Член французской академии с 1693 г. В 1689 г. был представлен ко двору и вскоре получил должность воспитателя внука Людовика XIV. Литературные труды Фенелона связаны с его педагогической деятельностью («Басни» и «Диалоги мертвых», прозаический перевод «Одиссеи» Гомера и др.). Главное произведение – «Приключения Телемака» (1699), философско-утопический роман, подражающий гомеровской «Одиссее». Заключенная в романе критика деспотизма, религиозной нетерпимости, завоевательных войн вызвала недовольство двора, и Фенелон был выслан в свою епархию в Камбре, где без выезда провел остатки жизни. На Фенелона неоднократно ссылался Лев Толстой в своем «Круге чтения». Первым переводчиком «Телемака» был А. Ф. Хрущов: Похождение Телемака, сына Улиссова, сочинено г. Фенелоном, учителем детей короля французского, бывшим потом архиепископом Кембрийским и князем Римской империи. СПб., 1747.
7. «…видя сии громады… превышний Творец всему сему» (ср. его же: «…видя такое устройство природы, не всё ли нам возвещает, что есть Высшее Естество» (С. 34); «…совершенствы же его изъявляют нам о его правосудии, а правосудие, в рассуждении светского обращения, <…> и бессмертие души» (Там же). Телеологическое доказательство бытия Божьего и бессмертия души было широко распространено в XVIII в., в России оно распространилось вместе с вольфианством, через физико-телеологические сочинения раннего Канта, а также в значительной мере через сочинения видных масонов: Л. К. Сен-Мартена, И. Арндта, И. В. Лопухина (см.: Сен-Мартен Л. К. О заблуждениях и истине. М., 1785. C. 207–215 и сл.). «Благоустройство Вселенной, – писал Лопухин, – и преудивительное создание человека не ясно ль показывают, что их сотворило существо разумное, само собой существующее» (Лопухин И. В. Масонские труды. М., 1790–1791. С. 10). Конечно, круг чтения Щербатова не ограничивался лишь этими именами, он был одним из наиболее образованных людей екатерининской эпохи, собрал большую личную библиотеку, включавшую по некоторым данным 15 тысяч томов. В молодые годы Щербатов переводил на русский язык сочинения П. Гольбаха, философическую поэму Александра Попа «О человеке», а также Фенелона, Вольтера, Ш. Монтескье, Д. Юма. Значительное место теологическое доказательство занимает в идеологической конструкции утопического романа Щербатова «Путешествие в землю офирскую». Вера офирцев «основана на одном видимом величии деяний Божиих… основание веры не от каких откровений или преданий происходит, но от самого размышления и очевидного зрения вещей» (Щербатов М. М. Соч.: В 2 т. СПб., 1898. Т. 1. С. 830). Более того, атеисты и богохульники наказуются в офирской земле «яко безумные; ибо кто не чувствует естества Божия по видимым ему тварям, тот инако как безумным считаться не может» (Там же. С. 811). Как считает А. И. Болдырев, Щербатов в своем «Путешествии…» предлагает «масонский» вариант «духовной» религии – без догматической ее кодификации, без авторитетов, преданий и священных писаний, фактически без богослужений и духовенства» (Болдырев А. И. Проблема человека в русской философии XVIII в. М., 1986. С. 69).
С другой стороны, то обстоятельство, что у Щербатова акцентируется «правосудность Творца» (Творец, который «во всем совершенен, а потому благ и правосуден»), обусловливает и интерес автора диалогов к судебным образам и метафорам (см. его «Разговор о бессмертии души»: «Но употребил я для изыскания истории нашего спасителя <…> образ судебный» (С. 36 и сл.). Следует отметить, что аргумент от «совершенного правосудия» справедливого воздаяния за гробом отсутствует в диалоге Платона, это инициировано христианскими представлениями, а также пробудившимся к новому времени интересом к естественному праву, специфическим «юридическим мировоззрением», укоренившимся в новоевропейской философии XVII–XVIII вв. (см. об этом: Соловьев Э. Ю. От теологического к юридическому мировоззрению // Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983).
8. Александр Македонский (356–323 гг. до н. э.) – царь Македонии с 336 г. до н. э. Сын царя Филиппа II, воспитывался Аристотелем. Разбив персов в сражении при Гранике (334), Иссе (333), Гавгамелах (331), подчинил себе царство Ахеменидов. Вторгся в Среднюю Азию (329), завоевал обширные земли до реки Инд, создав крупнейшую державу.