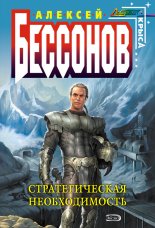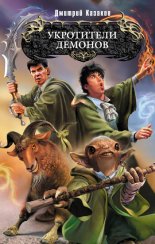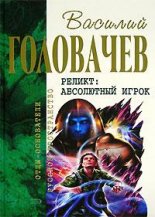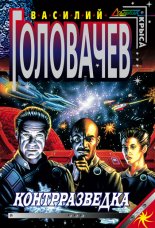Колокол по Хэму Симмонс Дэн
– С конца апреля Абвер и Шлегель пользуются „Геополитикой“ и антологией германской литературы, о которых вы упоминали, мой мальчик. Боюсь, произведение Ремарка здесь ни при чем.
– Почему же Кохлер возил его с собой? – спросил я.
Филлипс вернулся к своему креслу и запрыгнул в него:
– Может быть, он любил читать хорошие книги.
– На каких страницах искать ключ?
– В настоящий момент первой странице соответствует двадцатое апреля, тот самый день, когда немцы сменили шифры. С тех пор, насколько я знаю, изменений не производилось.
– В какой книге? – спросил я.
– Если не ошибаюсь, ключ к алфавитному шифру находится в „Геополитике“, а шифр „первого слова“ – в антологии, – ответил Филлипс.
Я кивнул, поставил опустевший бокал на приставной столик и двинулся к двери.
– Господин Лукас…
Я задержался у двери.
– Вы не догадываетесь, что означает двадцатое апреля?
– Это день рождения Адольфа Гитлера, – сказал я. – Вот уж не думал, что адмирал Канарис столь сентиментален.
Филлипс все еще улыбался.
– Мы тоже, господин Лукас. Мы подозреваем, что эту дату предложил наш приятель герр Шлегель. Именно он сентиментален, если не сказать – простодушен.
Я повернулся и шагнул вперед.
– Господин Лукас!
В коридоре было пусто. Я остановился в дверном проеме и посмотрел на маленького лысого человечка, который поднялся на ноги и стоял в прямоугольнике яркого света.
– Надеюсь, вы проявите великодушие, когда будете определять, какая информация может представлять интерес для нас.
– Я свяжусь с вами, – пообещал я и вышел.
Я сказал Хемингуэю, что мне требуется еще раз взглянуть на шифровальный блокнот и книги Кохлера. Хемингуэй метался по дому, завязывая галстук и готовясь к поездке в аэропорт, но все же открыл для меня сейф.
– Работать с ними во флигеле нельзя, – предупредил он. – Сегодня там ночует Фрау.
– Возьму их в „Первый сорт“, – сказал я.
– Только чтобы Дикарка не увидела, чем ты занимаешься.
Я изумленно посмотрел на Хемингуэя. Неужели он принимает меня за дурака?
– Да, кстати… Хельга и Тедди Шелл приедут раньше половины седьмого, – добавил писатель, натягивая льняной пиджак.
Геллхорн протиснулась мимо нас к выходу, велела шоферу поторопиться, потом повернулась к мужу и велела поторопиться и ему тоже, причем тем же тоном, каким она обращалась к слуге. Хемингуэй задержался у зеркала и провел пальцами по зачесанным назад волосам. Кем бы ни была загадочная Фрау, он явно стремился произвести на нее впечатление.
– До того как подадут коктейли, мы устроим у бассейна маленькую вечеринку, – сообщил Хемингуэй. – Хотя и там будет предостаточно напитков. Если у тебя есть плавки, захвати их с собой.
– Плавки?
Хемингуэй широко улыбнулся, показав все тридцать два зуба.
– Сегодня я говорил с Хельгой по телефону. Она очень обрадовалась, услышав, что у нас есть бассейн. Похоже, она совсем недавно узнала о том, что в заливе Гаваны водятся акулы… а она обожает плавать.
– Эрнест! – окликнула его Геллхорн из машины. – Ты не дал мне как следует наложить макияж, а теперь заставляешь меня ждать!
– Желаю успеха, – сказал Хемингуэй, протягивая мне блокнот и книги с таким видом, как будто только что о них вспомнил, и торопливо зашагал к „Линкольну“.
Я отправился в „Первый сорт“, гадая, куда бы мне выгнать Дикарку на то время, пока я буду расшифровывать радиопередачи нацистов.
Глава 14
Три женщины в купальниках выглядели совсем недурно. На Марте Геллхорн был белый эластичный закрытый костюм с пояском. Хельга Соннеман надела хлопчатобумажный купальник из двух частей – лифчика с бретельками и длинных трусиков. Марлен Дитрих облачилась в бикини столь темно-синего цвета, что он казался почти черным. Женщины отличались разнообразием телосложения – атлетическая, но по-немецки сочная, на грани излишней полноты фигура Хельги Соннеман, типично американское сочетание прямых линий и мягких изгибов Геллхорн и угловатый эротизм Дитрих.
Я почти не удивился, выяснив, что Фрау – это еще одна кинозвезда… а именно, Дитрих. В числе тех немногих сведений о Хемингуэе, которыми я располагал несколько недель назад, был и тот факт, что он состоит в дружеских отношениях с этой женщиной. Я редко ходил в кино, причем, как правило, на вестерны и гангстерские боевики. Я видел Дитрих в фильме Джимми Стюарта „Дестри опять скачет верхом“ за несколько дней до оккупации Гитлером Польши. Я любил Джимми Стюарта, но эта лента пришлась мне не по вкусу; она словно высмеивала другие вестерны, а героиню Дитрих, хотя и говорившую с явным немецким акцентом, звали Френчи. Это звучало глупо. Затем, прошлым летом, я видел Дитрих в „Личном составе“, весьма посредственном фильме „о крутых парнях“, главные роли в котором играли двое моих любимых актеров соответствующего амплуа – Эдвард Робинсон и Джордж Рафт. Героиня Дитрих показалась мне слабой, почти бесцветной, и из всех эпизодов с ее участием я запомнил только те, в которых она показывала свои ноги – все еще красивые и стройные, хотя к тому времени ей, должно быть, уже исполнилось сорок, – и сцену, в которой она стряпает в маленькой кухне во время бури. Сидя в кинотеатре в Мехико, думая о своем и стараясь не обращать внимания на испанские субтитры, я вдруг понял, что Дитрих „действительно“ варит эту бурду.
Прежде чем идти на вечеринку у бассейна, я должен был спрятать блокнот и книги. С помощью системы Уоллеса я за считанные минуты разметил сетки и расшифровал сообщения. Мне не терпелось показать результат Хемингуэю, но, придя в финку, я увидел, что он водит гостей по дому. Я решил, что было бы глупо показывать ему блокнот в присутствии Тедди Шелла (он же Теодор Шлегель) – человека, который почти наверняка нанял Кохлера, чтобы принимать и передавать секретную информацию.
Я не мог оставить книги в коровнике. С Дикаркой никаких трудностей не возникло; когда я появился в домике, ее там не оказалось. Марии не разрешали бродить в одиночестве, но она была раздосадована тем, что ей запретили появляться в усадьбе целый день, и мне оставалось лишь гадать, куда она ушла – гулять по холмам или спустилась в Сан-Франциско де Паула. Я надеялся, что Марии хватит ума не сунуть нос в один из баров или магазинов этого городка, ведь ее искали люди Шлегеля и кубинская национальная полиция, а местные жители до такой степени запуганы Бешеным жеребцом, что почти наверняка расскажут ему и его присным все, о чем бы те ни спросили. Не говоря уже о том, что подачки Шлегеля с легкостью развяжут языки в этом нищем поселении.
Я сказал себе, что Мария Маркес – не моя забота. Моей заботой было спрятать в надежном месте книги, и особенно блокнот, до тех пор, пока не кончится эта глупая вечеринка и я не смогу поговорить с Хемингуэем. Я надел плавки, собрал книги и записи и завернул их в вафельное полотенце, которое лежало на кухонной стойке. Пока гости веселились и плескались в бассейне, я вошел в главную усадьбу через черный ход, вскрыл сейф Хемингуэя – днем, когда писатель открывал его, я внимательно следил за тем, какие цифры он набирает, – и положил туда книги, после чего отправился знакомиться с абверовским шпионом, хранительницей древностей и кинозвездой.
Было ясно, что Дитрих приехала в финку впервые. Я застал самый конец экскурсии по дому; Хельга Соннеман вежливо описывала свои впечатления, хотя головы мертвых животных явно внушали ей брезгливость, Тедди Шелл потягивал виски, время от времени вставляя любезные замечания, зато Дитрих шумно восторгалась охотничьими трофеями, книгами, безделушками, длинными прохладными комнатами, столом, за которым работал Хемингуэй, книжным шкафчиком подле его кровати – буквально всем подряд. Она говорила с немецким акцентом, лишь чуть-чуть менее заметным, чем в фильмах, но в тоне ее голоса слышались спокойствие и теплота, которых я не улавливал, сидя в кинотеатре.
Наконец женщины отправились плавать, а мы, трое мужчин, уселись у бассейна с бокалами в руках. Загорелый Хемингуэй в вылинявшей желтой футболке и купальных трусах, застиранных до такой степени, что я был не в силах определить их первоначальный цвет, чувствовал себя легко и непринужденно, а Теодору Шлегелю – я не мог заставить себя называть его Тедди Шеллом – было жарко и неудобно в белом пиджаке с высоким воротом и рубашке с черным галстуком, прямых черных брюках и начищенных до блеска туфлях.
Было нечто собственническое в том, как мы рассматривали обнаженных женщин в воде, и я ничуть не сомневался, что Шлегель смотрит на Хельгу Соннеман хозяйским взглядом.
Хемингуэй был в ударе, он сыпал шутками, хохотал над жалкими претензиями Шлегеля на остроумие, насмешливо окликал Геллхорн и Дитрих и бросался к борту бассейна с напитками для Соннеман всякий раз, когда блондинка выныривала на поверхность. Его собственническое чувство простиралось на жену и актрису, а может быть, даже и на Соннеман.
Было очень интересно следить за Хемингуэем в дамском обществе. Это наблюдение помогло мне чуть-чуть заглянуть ему в душу. С одной стороны, он был застенчив, едва ли не официален с женщинами, даже с проституткой Марией. Он внимательно слушал их, почти не перебивая – даже когда Геллхорн отпускала в его адрес язвительные замечания – и, судя по всему, искренне интересовался всем, что они говорили.
Однако в его отношении к представительницам противоположного пола чувствовалась едва заметная снисходительность. Это был не тот пренебрежительный тон, которым ведутся „мужские“ разговоры – если не считать отдельных высказываний о том, как он дважды „употребил“ жену перед завтраком, – а скорее что-то вроде молчаливой оценки, как будто Хемингуэй непрерывно решает, заслуживает ли та или иная женщина его внимания.
Марлен Дитрих, несомненно, заслуживала. За недолгие полчаса шутливой беседы на берегу бассейна я убедился в остроте ее интеллекта и понял, какое наслаждение от этого получает Хемингуэй. Лучше всего он держался в обществе умных женщин – своей жены, Ингрид Бергман, Леопольдины ла Онеста, а теперь и Марлен Дитрих, – а я редко встречал подобное качество у энергичных, властных мужчин. Как правило, они стараются показать свое превосходство над другими мужчинами, но теряются среди женщин, особенно чужих жен. Таким человеком был мой дед. И, подозреваю, мой отец тоже. В чем бы ни заключался экзамен на остроумие, внешность, интеллект и умение вести беседу, которому Хемингуэй втайне подвергал женщин, было очевидно, что Марлен Дитрих выдержала его уже давно, причем с самыми превосходными результатами.
Но если у Хемингуэя имелся подобный тест для мужчин… секретных агентов, если уж на то пошло, то Теодор Шлегель с треском провалился. Он никак не тянул на удалого немецкого шпиона – мягкое округлое лицо под практически безволосым черепом, безвольный рот, обвислые щеки, глаза бассет-хаунда – казалось, они готовы наполниться слезами при малейшем к тому поводе. Его немецкий акцент был так же заметен, как у Дитрих, однако выговор Шлегеля казался отрывистым и грубоватым по сравнению с мягкой, чувственной речью актрисы. В то же время изящество, с которым Шлегель повязал галстук, внушило мне восхищение. Беседа агента с Хемингуэем была гладкой и бессмысленной, как узел этого галстука – сплошная шелковая поверхность.
Хельга Соннеман говорила очень мало, но я с удивлением отметил, что ее произношение лишено каких-либо следов акцента. Для уроженки Германии, жившей там вплоть до поступления в американский колледж, ее английский был на редкость совершенен. В нем чувствовался разве что едва уловимый акцент Новой Англии, характерный для высших слоев общества и далеко не так заметный, как у Марты Геллхорн, которая растягивала слова на манер выпускников колледжа Брин-Мор, по нью-йоркски выделяя гласные звуки.
Хемингуэй представил меня гостям как своего коллегу по грядущим изысканиям в море, и это всех полностью удовлетворило. Во время знакомства я очень внимательно присматривался к лицу Соннеман, ожидая характерного сокращения мышц вокруг губ либо непроизвольного сужения зрачков, которые произошли бы, узнай она во мне пожарного из трюма, но ничего подобного не случилось. Если Соннеман сыграла равнодушие, значит, она была лучшей актрисой, чем Дитрих.
Разумеется, это можно сказать о большинстве настоящих разведчиков – мы играем свои роли двадцать четыре часа в сутки, а зачастую – годы напролет без перерыва.
Около семи вечера все, кроме Шлегеля, разошлись по своим комнатам переодеться к ужину. Прежде чем отправиться в „Первый сорт“, я еще раз оглянулся на абверовского шпиона – он быстрым шагом расхаживал по библиотеке Хемингуэя, хмурым взглядом окидывая названия книг, словно они почему-то раздражали его, и курил сигареты одну за другой. Я решил, что Тедди нервничает.
Каким-то образом Хемингуэю и Марте удалось уговорить Рамона, горячего приверженца китайской кулинарии, приготовить тем вечером традиционный кубинский ужин. Хемингуэй признался мне, что любит кубинские блюда, хотя Рамон высмеивает их. Как бы ни было, на закуску подали „sofrito“ – паштет из мелко нашинкованного лука, чеснока и зеленого перца, обжаренного в оливковом масле, затем „ajiaco“, деревенский салат из юкки и маланги, „tostones“ – запеченные полоски зеленого банана, и „fufu“, еще одно блюдо из банана, которое, по утверждению Хемингуэя, пришло из Западной Африки и представляло собой вареные банановые кусочки, сбрызнутые оливковым маслом и украшенные жареными хрустящими ломтиками свиной кожицы.
Главным блюдом была свиная отбивная – стейк из задней части туши, которую гаванские гурманы предпочитают всем остальным – с гарниром из черной фасоли, белого риса и опять-таки бананов. Из специй мне удалось опознать мяту, кумин, ореган, петрушку и „ajo“ – чеснок в чесноке с добавкой чеснока. Я заметил, как с каждой переменой блюд бледные щеки Шлегеля начинают пылать румянцем, но Хемингуэй явно наслаждался трапезой и по два-три раза требовал добавки для каждого из присутствующих.
Как всегда, он выбрал свое излюбленное вино „Тавел“, французское розовое, и подливал его в бокалы гостей, ухватив бутылку за горлышко.
– Эрнест, милый, – заговорила Дитрих, когда он в очередной раз наполнил ее бокал, – почему вы так держите бутылку? Для такого элегантного мужчины это выглядит очень неловко.
Хемингуэй лишь улыбнулся.
– Бутылку – за горлышко, – сказал он. – Женщин – за талию. – С этими словами он добавил вина Соннеман и Шлегелю. Мы с Геллхорн жестами показали, что нам хватит и того, что оставалось в бокалах.
Мы сидели в столовой – Хемингуэй у одного торца стола, Геллхорн у противоположного, Дитрих по правую руку от писателя, Шлегель – напротив актрисы, слева от Хемингуэя, Соннеман – напротив меня и справа от Геллхорн. Как всякий раз, когда я оказывался за столом Хемингуэя, беседа текла легко и свободно; хозяева направляли разговор, но не стремились доминировать в нем. Здесь царила приятная атмосфера, все присутствующие едва ли не физически ощущали поток энергии, которой с ними делился писатель, невзирая даже на то, что одним из его гостей был шпион с бледной физиономией, а другим – загадочная дама со связями в нацистских кругах.
Было очевидно, что Дитрих прекрасно относится как к Хемингуэю, так и к Геллхорн – особенно к Хемингуэю – и была не менее энергична, чем писатель, хотя и не подавляла его.
Причины, которые привели в Гавану Шлегеля и Соннеман с их яхтой, мы обсудили еще у бассейна. Как и полагается, мы выразили восхищение игрой Дитрих, но актриса попросту отмахнулась от комплиментов. Соннеман и Геллхорн затеяли дружескую пикировку, обсуждая свои учебные заведения – было ясно, что между колледжами Брин-Мор и Уэллсли существует нечто вроде соперничества. В конце концов женщины сошлись в том, что подавляющее большинство выпускниц обоих заведений считают свои альма-матер чем-то вроде конвейера, поставляющего жен для мужчин, закончивших Гарвард, Принстон и Йель. Потом разговор свернул на кулинарию, политическую ситуацию и войну.
– Не кажется ли вам, Эрнест и Марта, – предположила Дитрих, – что наш ужин напоминает съезд Бунда?
Шлегель побледнел. На лице Соннеман отразилось удивление.
– Все мы – немцы, – продолжала актриса. – Я бы не удивилась, узнав, что из кухни за нами подглядывает ФБР.
– Там только Рамон, – ответил Хемингуэй, усмехнувшись. – Он хочет убедиться, что мы действительно едим кубинскую пищу.
– Кубинская кухня великолепна, – сказала Соннеман с улыбкой, которая напомнила мне улыбку Ингрид Бергман. – Это самый лучший ужин за все время, которое я провела здесь.
Ощущение неловкости исчезло, и Хемингуэй принялся расспрашивать Хельгу о целях археологической экспедиции „Южного креста“ в Латинской Америке. Соннеман развернула перед ним живую и красочную, но чересчур детальную картину цивилизации доколумбовых инков эпохи строительства империи. Она сказала, что экспедиция будет изучать недавно открытые руины на побережье Перу.
Во время этой лекции у меня начали слипаться глаза, однако Хемингуэй был в восхищении.
– Если не ошибаюсь, инки имели обыкновение расселять соперничающие народы по империи, перемещая этнические группы, – сказал он.
Соннеман пригубила вино и улыбнулась писателю.
– Я вижу, вы неплохо знакомы с историей инков, господин Хемингуэй, – ответила она.
– Эрнест, – поправил писатель. – Или Эрнесто. Или Папа.
Соннеман негромко рассмеялась.
– Да, Папа. Вы правы, Папа. Вплоть до испанских завоеваний в 1532 году инки расселяли враждебные народы по своей территории.
– Зачем? – спросила Дитрих.
– Чтобы обеспечить стабильность, – объяснила Соннеман. – Перемешивая этнические группы, они затрудняли восстания и мятежи.
– Вероятно, именно это Гитлер сделает в покоренной Европе, – словно невзначай заметил Хемингуэй. В эту неделю с фронта поступали скверные известия.
– Да, вполне возможно, что Германия осуществит эту идею, как только подчинит себе славянские народы и советскую империю, – откликнулся Шлегель, отчетливо выговаривая слова.
В красивых глазах Дитрих вспыхнул огонь.
– Вот как, герр Шелл? Вы думаете, русских так легко одолеть? Уж не считаете ли вы, что Германия неуязвима?
Покраснев пуще прежнего, Шлегель пожал плечами.
– Как я уже говорил, мадам, моя родина – Дания. Моя мать была немкой, дома мы говорили по-немецки, но я не испытываю особой любви к Германии и не верю в миф о ее непобедимости. Однако вести с Восточного фронта определенно свидетельствуют о том, что Советам осталось не так много времени.
– В прошлом году то же самое говорили об Англии, – заметила Дитрих, – однако британский флаг до сих пор реет на ветру.
Хемингуэй наполнил бокалы.
– Но их конвои несут огромные потери, Марлен, – сказал он. – Ни один остров не в силах выиграть войну, если его морские пути перерезаны.
– Правда ли, что „волчьи стаи“ собирают в здешних южных водах обильную жатву? – оживленным тоном произнесла Соннеман. – Мы кое-что слышали об этом перед отплытием из Нассау, однако… – Она умолкла.
Хемингуэй покачал головой.
– Группы немецких подлодок не забираются так далеко на юг, дочка. Они рыщут стаями в Северной Атлантике, но в здешних широтах за торговыми судами охотятся поодиночке.
Однако количество кораблей, торпедированных в наших краях, прибывает удручающими темпами – как мне сказали в посольстве, в среднем по тридцать четыре в неделю. Я удивлен тем, что ваш капитан пренебрегает опасностью того, что „Южный крест“ будет потоплен немецкой подлодкой… или взят на абордаж.
Шлегель откашлялся.
– Мы мирная научная экспедиция, составленная из гражданских лиц, – официальным тоном заявил он. – Подводные лодки нас не потревожат.
Хемингуэй фыркнул.
– Откуда такая уверенность? Один взгляд через перископ на вашу яхту размером с миноносец – и командиру подлодки захочется осмотреть „Южный крест“, и он торпедирует вас, только чтобы сорвать досаду. – Писатель вновь повернулся к Соннеман. – Разумеется, я надеюсь, что этого не случится, – добавил он. – Ведь „Южный крест“ служит базой для вашей экспедиции и отелем на то время, пока вы будете искать руины.
– Именно так, – подтвердила Хельга. – И притом весьма комфортабельным отелем. – Она провела изящным пальцем по скатерти, словно рисуя карту. – Инки построили вдоль побережья дорогу длиной более двух с половиной тысяч миль и еще одну такую же, ведущую в глубь материка. Мы рассчитываем отыскать один из затерянных городов у южного окончания прибрежной дороги. – Она улыбнулась. – И хотя „Викинг“ – некоммерческая организация, наши находки могут принести немалую прибыль.
– Керамика? – спросила Геллхорн. – Предметы искусства?
– Отчасти керамика, – ответила Соннеман, – однако самое интересное… Можно рассказать о толедских гобеленах, Тедди? – спросила она, бросив взгляд на Шлегеля.
Было видно, что Шлегелю невдомек, о чем идет речь. Выдержав приличествующую случаю паузу, он сказал:
– Да, полагаю, вы можете говорить об этом, Хельга.
Соннеман подалась вперед.
– Толедский наместник написал Филлипу Второму – этот документ хранится в архивах, и у меня есть копия, – что он отсылает в Испанию огромные холсты, громадные карты его владений в Андах, красотой и богатством превосходящие все ткани и гобелены, когда-либо найденные в Перу и существовавшие в христианском мире. Письмо прибыло по адресу, но ткани исчезли.
– И вы думаете, что они сохранились в перуанских джунглях? – с сомнением спросила Дитрих. – Разве материи не гниют в таком климате?
– Нет, если их должным образом упаковать и глубоко зарыть в землю. – Голос Соннеман чуть дрогнул от воодушевления.
– Достаточно, Хельга, – вмешался Шлегель. – Не будем утомлять гостей мелочами, которые интересуют только нас.
Рамон и две служанки внесли десерт. После традиционных кубинских блюд он, повинуясь инстинктам приверженца китайской кулинарии, приготовил сложное по составу, изысканное яство – на сей раз это был торт-безе с мороженым.
– Но почему вы привели свой исследовательский корабль сюда, на Кубу? – спросил за десертом Хемингуэй.
– Наше судно ремонтировалось и переоснащалось на атлантическом побережье, – натянутым тоном отозвался Шлегель. – Пока ученые настраивали приборы и поисковое оборудование, капитан и экипаж производили морские испытания.
В настоящий момент мы устраняем некую неисправность… ходового вала, если не ошибаюсь. В течение нынешнего месяца мы отправимся в Перу.
– Через канал? – спросила Геллхорн.
– Естественно, – ответил Шлегель.
Хемингуэй пригубил вино:
– Сколько просуществовала империя инков, мисс Соннеман?
– Зовите меня Хельгой, – сказала блондинка. – Или дочкой, если вам нравится. Хотя, по-моему, вы старше меня всего лет на десять, Эрнест.
Хемингуэй торжествующе улыбнулся:
– Так и быть. Хельга.
– Отвечая на ваш вопрос, Эрнест, – продолжала Соннеман, – я могла бы сказать, что настоящая инкская династия существовала лишь около двух столетий, вероятно, начиная с четырнадцатого века, в течение экспансии Капака Юпанки, вплоть до 1532 года, когда империю покорил Пизарро со своей маленькой армией. Потом, на протяжении трехсот лет, их территория оставалась под владычеством испанцев.
Хемингуэй кивнул.
– Несколько сотен испанцев в доспехах победили… сколько инков им противостояло, Хельга?
– По оценкам исследователей, к началу испанского завоевания инки контролировали примерно двенадцатимиллионное население, – ответила Соннеман.
– Святой боже, – произнесла Дитрих, – трудно поверить, что кучка захватчиков могла победить столь многочисленный народ.
Хемингуэй взмахнул десертной вилкой.
– Я никак не могу отделаться от мыслей о нашем приятеле Гитлере. Он носится с идеей Тысячелетнего Рейха, но вряд ли нынешний год станет моментом торжества его маленькой империи. Всегда найдется сукин сын покрепче тебя… как это было в случае испанцев и инков.
Шлегель вперил в него ледяной взор. Соннеман улыбнулась и сказала:
– Да, но нам известно, что испанцы прибыли туда в период очередной междуусобицы претендентов на инкский трон… вдобавок в стране тогда свирепствовали эпидемии. И даже великолепная дорожная система инков – между прочим, куда более совершенная, чем европейские шоссе, – сыграла на руку испанцам в их завоеваниях.
– Как гитлеровские автобаны? – произнес Хемингуэй, вновь усмехаясь. – Думаю, через два-три года генерал Пэттон поведет по прекрасным немецким шоссе свои танки „Шерман“.
Шлегелю явно не нравился оборот, который приняла беседа.
– Полагаю, Германия будет слишком занята борьбой против коммунистических орд, чтобы думать об экспансии, – негромко произнес он. – Разумеется, я не сторонник тех целей и задач, которые ставят перед собой нацисты, но нельзя не признать, что война, которую ведет Германия, – это, по сути, битва западной цивилизации против славянских потомков Чингисхана.
Марлен Дитрих гневно фыркнула.
– Господин Шелл, – отрывисто бросила она, – фашистская Германия не имеет никакого отношения к западной цивилизации! Поверьте, я знаю, что говорю. Русские, которых вы так презираете… наши союзники… видите ли, господин Шелл, между мной и русскими существует некая мистическая связь. Их было немало в Германии в годы моей молодости – людей, бежавших от революции. Мне нравились их воодушевление, их энергичность, то, как могли они пить день напролет и не терять головы…
– Ага! – воскликнул Хемингуэй.
– Целый день произносить тосты! – с чувством продолжала Дитрих, и в ее голосе явственнее зазвучал немецкий акцент. Она подняла бокал с вином. – Дети трагической судьбы – вот кто такие русские, господин Шелл. Не так давно Ноэль Ковард назвала меня грубиянкой и реалисткой. Эти слова как нельзя удачнее описывают русскую душу, господин Шелл. В этом смысле я более русская, чем немка. Я никогда не сдалась бы нацистскому зверью, не сдадутся и русские!
Она осушила бокал, и Хемингуэй молча последовал ее примеру. Я подумал, какие выводы сделал бы из этого разговора Эдгар Гувер, и решил при случае заглянуть в досье Дитрих под грифом „О/К“.
– Да, – сказал Шлегель, озирая стол, словно в поисках поддержки, – но вы, несомненно, вы, разумеется…
– Нацисты не имеют никакого отношения к западной цивилизации, – повторила Дитрих. Она любезно улыбалась, но ее голос по-прежнему звучал вызывающе. – Их верхушку составляют дегенераты… извращенцы и импотенты… омерзительные гомосексуалисты… прошу прощения, Марта. Этот разговор неуместен за столом.
Геллхорн улыбнулась.
– За нашим столом любая брань в адрес нацистской Германии вполне уместна и даже поощряется, Марлен. Прошу вас, не стесняйтесь.
Дитрих покачала головой. Ее светлые волосы скользнули по щекам с высокими скулами, потом вновь улеглись.
– Я уже закончила, только хотела бы спросить – как называют по-испански таких извращенцев, Эрнест?
Хемингуэй ответил, глядя на Шлегеля:
– Разумеется, для обозначения гомосексуалистов в испанском имеется стандартное слово „maricon“, однако кубинцы называют так пассивных педерастов, а активных – „bujarones“, это аналог нашего „butch“, то есть лесбиянка.
– Кажется, наша беседа и впрямь становится неприличной, – заметила Геллхорн.
Хемингуэй бесстрастно взглянул на нее:
– Мы ведь говорим о нацистах, дорогая, не правда ли?
Улыбка Дитрих оставалась любезной, как прежде:
– А какое из этих слов звучит более оскорбительно, Эрнест?
– „Maricon“, – ответил писатель. – Однако еще большее презрение выражается местным словом „machismo“, которое означает пассивного, женоподобного педераста. Его второй смысл – слабость, трусость.
– В таком случае я буду называть нацистов „maricon“, – непререкаемым тоном заявила Дитрих.
– Что ж… – произнесла Геллхорн и умолкла.
„Что ж, – подумал я. – Очень интересно. Ужин в обществе абверовского агента – вполне возможно, двух агентов, но, вне всяких сомнений, со сводной сестрой супруги Германа Геринга…“ Если эта беседа о „maricones“ и извращенцах была неприятна Хельге Соннеман, она ничем этого не показала.
Она сияла радостной улыбкой, как будто ей на ум пришла некая забавная мысль, но было трудно сказать, что именно ее забавляет – то ли едкие выпады в адрес ее нацистских знакомых, то ли все возраставшее недовольство „Тедди Шелла“.
Геллхорн заговорила о поездках, которые наметила на ближайшее время.
– На следующей неделе я отправлюсь в Сент-Луис навестить семью, – сказала она. – А в середине лета… вероятно, в июле… я собираюсь осуществить один весьма интересный проект.
Хемингуэй рывком вздернул голову. Я был готов поклясться, что он слышит об этом „интересном проекте“ впервые.
– „Кольерс“ готов оплатить мою поездку по Карибам в качестве репортера, – продолжала Геллхорн. – Острова в военную пору и тому подобная чепуха. Они собираются арендовать для этой цели тридцатифутовый шлюп и даже нанять экипаж из трех негров, которые отправятся вместе со мной.
– И это – моя жена! – рявкнул Хемингуэй, но в его громовом голосе мне послышалась шутливая нотка. – Собирается провести лето, плавая среди островов в компании трех черномазых. За неделю гибнут тридцать пять судов, и это только начало. Готов ли „Кольерс“ оплатить твою страховку, Марти?
– Разумеется, нет, дорогой, – сказала Геллхорн, улыбаясь в ответ. – Они знают, что ни одна субмарина не посмеет утопить жену такого знаменитого писателя.
Дитрих подалась к ней.
– Марта, милая, это звучит просто восхитительно. Потрясающе. Но тридцатифутовая лодка… не слишком ли она мала для дальнего похода?
– Да, маловата, – сказал Хемингуэй, поднимаясь из-за стола и возвращаясь с бутылкой бренди. – На восемь футов короче нашей „Пилар“. – Он держал бутылку за горлышко и смотрел на Геллхорн с таким видом, будто хотел, чтобы в его руке оказалась ее шея. – Марти, в июле к нам приезжают Патрик и Джиджи.
Геллхорн подняла лицо и посмотрела на мужа. Ее взгляд можно было счесть если не вызывающим, то, во всяком случае, непоколебимым.
– Я помню, Эрнест. Я буду здесь, когда они приедут. Ты уже несколько лет твердишь, что хотел бы проводить наедине с ними больше времени.
Писатель серьезно кивнул.
– Особенно теперь, когда надвигается эта проклятая война. – Казалось, он пытается отвлечься от дурных мыслей. – Хватит мрачных разговоров. Не выпить ли нам бренди на террасе? Ночь ясная, а ветер разгонит москитов.
Геллхорн и Дитрих ушли в дом. Шлегель в унылом молчании курил сигарету. Длинный черный мундштук как нельзя лучше дополнял его образ прусского аристократа. Соннеман и Хемингуэй устроились рядом в удобных деревянных креслах. Чуть раньше прошел дождь, и в ночном воздухе пахло мокрой травой, влажными пальмовыми листьями и далеким морем. В небе ярко светили звезды, мы легко различали огни у подножия холма. Также мы видели свет у его вершины… и слышали смех и звуки фортепиано.
– Проклятый Стейнхарт… – пробормотал Хемингуэй. – Опять затеял вечеринку. Я ведь его предупреждал.
„О господи“, – подумал я.
Однако на сей раз Хемингуэй не стал требовать, чтобы принесли бамбуковые шесты и фейерверки. Внезапно он заявил:
– Этим летом мы проведем научные изыскания.
– Вот как? – сказала Соннеман. Ее глаза сверкали даже в тусклом свете свечей и керосиновых ламп, расставленных на террасе. – Какие именно изыскания, Эрнест?
– Океанографические, – ответил Хемингуэй. – Американский Музей естественной истории попросил нас исследовать морские потоки, промерить глубины, изучить миграционные пути марлина… и так далее.
– Вы серьезно? – Соннеман посмотрела на Шлегеля. Тот выглядел изрядно захмелевшим. Она взболтала остатки бренди в высоком бокале. – У меня есть несколько друзей в Музее.
Кто организует ваши исследования, Эрнест? Доктор Херрингтон или, быть может, профессор Мейер?
Хемингуэй улыбнулся, и я понял, что он тоже не на шутку пьян. Он начинал пить с утра, и, хотя это никак не отражалось на его речи, походке и поведении, я заметил, что большая доза спиртного делает его несколько беспечным и неосторожным.
Это следовало взять на заметку.
– Будь я проклят, если помню, дочка, – как ни в чем не бывало ответил он. – Спроси у Джо, его специально прислали, чтобы заниматься этими делами. Кто организует экспедицию, сеньор Лукас?
Соннеман обратила свою сияющую улыбку ко мне:
– Наверное, Фредди Харрингтон? Если не ошибаюсь, это по его части.
Я чуть нахмурился. Шлегель сел прямо, буравя меня вызывающим взглядом. Я подумал, что, может быть, разговор о „maricones“ и „bujarones“ задел больное место этого плешивого рохли.
– Нет, Харрингтон работает в отделе ихтиологии, – ответил я Соннеман. – Помимо исследований марлина, мы займемся ультразвуковым зондированием океана, промерами температур, построением изобат, уточнением карты… и тому подобными вещами.
Соннеман подалась ко мне.
– Стало быть, вас финансирует профессор Мейер? Мне помнится, он – неизменный участник океанографических программ Музея.
Я покачал головой.
– Мой руководитель – доктор Куллинз из департамента картографии и океанографии.
Соннеман нахмурилась.
– Питер Куллинз? Невысокий щуплый старик, древний, как Мафусаил? Носит клетчатые жилетки, которые не сочетаются с его же костюмами?
– Доктор Говард Куллинз, – сказал я. – Он ненамного старше меня. Я бы дал ему тридцать два или тридцать три года.
Он только что принял руководство департаментом после Сандсберри, умершего в декабре прошлого года.
– Ах да, разумеется. – Соннеман покачала головой, как бы дивясь собственной глупости. – Я слишком много выпила.
Я не знакома с доктором Куллинзом, но слышала, что он выдающийся картограф.
– Два года назад он написал книгу „Неизведанные моря“, – сказал я. – Нечто вроде истории морских исследований от плавания „Бигля“ <Имеется в виду кругосветное путешествие Чарльза Дарвина.> до современных арктических экспедиций. Ее раскупали нарасхват.
– Думаю, Куллинз узнал обо мне от ихтиолога Генри Флауэра, – вмешался Хемингуэй. – Я более десяти лет снабжал его сведениями о миграции марлина. В 1934 году мы с Чарли Кэдуолдером отправились в океанографическое плавание с острова Ки-Уэст. Я занимаюсь подобными вещами уже несколько лет.
– Чарльз Кэдуолдер? – переспросила Соннеман. – Директор Музея естественных наук филадельфийской Академии?
– Он самый, – ответил Хемингуэй. – Они с Томом Куллинзом обожали вместе пропустить стаканчик-другой, ловя марлина.
– Что же, – сказала Соннеман, пожимая писателю руку, – желаю удачи вам и вашей экспедиции. Желаю удачи всем нам.
В ответ мы допили виски, остававшееся в наших бокалах.
Хуан приготовился отвезти Шлегеля и Соннеман в док, где их ждал быстроходный катер „Южного креста“. Хельга пообещала приехать в финку в воскресенье. Вслед за этим последовали объятия и рукопожатия. Теодор Шлегель очнулся от своего мрачного оцепенения ровно настолько, чтобы поблагодарить хозяина и хозяйку за „весьма познавательный вечер“.
Я уже хотел извиниться и оставить Хемингуэя наедине с Дитрих, но он велел мне задержаться. Еще один бокал бренди спустя актриса объявила, что ей хочется спать и что она отправится в постель. Геллхорн повела ее во флигель для гостей.
По пути женщины продолжали оживленно переговариваться.
Мы остались вдвоем, и писатель спросил:
– Где ты всего этого набрался, Лукас? Про американский музей?
– В своих телефонных счетах вы обнаружите квитанцию за два весьма дорогих междугородных разговора с Нью-Йорком, – ответил я.