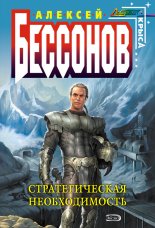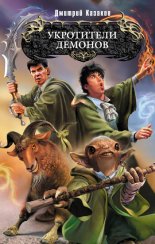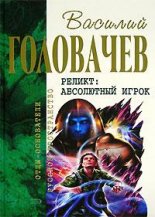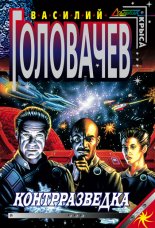Колокол по Хэму Симмонс Дэн
– Тут и началось самое забавное, – рассказывал впоследствии Дельгадо.
Двое немецких агентов, командир группы Джордж Джон Даш и его напарник Эрнст Петер Бюргер, независимо друг от друга, решили отказаться от своих первоначальных намерений. Прежде чем Абвер завербовал Даша, тот прожил в США почти двадцать лет, и его верность Германии оказалась не слишком тверда. Бюргер попросту решил прихватить 84 тысячи долларов, которые адмирал Канарис выделил для выполнения задания, и удариться в бега. Также он втайне решил убить Даша, если тот не пожелает изменить Фатерлянду.
Они посовещались. Даш взял деньги и отправился звонить в нью-йоркское отделение ФБР, чтобы сдать своего напарника и сдаться самому. Специальный агент, дежуривший в тот день на телефоне, выслушал подробный рассказ Даша о высадке на Лонг-Айленде и его готовности передать ФБР 84 000 долларов, если кто-нибудь заедет за ними.
– Ага, – сказал агент. – А вчера нам звонил Наполеон. – И он повесил трубку.
Оскорбленный, но не обескураженный агент Абвера Джордж Джон Даш уложил деньги в чемодан и поехал на поезде в Вашингтон, чтобы лично встретиться с Эдгаром Гувером.
Проведя всю вторую половину дня в Департаменте юстиции, где его отфутболивали из кабинета в кабинет, он наконец получил пятиминутную аудиенцию у Д. М. Лэдда. Судя по всему, его рассказ произвел на Лэдда такое же впечатление, как на нью-йоркского агента, и он уже собрался выгнать Даша, но тот вывалил на пол содержимое чемодана.
– Ну и дела, – сказал, по слухам, третий по значимости помощник Гувера и глава отдела Внутренней разведки. – Это что – настоящие?
Бюро допрашивало Даша восемь суток. За это время, как утверждал Дельгадо, немецкий агент буквально вывернулся наизнанку, рассказывая о связных своей группы, шифрах, объектах диверсий и графике действий. Когда интерес ФБР иссяк, Даш сообщил дополнительную информацию о военной промышленности нацистов, планах перевооружения и характеристиках подводной лодки, которая доставила шпионов на Лонг-Айленд. Также он поведал о высадке в Джексонвилле, штат Флорида, которую Хемингуэй предсказал в своем донесении.
20 июня в Нью-Йорке были арестованы Бюргер и двое оставшихся агентов. У них тоже сразу развязались языки.
Дождавшись встречи флоридских диверсантов с их связным в Чикаго, Гувер 27 июня арестовал всех четверых. В тот же день он сообщил об операции прессе, утаив, каким образом Бюро узнало о немецких агентах. „С этим придется подождать до окончания войны“, – официально и официозно заявил представитель ФБР по связям с общественностью. Однако, объяснил мне Дельгадо, в своей переписке с Рузвельтом и во множестве заявлений для газетчиков, сопровождаемых оговорками типа „не для печати“, „только для сведения присутствующих“, Гувер прозрачно намекнул о том, что специально подготовленный агент ФБР внедрился не только в абверовскую группу – он якобы учился в той же школе диверсантов, что и незадачливые немцы, – но и в само Гестапо, и, вполне вероятно, в высшие круги нацистского командования. Гувер также дал понять, не говоря об этом напрямую, что он лично находился на местах высадки на Лонг-Айленде и во Флориде и собственными глазами наблюдал за действиями обреченных агентов.
Через полтора месяца после этих событий я спросил Дельгадо, какую награду получили Даш и Бюргер за то, что сдались сами, выдали своих товарищей и снабжали информацией Бюро.
– Закрытый суд уже состоялся, – ответил Дельгадо. – Все восемь приговорены к смерти. Шестерых казнили на электрическом стуле в тюрьме округа Колумбия. За заслуги перед Соединенными Штатами Бюргеру смягчили приговор, отправив его на пожизненную каторгу, а Даша – на каторгу с тридцатилетним сроком.
– С годами директор становится сентиментален, – заметил я. – Но куда девались „наши“ донесения? Гувер действительно мог находиться на берегу и следить за высадкой этих слабоумных.
Дельгадо пожал плечами:
– Я всего лишь передаю твои бумажки, Лукас. Я не могу заставить людей читать их.
Невзирая на то что „Южный крест“ стоял на ремонте и мог выйти в море не раньше середины июня, уже в мае Хемингуэй начал патрулировать окрестные воды на „Пилар“ и усиленно готовить экипаж для более продолжительных походов в июне. Порой он брал с собой всю свою команду – „старшего офицера“ Уинстона Геста, старшего помощника и кока Фуэнтеса, Синдбада-морехода Хуана, Пэтчи Ибарлусию, испанского эмигранта, бывшего официанта из Барселоны Фернандо Меса (лично мне он не внушал особого доверия), Роберто Герреру, американского морского пехотинца, радиста Дона Саксона и меня.
Я приступил к изучению береговых ориентиров, по которым рыбаки находят путь. Старый домик на берегу у Кохимара был для нас знаком того, что мы приблизились к Хондону де Кохимар – глубокой подводной впадине, в которой в изобилии водилась рыба. Мы называли его Розовым Домом, или Домом Священника. Отсюда было всего около одной морской мили – по-нашему, „Хемингуэевой мили“ – до точки на расстоянии выстрела от Ла-Кабана, крепости у входа в гаванский залив. Хемингуэй и Ибарлусия утверждали, будто бы в пору сильных течений здесь много марлина, но во время „тренировочных походов“ нам некогда было рыбачить.
Гольфстрим протекает мимо Гаваны в восточном направлении – гигантская река внутри моря шестидесяти миль шириной, со скоростью течения от 1,2 до 2,4 узла, – она тем выше, чем больше глубина. Гольфстрим имеет более насыщенный синий цвет, нежели окружающие его прибрежные воды. По этой синей реке плывут гаванские мусорные баржи, направляясь к глубоким местам, где и сваливают свой зловонный груз. Вокруг барж снуют тысячи чаек и десятки местных суденышек, охотясь за рыбой, которая поедает отбросы. Иногда Хемингуэй пристраивал „Пилар“ в хвост этой процессии – баржи, чайки, рыбачьи лодки и мы, исследовательская яхта американского Музея естественной истории, зачастую тянущая за собой на канате „вспомогательное судно“ – шлюпку „Крошка Кид“.
– Взгляни, Лукас! – окликнул он меня одним жарким солнечным утром. – Море дает нам все – жизнь, пищу, погоду, звук прибоя по ночам, ураганы, от которых жизнь становится интереснее, – и вот она, наша благодарность. – Хемингуэй указал на огромные кучи мусора, сваливаемые через борта барж в глубокие синие воды.
Я пожал плечами. Океан громаден, малая толика мусора ему нипочем.
В качестве тренировочного полигона Хемингуэй выбрал район Параисо-Ки, Райского Острова. Нам предстояло отбуксировать туда множество бочек из-под горючего, которые должны были послужить нам мишенями. Не ограничившись стрельбой по бочкам из автоматов Томпсона и прочего оружия, Хемингуэй разрисовал их физиономиями с темной прядью волос над злобно сверкающим глазом и чаплинскими усиками. Неудивительно, что члены экипажа только и говорили о доставке „груза Гитлеров“ для учебной стрельбы.
Мы нередко становились на якорь у островного буя и учились бросать гранаты. Пэтчи Ибарлусия и Роберто Геррера были вне конкуренции – они зашвыривали „ананасы“ не правдоподобно далеко и, как правило, разброс составлял не более трех метров.
– Попадание точно в боевую рубку, – объявлял в таких случаях Хемингуэй, с ходового мостика следивший за взрывами в полевой бинокль.
К северу от острова из моря торчал полузатопленный грузовой корабль, на котором Хемингуэй устраивал абордажные учения. Он быстро подводил яхту к высокому борту корабля, мы забрасывали туда крючья и всей толпой с автоматами и гранатами в руках перебирались по канатам на полусгнившие палубы и надстройки, крича „Хенде хох!“ и другие расхожие немецкие слова, пока наконец невидимый нацистский экипаж не сдавался без боя. Впрочем, порой Хемингуэй объявлял, что противник оказывает сопротивление, и тогда мы швыряли в люки гранаты и что было сил улепетывали прочь.
Случались у нас и занятия, более приближенные к реальной обстановке, – мы отрабатывали спасательные операции на непотопляемом плотике, который предоставил нам флот США. Он был ярко-желтого цвета, его весла представляли собой маленькие складные оранжевые лопасти. Еще никогда я не выглядел и не чувствовал себя таким болваном, как во время этих учений, – мы все, восемь или девять человек, теснились на дурацком крохотном плоту, гребя против течения, которое словно задалось целью увлечь нас в Европу, и при этом на наших головах красовались „научные сомбреро“ – широкополые шляпы, которые Хемингуэй приобрел для операции „Френдлесс“ и называл „научными“, поскольку буквально все, что находилось на борту „Пилар“, в те дни считалось „научным“, из-за идиотского плаката, висевшего у нас на корме.
– Стало быть, именно на этом плоту нас захватят в плен или расстреляют? – спросил Гест во время одной из „спасательных операций“.
Хемингуэй лишь нахмурился, но, когда мы вернулись на борт яхты выпить холодного пива, он показал нам кое-что.
Документ был отпечатан на бланке из толстой плотной бумаги с впечатляющим заголовком:
КАНЦЕЛЯРИЯ ВОЕННО-МОРСКОГО АТТАШЕ
ПОСОЛЬСТВО США
ГАВАНА, КУБА
18 мая 1942 г.
Всем, кого это может касаться.
Во время отлова образчиков рыб для американского Музея естественной истории сэр Эрнест Хемингуэй осуществляет эксперименты с радиооборудованием, установленным на борту его моторной яхты „Пилар“. Данные эксперименты проводятся с ведома военно-морского атташе США и ни в коей мере не ущемляют чьих-либо интересов.
(подпись)
полковник Хейн Д. Бойден.
Agregado Naval de los Estados Unidos, Embajada Americana.
<Морской атташе Соединенных Штатов, американское посольство.>
– Это наше каперское свидетельство, – пояснил Хемингуэй. – Как в старые времена, оно придает нам законный статус… отличает нас от пиратов и шпионов… и помешает немцам расстрелять нас, если при нападении на подводную лодку нам изменит удача. Немцы изрядные подонки, но чрезвычайно пунктуальны во всем, что касается международных соглашений.
Хемингуэй пустился в пространные объяснения, чем были каперские свидетельства в „давние времена“, и, пока он разглагольствовал, мне оставалось лишь смотреть на него вытаращенными глазами и гадать, неужели он всерьез полагает, будто бы этот кусок бумаги защитит нас от пули в затылок, если немецкий экипаж захватит „Пилар“ при попытке потопить их субмарину. Уже не в первый раз я убедился, что сэр Эрнест Хемингуэй не только создает в своих книгах утонченные вымышленные миры, но и живет в них.
Иногда мы выходили на яхте вдвоем, и эти дни посвящались практике по навигации и радиосвязи. Когда я сказал Хемингуэю, что умею обращаться с пеленгатором и коротковолновой рацией, он удивился.
– Черт побери, – заметил он, – коли так, нам не нужен Дон Саксон.
– Саксон потребуется вам, когда вы оставите меня на берегу присматривать за операциями „Хитрого дела“, – возразил я. Такое случалось нередко – едва ли не через день, – и тогда я сутками разъезжал по окрестностям, встречаясь с „агентами“, либо сидел во флигеле финки, принимая донесения от самых пугливых из них, которые являлись через поля и заросли и уходили тем же путем.
В дни, предшествовавшие выходу в море „Южного креста“, записи в бортовом журнале „Пилар“ выглядели примерно так:
12 июня 1942 г.: Патрулировали до Пуэрто-Пургатории… вернулись в 5.30.
13 июня: Наблюдали с 2 до 7. Вышли до рассвета, патрулировали до темноты, прошли 12 миль. Гест отправился в Бахия Хонду на вспомогательном судне.
14 июня: Наблюдали с 4 утра. Вышли после рассвета, в 7.20. Патрулировали до 13, встали на якорь в порту в 16, загрузили яхту припасами.
За краткой записью „Гест отправился в Бахия Хонду на вспомогательном судне“ крылась маленькая драма. В тот день нас было шестеро на борту – мы искали подлодки в районах, где их встречали местные рыбаки, и вдруг поступило шифрованное радиосообщение с требованием прибыть в указанную точку для получения приказов. Погода была скверная – к северу и западу от нас бушевал шторм, по морю ходили двухметровые волны, и тем не менее Хемингуэй направил Уинстона Геста и Грегорио Фуэнтеса на „Крошке Киле“ в Бахию Хонду – туда, где нас ждали секретные распоряжения.
– Нынче дерьмовая погода, Эрнест, – заметил Уинстон, цепляясь за поручни яхты, которую бросало на волнах.
Фуэнтес ничего не сказал, но хмурый взгляд, которым он окинул горизонт, был красноречивее любых слов.
– Плевать мне на погоду, – бросил Хемингуэй. – Нам будут отданы приказы, джентльмены. Первые приказы с тех пор, как мы начали эту операцию. Живыми или мертвыми, вы обязаны вернуться до рассвета и доставить их мне.
Богач и костлявый кубинец кивнули, взяли с собой немного воды и провизии и забрались в утлую лодчонку. Впоследствии они рассказывали, что плавание было тяжелым, как, впрочем, они и ожидали, и „Крошка Кид“ добрался до Бахии Хонды только в девять вечера. Там они встретились со связным-американцем и получили запечатанный пакет в непромокаемом мешке. Не вскрывая пакет – это была прерогатива Хемингуэя, – Гест и Фуэнтес наскоро закусили и поспали два часа, после чего пустились в изматывающее обратное плавание к „Пилар“.
На рассвете Хемингуэй получил запечатанный пакет и спустился вниз. По прошествии некоторого времени он вновь появился на палубе и велел Фуэнтесу и Ибарлусии поднимать якорь.
– Мы возвращаемся в Кохимар, – объявил он, раскладывая карту на пульте управления ходового мостика яхты. – Пополним там припасы. Лукас, ты отправишься в финку и будешь управлять „Хитрым делом“. Всем остальным приказано явиться… вот сюда. – Он ткнул пальцем в карту.
Мы вытянули шеи. Хемингуэй указывал на скопление островов неподалеку от Камагуэя, у северного побережья центральной Кубы, где мы еще не бывали.
– Лукас, – сказал он мне, пока яхта, раскачиваясь на волнах, возвращалась в порт, – ты должен не только присматривать за лавочкой, но и следить за „Южным крестом“. Дашь нам радиограмму, как только он соберется выйти в море.
– Слушаюсь, – отозвался я. В чем бы ни заключались „секретные распоряжения“, Хемингуэй не пожелал рассказывать мне о них. Это нимало не беспокоило меня, но было жаль, что „Пилар“ отправляется в настоящий поход, а меня оставляют торчать на берегу. Море нравилось мне больше, чем ферма, и сколь бы глупыми ни были наши „учения“, каждая минута, проведенная в плавании, казалась мне чем-то намного более реальным, нежели операции „Хитрого дела“.
В отсутствие Хемингуэя я руководил „разведывательной сетью“, присматривал за Марией и размышлял о писателе.
„Выясни, кто он и что он“, – приказал мне Гувер, а я отнюдь не был уверен, что хотя бы начал выполнять его задание.
Сидя на берегу, я думал о том Хемингуэе, которого видел в море.
На мой взгляд, лишь немногие обстоятельства способны вскрыть истинную сущность человека. Вероятно, одно из них – поведение на поле боя, но мне трудно об этом судить, поскольку я не бывал на войне. Мои схватки были тайными, скрытыми от постороннего взгляда, длились секунды или минуты, и единственной наградой было выживание. Еще одно испытание – это когда опасности подвергаются твои близкие, но у меня никогда не было семьи, которую я должен защищать… или могу утратить – во всяком случае, с тех пор, когда я достиг зрелости.
Но море… это испытание я чувствовал всей душой.
В море ходят сотни, тысячи людей, однако удалиться от берега на собственной яхте так, что теряешь его из виду – а Хемингуэй проделывал это регулярно, – совсем иная, куда более опасная вещь. Характер человека проявляется в том, как он воспринимает море – безразлично или с уважением, которого оно заслуживает, – и не мешает ли ему собственное „я“ ощущать ту грозную силу, которая окружает человека или горсточку людей, оказавшихся наедине с открытым океаном.
Хемингуэй относился к морю с уважением взрослого человека. Он стоял на мостике, широко расставив босые ноги и привычно, бессознательно борясь с качкой; его обнаженная грудь потемнела под солнцем, темные волосы блестели от пота, лицо покрывала двухдневная щетина, глаза прятались в тени длинного козырька кепки. Хемингуэй воспринимал море всерьез. От его мальчишеской бравады не оставалось и следа, когда он наблюдал за погодой, изучал течения и приливы, возвращаясь в порт, когда падал барометр или на горизонте появлялся хотя бы намек на шторм… либо встречал бурю лицом к лицу, если было невозможно укрыться в спокойной бухте. Хемингуэй никогда не отлынивал от работы на своей яхте, никогда не отказывался стоять „собачью вахту“, не жаловался, когда приходилось откачивать зловонную воду из трюма, возиться с двигателем по уши в масле или прочищать засорившийся гальюн. Он делал все, что требовалось сделать.
Мой отец погиб в Европе, когда мне было шесть лет. Он ушел из дома, когда мне исполнилось пять. Судя по двум сохранившимся фотографиям, мой отец ничем не напоминал Хемингуэя. У писателя была выпуклая грудь, кривоватые ноги, могучая шея и огромная голова, а отец был худощавым, с длинными пальцами, узким лицом и кожей, которая летом темнела до такой степени, что незнакомые люди зачастую звали его ниггером.
Однако что-то в том, как Хемингуэй держался во время плавания, всколыхнуло мои воспоминания об отце и особенно о дяде – вероятно, ловкость, с которой он балансировал на палубе, и его привычка вести беседу, ни на минуту не отвлекаясь от наблюдения за морем и погодой. Хемингуэя никак нельзя было назвать ловким человеком – я уже заметил, что с ним то и дело происходят досадные неприятности, и что у него плохое зрение, – однако на палубе „Пилар“ он двигался с изяществом, которое дается только прирожденному мореходу.
Я начинал осознавать, что Эрнест Хемингуэй относится к морю с тем же напряженным вниманием, что и к словам женщин, которые с ним разговаривают – по крайней мере, тех из них, которые ему интересны. Вероятно, Хемингуэй поступал так по одной и той же причине – полагая, что они могут чему-либо его научить.
А учился он быстро – это я уже усвоил. В ходе наших бесед выяснилось, что он не бывал в море мальчишкой и лишь изредка – молодым мужчиной, если не считать двух плаваний за океан на больших судах; в первый раз он отправился на войну в качестве водителя санитарного фургона и вернулся раненым ветераном, во второй – поехал в Европу журналистом и вернулся женатым мужчиной, собираясь поселиться с супругой в Канаде. И только в 1932 году Хемингуэй начал регулярно выходить в море на малом судне „Анита“, которое принадлежало его другу по имени Джо Рассел, жившему на Ки-Уэст. Рассел преподал Хемингуэю азы кораблевождения, обучил его искусству контрабанды спиртного – так, по крайней мере, утверждал сам писатель – и пригласил на глубоководную рыбалку в кубинских водах.
Ибарлусия и другие рассказывали, что в последнее время Рассел зачастил на Кубу и Хемингуэй принимает его, как любимого дедушку. Он берет престарелого бутлеггера на „Пилар“, подносит ему лимонад, то и дело спрашивая: „Вам удобно, господин Рассел?“ Хемингуэй по-прежнему чтил своего наставника, хотя они уже давно распрощались с ролями учителя и ученика.
Я видел, что это – еще одна черта характера писателя, которую не замечают и недооценивают окружающие. Хемингуэй был одним из редких людей, которые позволяют другим приобщить себя к их страстям – например, к бою быков, ловле форели, охоте на крупных зверей, глубоководной рыбалке, умению разбираться в изысканных винах и яствах, лыжному спорту, военной журналистике – и спустя несколько лет, а то и месяцев уже сам Хемингуэй становился знатоком и мог с полным правом рассуждать о красоте и увлекательности занятия, которое интересует собеседника и которым, в свою очередь, заинтересовался он сам. И даже бывшие учителя преклонялись перед познаниями Хемингуэя, видя в явном дилетанте настоящего специалиста, которым тот стал.
До сих пор Хемингуэй оставался сущим ребенком в разведке; все, что бы он ни предпринял в этой области, было наивным бредом. Что, если бы я начал учить его реалиям этой игры? Не превратится ли он в считанные месяцы из любителя в серьезного профессионала, не познает ли все тонкости шпионажа и контрразведки – точно так же, как познал грозные прихоти и капризы океана?
Возможно. Но я не видел причин учить его этому. Во всяком случае, пока.
Дельгадо мгновенно уловил иронию, прозвучавшую в моем голосе, когда я сообщил, что остаюсь руководить „Хитрым делом“ на время первого десятидневного похода Хемингуэя к архипелагу Камагуэй.
– Тебя прислали сюда наблюдать за этим дурацким предприятием, – сказал Дельгадо. – Теперь ты его возглавил.
Я пропустил его слова мимо ушей. У меня не было времени спорить.
С отъездом Хемингуэя и его друзей в финке воцарилось относительное спокойствие. Садовник Пичило лениво слонялся среди клумб и газонов, столяр Панчо Кастро пилил и стучал молотком, сооружая в доме все новые книжные полки и посудные шкафы, время от времени слышались проклятия и ругань повара Рамона, а Рене Валлиреаль, старший слуга Хемингуэя, крадучись, словно кот, обходил поместье, понукая остальных работников и следя за хозяйством в отсутствие Роберто Герреры, который обычно исполнял обязанности управляющего. Сейчас Роберто находился в море вместе с хозяином.
Весь май и начало июня Хемингуэй и Геллхорн устраивали в усадьбе долгие воскресные вечеринки. Здесь неизменно собиралась большая оживленная толпа; как правило, присутствовали одни и те же лица – посол Браден с супругой, кучка басков, возглавляемая игроками хай-алай, сотрудники посольства – Эллис Бриггз и Боб Джойс с женами и детьми, – кое-кто из испанских священников, чаще всего дон Андрее, а также наши миллионеры, Уинстон Гест и Том Шелвин; бывали здесь и заезжие яхтсмены. Пока „Южный крест“ ремонтировался, Хельга Соннеман два или три раза навестила финку, но Теодор Шлегель больше не появлялся. Помимо завсегдатаев, здесь бывали самые разные люди из тех, что заглядывают на огонек и остаются на ужин или вечернюю выпивку, – например, Келли по кличке Горе-мореход, знаменитые местные рыбаки, вроде Карлоса Гитерреса, и старые друзья Хемингуэя, приехавшие с Ки-Уэст повидаться с писателем и его женой.
Теперь вечеринки прекратились, и воскресными вечерами здесь царила такая тишина, что, сидя во флигеле и читая донесения, я слышал жужжание пчел в саду.
Мы спрятали Марию Маркес от лейтенанта Мальдонадо, укрыв ее, что называется, в очевидном месте. Дикарка – я уже привык к ее прозвищу – по-прежнему спала в „Первом сорте“, а днями работала в усадьбе, наравне с остальными слугами. Геллхорн потребовала, чтобы молодая проститутка не прикасалась к пище, но если не считать этого ограничения да разве еще того, что Марта не желала видеть девушку, Мария отлично вписалась в трудовой ритм фермы. Когда Марта отсутствовала – а в июне она практически каждый день утром уезжала в Гавану на „Линкольне“ с шофером Лопесом и возвращалась поздно вечером, – Дикарке разрешалось в свободное от несложных хлопот время отдыхать у бассейна и бродить по поместью.
Лейтенант Мальдонадо так и не приехал к нам искать девушку. Из донесений „Хитрого дела“ я знал, что Национальная полиция все еще охотится за ней, равно как и агенты Теодора Шлегеля из числа кубинских фалангистов, но из тех же донесений мне было известно, что Мальдонадо и абверовский шпион слишком заняты, чтобы лично гоняться за подозреваемой в убийстве.
Изучая доклады людей Хемингуэя и взяв на себя некоторые обязанности по руководству операцией, я увидел шпионскую сеть писателя в новом свете. Существуют два способа создания работоспособной разведывательной либо контрразведывательной организации. Первый, общепринятый, состоит в том, чтобы разбить полевых агентов на ячейки, каждая из которых действует самостоятельно и ничего не знает о других, а руководителям ячеек известны только те клички, имена и шифры, которые им необходимо знать. Эта система обладает преимуществом герметичных отсеков корабля; пробоину в одном или нескольких из них можно локализовать и заштопать, поддержав судно на плаву. Другой путь – особенно это касается контрразведки – познакомить всех участников друг с другом. Данный способ разрешает многие проблемы безопасности – в такую группу практически невозможно внедрить чужака, вдобавок все агенты могут обмениваться сведениями и приказами. Профессиональные разведывательные службы редко используют этот метод – исключением является только Британская координационная разведывательная группа, – поскольку разрушение одной переборки погубило бы весь корабль целиком.
Однако разношерстный коллектив „Хитрого дела“ работал на удивление эффективно.
Стало ясно, что ни лейтенант Мальдонадо, ни его босс Хуанито Свидетель Иеговы не добились сколь-нибудь существенного успеха в розысках Марии Маркес, поскольку они были слишком заняты вымогательством взяток и выполнением поручений ФБР и немецких развед-служб.
Поначалу я относился к подобным выводам с сомнением, однако по мере того, как донесения агентов Хемингуэя вновь и вновь подтверждали друг друга, продажность Бешеного жеребца во всем многообразии ее форм становилась совершенно очевидной. И все это казалось полной бессмыслицей.
Судя по донесениям любительской агентуры Хемингуэя, от ее внимания не ускользало ни одно событие в Гаване и окрестностях. Швейцар „Плазы“ доложил, что лейтенант Мальдонадо и Теодор Шлегель шесть раз встречались в номере Шлегеля в этом отеле. Каждый раз лейтенант Национальной полиции уходил с тяжелым чемоданом. Девушка из салона красоты дважды прошла следом за Мальдонадо до банка „Финансеро Интернасиональ“ на улице Линеа. Оставшиеся четыре раза за лейтенантом успешно проследил один из оперативников Хемингуэя, известный только по кличке Агент 22. Я не знал, кто этот человек, но он вел наблюдение весьма умело, хотя его письменные доклады были составлены с такими ошибками и таким плохим почерком, что казалось, будто бы их автор – десятилетний ребенок. Бывший испанский аристократ, ныне состоявший в Совете директоров „Финансеро Интернасиональ“, сообщил, что у Мальдонадо нет частного вклада в этом банке, но имеется специальный счет некой „Оришас Инкорпорейтед“ (дословно – „Боги Инкорпорейтед“), и Мальдонадо внес на этот счет шестьдесят тысяч американских долларов, а его шеф Хуанито Свидетель Иеговы – еще тридцать пять.
Зачем Абвер платит Кубинской национальной полиции?
Уж конечно, не для того, чтобы откупиться – я был уверен в этом. Правоохранительные органы острова и без того делали вид, будто бы не замечают сторонников нацизма, фалангистов правого толка и германских агентов на Кубе.
Но потом на горизонте возникло ФБР. Официант из китайского ресторана „Пасифик“ дважды видел у своего заведения Бешеного жеребца с американцем по имени Ховард Норт.
Слепой старик с Парк-Сентрал знал звук мотора „Крайслера“
Норта и сообщил, что в обоих случаях тот уехал на северо-восток по Прадо, направляясь к Малекону. Во второй раз наш неустрашимый Агент 22 каким-то образом умудрился проследить „Крайслер“ от Квинта Авенида до портового города Мариэль, а потом с близкого расстояния наблюдал, как лейтенант Национальной полиции и сеньор Ховард Норт шагают вдвоем по пустым докам. Норт передал Мальдонадо маленький коричневый чемоданчик. По сообщению нашего человека в банке, вечером того же дня Мальдонадо внес на счет „Оришас“ пятнадцать тысяч американских долларов. При первой встрече Мальдонадо с Нортом счет пополнился на такую же сумму.
Ховард Норт был специальным агентом гаванского отделения Федерального бюро расследований.
Я не стал просить Дельгадо подтвердить этот факт. В среду, пока Хемингуэй находился в архипелаге Камагуэй, я принес недельный доклад в посольство Бобу Джойсу и мельком поинтересовался, не появились ли в городе новые агенты.
– Откуда вы узнали? – спросил Джойс, читая доклад, который я составил специально для него, изложив только самое важное. Потом он поднял глаза и улыбнулся. – Реймонд Ледди, один из заправил Бюро и куратор нашего посольства, очень недоволен тем, что ему подсунули еще одного человека. Специальный агент Норт. Его прислали из Вашингтона десять дней назад. По-моему, его никто сюда не вызывал, и он здесь не нужен… в Гаване и без него действуют шестнадцать сотрудников.
– Его прислали с каким-нибудь важным заданием? – спросил я. – Разумеется, если это не тайна. Мне просто стало любопытно, не связан ли он как-нибудь с операцией Хемингуэя.
– По-моему, Норт вовсе не собирается участвовать в каких-либо операциях, – ответил Джойс, усмехнувшись. – Он кто-то вроде счетовода. Вот почему Ледди и другие ребята из гаванского отделения так раздражены. Они полагают, что Норта прислали сюда проверить их гроссбухи… удостовериться, что все пенни и песо учтены как положено.
– Кто-то ведь должен этим заниматься, – сказал я.
Десятки тысяч долларов, которые Национальная кубинская полиция получает от Теодора Шлегеля и ФБР. Что происходит, черт побери? Можно было предположить, что взятки Абвера имеют прямое отношение к разведывательным операциям „Южного креста“, но чего добивается бухгалтер ФБР, финансируя Бешеного жеребца и его босса? И, что самое любопытное, местное отделение Бюро ничего об этом не знает.
В третью неделю июня, незадолго до возвращения Хемингуэя и его приятелей из секретного похода, я вызвал Агента 22.
Он явился 23 июня, во вторник. В тот день я находился в финке и сидел в тени с доктором Геррерой Сотолонго, беседуя с ним о „Хитром деле“. Разумеется, доктор был в курсе шпионской деятельности Хемингуэя, но не пожелал принять в ней участие, как его брат.
– Эрнесто настаивал, – сказал доктор, – но я отказался.
Он даже придумал мне кличку – Малатобо, – но я рассмеялся и отказался вновь.
Я тоже рассмеялся. „Малатобо“ – это разновидность бойцового петуха.
– Ох уж этот Эрнесто и его клички, – задумчиво произнес доктор, потягивая джин с тоником. – Известно ли вам, сеньор Лукас, что в своей шпионской игре он называет себя Агентом 08?
Я продолжал улыбаться. Я знал, что Хемингуэй подписывает свои донесения этим именем.
– Но почему вы отказываетесь ему помочь, доктор? – спросил я, зная, что Геррера ненавидит фашизм больше, чем любой из тех людей, которые отправились с Хемингуэем на „Пилар“.
Спокойный, невозмутимый доктор отставил свой бокал и, к моему изумлению, хватил кулаком по подлокотнику кресла.
– Я не хочу быть полицейским! – по-испански воскликнул он. – Черт возьми, я уже был солдатом и не желаю вновь им становиться! Я никогда не любил ищеек и шпионов.
Мне нечего было сказать. Доктор вновь взял бокал и посмотрел мне в глаза.
– А теперь Эрнесто окружают шпионы. Люди, которые хотят казаться не тем, чем являются на самом деле.
Я выдержал его пристальный взгляд и негромко спросил:
– О чем вы?
Геррера Сотолонго допил джин.
– Этот миллионер… его друг… Уинстон Гест.
Я растерянно моргнул:
– Волфер?
Доктор фыркнул.
– Ох уж эти клички, которыми нас награждает Эрнесто!
Это словно болезнь. Известно ли вам, сеньор Лукас, что сеньор Гест заявил Фуэнтесу и другим малообразованным членам экипажа Эрнесто, будто бы он, Гест, – племянник Уинстона Черчилля?
– Нет, – ответил я.
– Так вот, это истинная правда, – сказал доктор. – Сеньор Гест – известный в Британии игрок в поло. Также он участвовал вместе с Эрнесто в охоте на крупных животных.
Вы ведь знаете, что они познакомились в Кении… кажется, в 1933 году?
– Да, сеньор Хемингуэй упоминал, что они познакомились в Африке.
– Истинная правда также и то, – продолжал Геррера, – что сеньор Гест – „niuy preparado“. Вам известно это выражение?
– Si, – отозвался я. – Человек высокой культуры. Хорошо образованный.
– Эрнесто даже не догадывается, насколько он „preparado“, – пробормотал доктор. – Сеньор Гест – шпион.
– Волфер? – переспросил я с тем же глупым видом, как в первый раз. – На кого он работает?
– На Британию, разумеется. В Гаване нет ни одного человека, который бы не видел его…
В это мгновение к нам подошел десятилетний мальчишка в лохмотьях и приложил пальцы к виску. Чуть позже я сообразил, что он отдавал честь.
– Ну, чего тебе, парень? – негромко спросил я, узнав того самого мальчишку, который бежал впереди меня, когда я впервые явился в усадьбу. Если кто-нибудь из людей Хемингуэя прислал свой доклад с ребенком, этому человеку нужно будет прочесть лекцию по безопасности и осторожности.
– Меня зовут Сантьяго Лопес, сеньор Лукас, – сказал мальчик. Его рубашка без пуговиц была распахнута, под ней отчетливо виднелись ребра. Можно было подумать, что парень голодал несколько дней. С чем бы он ни пришел, я собирался отправить его на кухню и велеть Марии и другим слугам хорошенько накормить мальчишку, прежде чем отпустить его попрошайничать на гаванских улицах.
– Так что же? – как можно мягче спросил я, стараясь не напугать его.
– Вы вызывали Агента 22, – произнес он твердым голосом, хотя я заметил, как дрожат его ноги.
Я посмотрел на доктора Сотолонго и закатил глаза. Мое удовлетворение эффективностью „Хитрого дела“ Хемингуэя испарилось без следа при виде ребенка, которого посылают с донесением.
– Почему он или она не явился лично?
– Он или она явился, сеньор Лукас, – сказал мальчик. – Я пришел. Как только мне передали ваш приказ.
Я вновь посмотрел на доктора, и тот ответил мне мудрой, но утомленной улыбкой. Я отвел Агента 22 в тень фикуса и принялся расспрашивать его о действиях убийцы, лейтенанта Мальдонадо.
Глава 17
На протяжении следующих нескольких недель в „Хитром деле“ наступил застой; Хемингуэй занимался улаживанием семейных неурядиц. Зато потом, думая об июне и июле как о затишье перед бурей – правда, тогда я даже не догадывался, какие невзгоды нас ждут, и ждут ли вообще, – я вспоминал, что каждый день был наполнен напряжением, знакомым каждому моряку, который спешит в родной порт, глядя на грозовые тучи, собирающиеся над горизонтом.
21 июля 1941 года Хемингуэю исполнилось сорок три. Эту и следующую ночь мы провели с ним, беседуя в рубке „Пилар“.
Мы отправились в шестидневное плавание с целью поиска подводных лодок. На борту были сыновья Хемингуэя Патрик и Грегори, Мышонок и Джиджи, как их называл отец, но из членов экипажа присутствовали только Фуэнтес, Уинстон Гест и я. Мы трое суток гонялись за „Южным крестом“, совершавшим морские испытания, которые представлялись нам бесконечными и бесцельными, слушали радио, время от времени перехватывая искаженные помехами голоса капитанов субмарин, переговаривавшихся друг с другом по-немецки; мы держали связь с маленькой базой на Кейо Конфитес, а нашей главной целью было дождаться, когда огромная яхта фонда „Викинг“ наконец приступит к действиям. На четвертый день разыгралась сильная буря, и мы потеряли корабль из виду.
Однако, воспользовавшись данными пеленгатора и информацией подлодки, радировавшей из района Ки-Романо, на пятый день мы отправились туда.
Мы приблизились к Ки-Романо в сумерках; Хемингуэй помогал мне в сложных навигационных расчетах. Первым делом мы пересекли устье Пунта Пратикос, пока не поравнялись с маяком Матерниллос на Ки-Сабинал. Тогда мы убавили обороты двигателя до минимума и с черепашьей скоростью поползли по коварному Старому Багамскому каналу. Фуэнтес стоял на носу, внимательно высматривая рифы и песчаные отмели.
Оказавшись внутри архипелага, мы двигались по мелким проливам зачастую менее метра глубиной – многие из них вливались в ручьи и маленькие реки, бравшие начало на островах. В крохотной бухте стояла деревушка Версаль – с полдюжины домов, почти все на сваях, добрая половина пустующие. Мы бросили якорь у мыса под названием Пунта де Мангле и трое суток исследовали на „Крошке Киде“ ручьи и протоки, расспрашивая местных рыбаков, не видели ли они в главных каналах большую яхту или катер, и пытаясь запеленговать источник шифрованных радиопередач.
День рождения Хемингуэя прошел довольно удачно, во всяком случае, для той ситуации, в которой мы оказались, – на борту „Пилар“, затерянные в глуши среди мангровых зарослей.
Патрик и Грегори привезли для отца подарки в ярких обертках, Уинстон Гест преподнес Хемингуэю две бутылки очень хорошего шампанского, Фуэнтес вырезал маленькую деревянную фигурку, вызвавшую бурный восторг писателя, и в тот же вечер мы устроили праздничный ужин. Я, разумеется, ничего ему не подарил, но поднял бокал шампанского в его честь.
На закуску подали миску спагетти. Фуэнтес привез с собой целый пучок макарон и, прежде чем опустить их в кипяток, разломил пополам. В ящике со льдом хранились цыплята, и он приготовил их в особом бульоне из говяжьих и свиных костей. Когда цыплята сварились, Фуэнтес процедил бульон, добавил к цыплятам осадок, оставшийся в дуршлаге, посолил и мелко нарубил. К этому времени по маленькому камбузу распространился такой замечательный запах, что я был готов немедля сесть за стол.
Фуэнтес взял немного ветчины и хоризо – испанские сардельки – и также превратил их в фарш. Смешав его с куриным мясом и залив кипящим бульоном, он добавил паприки и тушил на медленном огне. Вынув спагетти из кипятка, он посыпал их щепоткой сахара. Выложив соус в отдельную миску, он расставил блюда на столе и трубным голосом велел всем бросать свои дела и нести свои задницы в камбуз, дабы наполнить тарелки.
Пока мы поглощали чудесные спагетти, Фуэнтес закончил готовить главное блюдо. Тем утром он поймал меч-рыбу, загодя вырезал из нее шесть крупных ломтей и замариновал их.
Мы доедали спагетти, разговаривали и пили славное вино, а Фуэнтес тем временем растопил фунт сливочного масла и обжарил ломти меч-рыбы на маленьком огне. Продолжая болтать с нами, он поливал куски лимонным соком и непрерывно переворачивал их, чтобы они равномерно подрумянивались.
Запах был восхитительный, намного лучше, чем при жарке отбивных. Потом Фуэнтес выкладывал ломти на тарелки, добавлял свежего салата и припущенных овощей. Для Хемингуэя он поставил блюдечко с особым соусом из перца, петрушки, кинзы и каперсов, приготовленным в сковороде вместе с мелко нарезанной спаржей.
– Мне очень жаль, Эрнесто, – сказал наш кок и первый помощник, пока мы поглощали яства. – Я хотел приготовить свежих крабов под лимонным соком и фрикасе из осьминога, но за эту неделю мы не поймали ни крабов, ни осьминогов.
Хемингуэй хлопнул Фуэнтеса по спине и налил ему высокий бокал вина.
– Я в жизни не ел ничего вкуснее твоей меч-рыбы, „сотrado“. У меня королевский день рождения.
– Si, – согласился Фуэнтес.
В ночь после дня рождения Хемингуэя мы вдвоем стояли „собачью вахту“, и у нас выдалась самая долгая беседа за время нашего знакомства. Сначала это был диалог – мы обсуждали шансы вновь напасть на след „Южного креста“, размышляли, что будем делать, если найдем его, обменивались осторожными замечаниями о тех странных перипетиях, которые постигли в минувшие недели „Хитрое дело“, потом столь же осторожно, но уже с горечью поговорили об уехавшей жене писателя – Геллхорн отправилась на Карибы по заданию „Кольерса“ – и наконец разговор стал монологом в темноте, которую рассеивали только приглушенный свет лампы компаса и сияние медленно движущихся звезд, раскинувшихся над нами, словно полог. Они не гасли, даже опускаясь к горизонту, а продолжали светить сквозь ветви и мангровые корни, обступившие крохотную бухту.
– Что скажешь, Лукас? Сколько продлится эта война?
Год? Два года? Три?..
Я пожал плечами в темноте. Мы пили пиво из бутылок, которые сохранились холодными в ледяном ящике „Пилар“.
Ночь была жаркая, и бутылки запотели.
– Я думаю, она затянется на пять лет, – продолжал Хемингуэй негромким голосом, вероятно, не желая разбудить мальчиков и двух спящих мужчин, но скорее он попросту устал, был немного пьян и, в сущности, обращался сам к себе. – А то и на десять. Или навсегда. Все зависит от того, какие цели мы поставим в этой войне. Одно несомненно – она обойдется очень дорого. Соединенным Штатам это бремя под силу… мы даже не прикасались к своим резервам… однако государства, вроде Англии, будут разорены, даже если Германия не захватит их. Такая война способна обанкротить их империю, даже если она выйдет победителем.
Я молчал, глядя на писателя в тусклом свете. Две последние недели Хемингуэй отращивал бороду – он сказал, что солнце слишком раздражает его кожу, чтобы бриться, и его лицо покрылось густой пиратской растительностью. Я подозревал, что Хемингуэй бросил бриться в основном ради романтической внешности.
– Мне тоже приходится вносить свою часть платы за войну, которой я не хотел, – продолжал писатель с отчетливой артикуляцией, подсказывавшей мне, что он изрядно захмелел. – Пришлось занять двенадцать кусков, чтобы заплатить сто тридцать тысяч долларов налога за прошлый год. Извини, что я упомянул о деньгах. Я никогда о них не говорю.
Но, черт возьми – сто тридцать тысяч налога! Представляешь, Лукас? Кого бог захочет погубить, тому он сначала поможет преуспеть в его занятиях <Перефразировка греческой пословицы, перешедшей в латинский, а затем в английский язык: „Кого бог захочет погубить, у того он сначала отнимет разум“.>. Я имею в виду, что, заплатив эти поборы, буду вынужден вкалывать изо всех сил следующим летом, следующей зимой и так далее, чтобы не оказаться полностью разоренным, когда вернусь с этой войны. Если, конечно, отправлюсь на эту проклятую войну.
Он допил пиво и откинулся на подушки. В мангровых зарослях в тридцати ярдах за кормой запела ночная птичка.
– Моя вторая жена Полин ежегодно получает от меня пять тысяч долларов, Лукас. Пять тысяч, с которых не взимается налог. В этом году я мало работал… черт побери, я вообще почти ничего не сделал… и выплаты Полин – изрядная брешь в моих капиталах. За десять лет… сколько это будет? Шестьдесят тысяч. Меньше чем через пять лет я пойду по миру. Как видишь, судьба известного писателя не очень-то сладка.
Якорный канат „Пилар“ скрипнул, и Хемингуэй, тяжело поднявшись на ноги, проверил кормовой якорь, после чего вернулся в рубку и сел рядом со мной. Лампа компаса освещала его темные глаза и обожженный солнцем нос.
– Марти совершенно не разбирается в денежных делах, – медленно и негромко произнес он. – Трясется над каждым центом и бездумно расшвыривает огромные суммы. Она относится к деньгам, как ребенок, и не понимает, что, становясь старше, человек должен обеспечивать себе безбедное существование между выпусками новых книг, а с годами эти промежутки становятся все длиннее, Лукас. Во всяком случае, если ты пишешь только хорошие книги.
Несколько минут прошло в молчании, которое нарушали только плеск волн о борта яхты и негромкий скрип – неизбежные звуки на любом малом судне.
– Кстати, – заговорил наконец Хемингуэй, – ты видел золотую медаль за стрельбу, которой наградили Джиджи?
– Нет, – ответил я.
– Чертовски внушительная штука. – Голос Хемингуэя повеселел. – Там написано: „Джиджи в знак уважения от членов стрелкового клуба де Казадорес дель Серро“. Господи, Лукас, жаль, что тебя там не было на прошлой неделе. В девять лет он победил двадцатичетырехлетних мужчин, прекрасных стрелков, многие из которых – настоящие снайперы, попадают в летящих голубей. А ведь Джиджи стрелял из легкого ружья, в то время как его соперники – из крупнокалиберных винтовок. Вдобавок стрельба по живым голубям – куда более серьезное дело, чем по неподвижным мишеням. У каждой птицы своя повадка. А ты должен не просто попасть в нее, а убить, причем на определенной дистанции. Кстати, Патрик стреляет по голубям даже лучше Джиджи. Но он держится так скромно и тихо, что этого не замечает никто, кроме букмекеров и самых опытных снайперов, зато Джиджи уже величают в газетах „eljoven fenomeno Americano“ <Юное американское дарование.>, а накануне нашего отплытия… если, конечно, я не ошибаюсь… в какой-то статье его назвали „el popularisimo Gigi“ <Знаменитый Джиджи.>.
Помолчав минуту, Хемингуэй повторил:
– „El popularisimo Gigi“. Теперь мне приходится говорить:
„Сходи на почту за письмами, „popularisimo“. Пора спать, „popularisimo“. He забудь почистить зубы, „popularisimo"“.
Небо от зенита до горизонта прочертил метеор. Несколько минут мы сидели молча, запрокинув головы, дожидаясь следующего. Небо не обмануло наши надежды.
– Хотел бы я увидеть, как кто-нибудь из поджигателей этой войны пойдет драться на фронт, прежде чем туда пошлют меня и моих парней, – чуть слышно произнес Хемингуэй. – Бэмби… это мой старший… ему придется воевать. Он купил подержанную машину. Когда он был здесь весной, мы только о ней и говорили. Его мать Хедли, моя первая жена…
По всей видимости, Хемингуэй потерял нить мысли и несколько мгновений молчал.
– Его мать недавно написала мне, что Бэмби хочет пересечь на этой развалине всю страну с запада на восток, – сказал он наконец. – Но я напишу ей, что в этом нет никакого смысла. За это время у автомобиля облысеют покрышки, а из-за нынешнего режима экономии бензина от машины не будет проку, даже если она доедет до места. К тому же Бэмби сказал, что у него даже нет запасного колеса, и я сомневаюсь, что автомобиль выдержит переезд через весь континент. Уж лучше пусть он оставит ее там, где купил, и заберет, когда вернется с войны. Если вернется.
Должно быть, только теперь до Хемингуэя дошел смысл его последней фразы – он умолк, покачал головой и допил остаток пива.
– Тебе понравилась меч-рыба, Лукас?
– Да.
– Правда, рыбалка – это великолепное занятие? Мне будет очень неприятно умирать, в любом возрасте. С каждым годом мне все больше нравятся рыбалка и охота. Сейчас я получаю от них такое же удовольствие, как в шестнадцать лет, я написал много хороших книг и могу отдаться рыбалке и охоте, предоставив трудиться другим. Мое поколение много поработало, и если ты не умеешь наслаждаться жизнью, если вся жизнь для тебя – сплошная работа, значит, ты не заслуживаешь иной доли.
За кормой плеснула крупная рыба. Хемингуэй несколько мгновений прислушивался, потом опять повернул ко мне лицо. Его глаза сверкали, но в желтом свете компасной лампочки казались затуманенными.
– Случилось так, что я проработал всю жизнь и сколотил капитал в ту пору, когда правительство забирает у людей все, что у них есть. В этом мне не повезло. Мне повезло в другом.
Я успел вкусить радостей и насладиться жизнью… вернее, мы успели… особенно с Хедли. Особенно когда мы были так бедны, что не имели даже ночного горшка. Молодой и безработный, я писал рассказы, жил в Париже, кутил в кафе с друзьями до утренней зари, когда мальчишки в белых фартуках начинали поливать из шлангов улицы, потом заплетающимся шагом возвращался домой, чтобы заняться любовью, поспать несколько часов, выпить черного кофе… если у нас был кофе… и потом весь день напролет писать, и писать хорошо.
Хемингуэй уютнее устроился на подушках. Разговаривая, он смотрел в небо. Казалось, он забыл о моем присутствии.
– Я отлично помню бега в Эйнхене, наше первую самостоятельную поездку в Памполу, эту великолепную яхту…
„Леопольдину“… помню Кортина-Д'Ампеццо и Черный лес.
Последние ночи я провел без сна… не мог заснуть… вспоминал случаи из жизни, разные события, песни.
У котенка пушистая шубка
И острые коготки,
Пушистый котенок будет жить вечно -
О, бессмертие!
У Хемингуэя был приятный тенор.
– Ты обратил внимание на кошек в моей финке, Лукас? – Он вновь смотрел на меня, словно только теперь осознав, что я сижу рядом и слушаю.
– Да, – ответил я. – Их трудно не заметить.
Хемингуэй медленно кивнул.
– Днем ты их почти не видишь… они бродят по всей усадьбе… но когда приходит время кормежки, начинается настоящее нашествие. Когда я не могу заснуть ночью, я беру в спальню трех кошек и рассказываю им истории. В последнюю ночь перед нынешним походом я взял с собой Тестер – дымчато-серую персиянку, – Диллинджера, черно-белого кота, которого мы называем также Бойсси Д'Англас, и котенка, мальтийскую полукровку по кличке Уилли. И я рассказывал им о других кошках, которые у меня были… мы всегда держали кошек. Я рассказывал им о Ф. Кисе, о нашем самом крупном, сильном и храбром коте Муки, который жил с нами в Европе и однажды обратил в бегство барсука. И стоило мне сказать:
„Барсук!“ – Тестер спряталась под простынями, так она испугалась.
Несколько минут мы сидели в звенящей тишине. По небу неторопливо плыли облака, заслоняя звезды. Слабый ветер утих, но волны продолжали медленно и ритмично колыхать яхту. Москитов не было и следа.