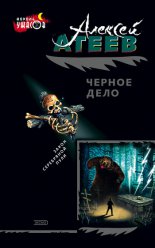Покров заступницы Щукин Михаил

Отправились два мужика на охоту. Идут по лесу, перекликаются. Вдруг один другому кричит: «Медведя поймал!» – «Веди его сюда!» – «Не идет он!» – «Тогда сам иди!» – «Да он не пущает!»
Посмеивался Матвей Петрович и бороду разглаживал, когда рассказывал эту немудреную байку своему малому внуку; пожалуй, и думать не думал, что Гриня вспомнит ее спустя годы и от себя, крепко ругнувшись, добавит: «Послали за шерстью, как бы стриженым не вернуться…»
Странное и необычное дело, которое поручил ему дед, Гриня собирался провернуть легко и быстро. А чего, спрашивается, мудреного? По газетке, которую ему еще в Покровке дед дал, он номера Сигизмундова в городе разыскал, к нужным людям на работу устроился и все, что нужно было, узнал: люди эти торговые, именуют себя непонятным словом – коммивояжеры – и занимаются тем, что ездят с небольшим деревянным сундуком по окрестным селам, которые неподалеку от города находятся, и предлагают на продажу местным лавочникам тюки разной материи, которые завернутыми лежат в санях. Торговля у них, как понял Гриня, идет неважно, но сильно они не горюют и, вернувшись из одной поездки, сразу же начинают собираться в другую сторону. Разворачивают карту и смотрят – до какого большого села еще не доехали?
Одного из торговцев, высокого и худого, звали Ильей Самойловичем, по фамилии Целиковский, второго, поменьше ростом и с русой бородкой, – Леонидом Павловичем, по фамилии Кулинич, а бабу странно и чудно – Кармен. Будто не имя, а кличка у лошади. Баба по селам не ездила, все время проводила в номерах, и чем она там занималась, Грине было неведомо.
Еще один возчик был нанят из городских – пожилой и угрюмый мужик Шапкин. Вот в паре с этим Шапкиным и раскатывал Гриня по окрестностям Никольска уже вторую неделю. Выезжали обычно поздно, когда уже рассвело, возвращались в потемках и, высадив своих пассажиров, они обычно разъезжались: Гриня – в мастерские к Скорнякову, а Шапкин – к себе домой. Жил он на окраине, на берегу Оби, где стоял небольшой рубленый домик с низкой, будто приплюснутой, тесовой крышей.
В гости к себе Шапкин не приглашал да и разговаривал с Гриней, не проявляя к нему никакого любопытства, словно по обязанности: буркнет два-три слова и громко высморкается, совсем не слушая, что ему скажут в ответ. Гриня с разговорами тоже к нему не вязался, и трудились они, каждый в своей упряжке, вроде бы и вместе, но по сути – порознь. Вот по этой самой причине и удивился Гриня до крайности, когда Шапкин неожиданно предложил:
– Давай-ка, парень, седни ко мне заедем, посидим маленько.
Они только что вернулись из очередной поездки. Гриня уже сидел в санях, собираясь ехать в мастерские, когда последовало приглашение. Оглянулся – может, ослышался? Шапкин тем временем, не дожидаясь согласия, высморкался, тронул вожжами свою лошадку и махнул рукой, подавая знак – не отставай, езжай за мной.
Гриня поехал.
Жил Шапкин, оказывается, бобылем. Едва ли не половину тесного домика занимала большущая русская печь, а на остальном пространстве располагались широкая деревянная лавка, низкий топчан и крепкий, основательный стол, сколоченный из толстых плах. Там и сям разбросаны были без всякого порядка скудная одежонка, конская упряжь и стояли в разных местах разномастные деревянные кадки. Шапкин подвинул лавку поближе к столу, усадил на нее Гриню, не предложив даже раздеться, и принялся растоплять печку. Когда в просторном, черном от сажи зеве упруго загудел огонь, Шапкин довольно крякнул и принялся выставлять на стол квашеную капусту и соленые огурцы, которые доставал из кадок. И капуста, и огурцы припахивали гнильцой, но хозяин к этому запаху не принюхивался. Выудил из-под топчана бутылку водки и пристукнул стеклянным донышком о столешницу:
– Вот теперь, парень, выпьем для разгону и побеседуем.
Сказав это, он даже не высморкался по своему обыкновению, а быстро и ловко раскупорил бутылку и щедро набулькал в глиняные, давно не мытые кружки.
– А я не пью, – известил Гриня.
Шапкин удивленно приподнял бровь:
– Хвораешь?
– Дед не разрешает, а я деда уважаю.
Покивал головой Шапкин, словно соглашаясь с услышанным, постоял над столом в раздумье, а затем махом осушил обе кружки и еще постоял, раскрыв от удовольствия рот и глядя в потолок.
Наконец опустился на лавку, закусил огурцом и сообщил:
– А я вот, грешный, люблю выпить. Правда, изъян один у меня имеется, как выпью, так поговорить мне требуется, говорю и говорю, будто добираю, что промолчал, когда трезвый. Да ты не пугайся, парень, я тебя своими разговорами мучить не буду, я тебя по другой причине позвал. Сиди и слушай меня во все уши, пока я не захмелел и в ясном уме нахожусь. Перво-наперво слушай мой совет: хватай задницу в руки и дуй к себе, откуда приехал, да так старайся, чтоб следом снежок завихяривался.
– Это к чему же такая спешка? – удивился Гриня.
– А потому, парень, что влезли мы с тобой в нехорошее дело, как в выгребную яму влезли, по самые уши. К темным людям на работу нанялись.
– С чего же они темные-то? – снова удивился Гриня. – С какого квасу?
– Ты меня слушай и не вякай, – посуровел Шапкин, – я поболе твоего веку прожил и поболе твоего всяких штук видал. Я и плюнуть могу, тогда сам расхлебывать будешь, без подсказки. Так вот… Темные люди… Я сразу нутром почуял. Баба эта – как змея подколодная, глазищами крутит, того и гляди укусит. А три дня назад я на проспекте ее увидел. Вторник был, и во вторник мы никуда не ездили. Ну, подрядился я тут одному лавочнику дровишки подвезти. Тащусь мимо базара, вижу, она на лихаче подкатила, вышагивает, как царица, а рядом с ней, под ручку, сынок скорняковский. Ты же на постое у Скорнякова, а у него сын есть – картежник и шулер, на весь город известный. Какие такие дела у младшего Скорнякова с этой бабой, хоть убей меня, не поверю, что любовные. Но это так, семечки… Главное, что Илья Самойлович с Леонидом Павловичем по ночам из гостиницы выбираются и прямым ходом – на Обдорскую улицу. Там домишко на отшибе стоит, вот они побудут в нем час-другой и опять в гостиницу. И все пешком, даже извозчика не берут. Это как?
– А я откуда знаю! – Гриня пожал плечами, стараясь не показывать вида, хотя на самом деле было ему тревожно и неуютно, даже в груди захолодало, будто ледышку проглотил. Думал: «Пожалуй, и впрямь надо Шапкина послушаться и домой отправляться. Чего тут делать? Все, что дед велел, все исполнил. Завтра и поеду».
– Вот теперь знай! – будто очнувшись, подал голос Шапкин. – И еще, как говорится, последний гвоздь. Вчера меня на раскате лихач какой-то зацепил, крепко зацепил, со всей дури, аж ящик из саней вывалился. А в ящике… В ящике охнул кто-то! Человек там, хоть убей меня! Не товар в ящике возим, а человека! Вот и раскидывай своей головой, я тебе по десять раз втолковывать не буду. Ну, езжай, раз водку не пьешь, какой с тебя прок! А я вот еще хлебну маленько да и поговорю в свое удовольствие.
Он подвинул к себе глиняную кружку и принялся наливать водку, прищурив один глаз, будто прицеливался из ружья.
Гриня поднялся с лавки, нахлобучил шапку и толкнулся в двери, даже не попрощавшись. Уселся в сани, шлепнул вожжами, и конь, уставший за день, нехотя тронулся с места.
Короткий зимний вечер, подслеповато мигнув тонкой полоской заката, быстро наливался темнотой, скрывая дома, заборы да и саму улицу, редко-редко освещенную одинокими фонарями. Издалека, от станции, докатывались короткие гудки паровоза, и так же далеко, где-то на другой улице, словно отзываясь на эти гудки, слышался равномерный стук – это сторож, добросовестно отрабатывая жалованье, без устали бил колотушкой.
Чутко вслушиваясь в эти звуки, Гриня ехал по темной улице, и тревога не отпускала его, будто ледышка в груди не таяла и продолжала холодить. Все, что сказал ему Шапкин, представлялось сейчас пугающим и зловещим. Нужно было решаться – оставаться в городе или отправляться домой? Грине хотелось домой, однако торчала, как заноза, одна непонятность – чем же на самом деле Илья Самойлович, Леонид Павлович и баба Кармен занимаются? Неужели вся торговля у них для отвода глаз?
Когда Гриня подъехал к скорняковским мастерским, ответ на все вопросы явился сам собой: пожить в городе еще несколько дней, посмотреть, послушать, а умчаться в родную Покровку он в любую минуту успеет. Решив так, Гриня повеселел и даже вслух выговорил:
– Ничего, глядишь, и шерсти прихватим, и самого не остригут!
7
Ночью ему приснилась Дарья. Ласковая, податливая, она послушно отдавалась его жадным рукам и все спрашивала жарким шепотом:
– А чего это скрипит, Гриня? Слышишь?
Он, действительно, слышал протяжный скрип, который время от времени прерывался коротким железным звяканьем, но скрип этот совсем не тревожил, ведь Дарья была в руках – до скрипа ли!
Вдруг она хлестнула его по лицу и выскользнула из объятий, будто гибкая и упругая щучка. Гриня дернулся, пытаясь ее удержать, и проснулся. Ошалело повел глазами. В тесной каморке было темно, лишь мутно маячило маленькое оконце, затянутое снаружи ледком и припорошенное снегом. Гриня спустил с топчана босые ноги, уперся подошвами в холодный пол, окончательно просыпаясь, и лишь после этого снова различил протяжный скрип, который, оказывается, не приснился, а слышался наяву – за дверью. Гриня на ощупь нашарил спички, лежавшие рядом со свечкой на табуретке, чиркнул и, оберегая крохотный огонек в согнутой ладони, подошел к двери, неслышно ступая босыми ногами. В скудном шатающемся свете увидел: толстый кованый пробой, внутрь которого, закрываясь на ночь, он вставлял длинный гвоздь, медленно, со скрипом, уползал наружу. Кто-то выдирал его из косяка, сгибая гвоздь, орудуя снаружи не иначе как ломом, который время от времени со звяком переставлял. Ясно было – в каморку лезут незваные гости. Гриня бросил сгоревшую спичку, чиркнул другую и даже плечами передернул – ничего подходящего, чтобы отбиться, в каморке не имелось, даже полена. Тогда он снял с табуретки блюдце со свечкой, саму табуретку перехватил за ножку и встал сбоку двери; медлить было уже нельзя – пробой почти полностью вытащили.
Железные петли в свое время смазали щедро и по-хозяйски – двери, когда пробой вытащили, открылись неслышно. Согнувшись, чья-то темная фигура вошла в каморку, за ней – другая. Гриня, не дожидаясь, кто еще заявится, два раза со всей силой хлестанул табуреткой и выскочил на улицу, сжимая в руке один лишь толстый, деревянный обломок. Но там его ждали, навалились еще двое, пытаясь скрутить, однако, как говорится, не на того напали. Драться Гриня умел. На ногах устоял и оборонялся так, что гул пошел. В ярости он закричал во все горло, и крик этот, похоже, напугал ночных гостей больше, чем его проворные кулаки. Попятились, а скоро и вовсе ударились бежать к воротам. Гриня погнался за ними, но поскользнулся босыми ногами на утоптанной дорожке, растянулся во весь рост и даже проехался на животе. Вскочил, но в настежь раскрытых воротах уже никого не маячило. Кинулся к каморке. Там кто-то копошился, пытаясь переползти через крыльцо. Гриня, не раздумывая, приложился несколько раз кулаком, целясь в голову, и неизвестный послушно перестал шевелиться. Гриня полностью выдернул его на улицу, прихлопнул дверь и подпер ее подвернувшимся под руку железным ломиком, которым выворачивали пробой. Если в каморке кто-то остался, теперь не выскочит.
Фу-у-ух! Сел прямо в снег, не ощущая холода, и увидел, что к каморке с фонарями, с кольями бегут скорняковские работники. Проснулись… Первым подбежал запыхавшийся Савелий:
– Чего тут?! Чего случилось?!
Гриня коротко рассказал. Они открыли дверь в каморку, заглянули, светя фонарем, но каморка оказалась пустой. Тогда перевернули лежавшего, Савелий осветил его и присвистнул:
– Вот это птица! Гордей Гордеич!
– Какой Гордей? – спросил Гриня.
– Сынок хозяйский – Гордей Гордеич! Неужели до смерти прибил? Гляди, не шевелится!
Савелий поставил фонарь на снег, встряхнул лежащего, и тот, слабо мотнув головой, замычал.
– Живой! Таких за один присест не уторкаешь! – Савелий выпрямился и быстро скомандовал: – Лошадь быстрее запрягайте, на сани его. К хозяину поедем! И ты, Гриня, одевайся, поживее, расскажешь, чего и как…
Не прошло и часа, как в большом доме Скорнякова засветились все окна, забегала прислуга, бестолковая спросонья, и загремел, доставая до самых дальних углов, сердитый голос хозяина:
– Никакого доктора! Бычий хвост ему в ноздрю, а не доктора!
Тем не менее младшего Скорнякова расторопно занесли в одну из комнат, раздели, обмыли разбитую голову, перемотали, уложили на кровать. Он крутил глазами, видимо, плохо понимая, что с ним происходит и где он оказался. Поджимал от боли тонкие губы, а длинные, худые руки хватали и комкали края одеяла, словно он боялся, что это одеяло у него сейчас отберут.
Старший Скорняков, возвышаясь, как гора, смотрел на сына, и все его крупное, большое лицо кривилось, словно сунули в рот нестерпимой кислятины. Наконец сдвинулся с места, толкнул Савелия с Гриней, выпроваживая их из комнаты, и сам вышел следом, опустив тяжелые, широкие плечи.
Они прошли в другую комнату, где хозяин принимал Гриню в день приезда, и там, усевшись в деревянное кресло за просторным столом, Скорняков потребовал:
– Ну, рассказывайте – как все случилось?
Выслушал, не перебивая, и долго молчал, постукивая большим кулаком по зеленой материи столешницы. Савелий с Гриней переминались перед ним с ноги на ногу, а Скорняков продолжал тянуть молчанку и даже не смотрел на них, словно парней здесь и не было. Так, пустое место. Наконец разжал кулак и махнул широкой ладонью – ступайте.
Они пошли. На крыльце присели на высокую ступеньку, перевели дух и Савелий, хлопнув Гриню по коленке, с хохотком сообщил:
– Теперь, парень, требуй с меня, чего пожелаешь! Любой магарыч выставлю!
– С хрена ли загуляли? – усмехнулся Гриня, думая о своем. – Не до магарыча ему было нынче. Столько беды в одной охапке огреб, что не знал, как дотащить.
– А с того и загуляем, что ты, парень, мою мечту исполнил. Я сколько лет желал этому Гордею Гордеичу морду набить. До кровянки набить! Да только ручонки коротковаты… А ты раз – и в глаз! Аж завидно!
– Чем же он тебе так насолил?
– Долго рассказывать. Ты посиди тут, пойду у хозяина спрошусь – можно нам в мастерские отъехать или нет…
Вернулся Савелий быстро, сказал, что можно ехать в мастерские, и в ограде скорняковского дома они не задержались. Долетели по пустым ночным улицам одним махом. Двери каморки были распахнуты, в самой каморке горел фонарь и дремал, привалившись на топчане, пожилой работник.
– Мало ли чего, – объяснил он, – вдруг полицейские чины нагрянут, я и не прибирал ничего…
– Чины сюда не нагрянут, – перебил его Савелий, – хозяин в полицию заявлять не будет, не хочет он, чтобы огласка случилась. Скажи всем, чтобы языки за зубами держали. А теперь дров принеси и печку затопи, выстудили все… Давай живее, одна нога здесь – другая там!
– Ишь ты, раскомандовался, – недовольно буркнул работник, но дров принес и печку растопил. Сам Савелий сбегал на кухню, притащил большую белую булку и кусок масла.
– Подвигайся, Гриня, перекусим пока, а магарыч, как обещал, в другой день выставлю.
– Не буду я другого дня дожидаться, – как о деле решенном, твердо сказал Гриня, – я с утра пораньше домой поеду.
– А вот не поедешь ты никуда, Гриня. Велел тебе хозяин передать, чтобы ты не отлучался. И еще велел, чтобы людей этих, которые тебя наняли, исправно возил и ничего им о сегодняшнем не рассказывал. За это отдельная плата тебе будет – хорошая! Франтом приоденешься, когда в свою деревню явишься. И не вздумай ослушаться. Хозяин такой – если зуб на кого заимеет, обязательно до крови укусит.
– Лучше бы он сыночка своего кусал. Чего тот в свои владенья ночью, как ворюга, ломится.
– А он и есть ворюга – Гордей Гордеич.
– Погоди, это же сына так зовут?
– Верно. И сын – Гордей Гордеич, и папаша – Гордей Гордеич, и дед покойный у них был – тоже Гордей Гордеич. Я эту семью с малолетства знаю, все люди как люди, богачество свое трудом нажили. И младший Гордей не осевок какой, в гимназии учился, похвальный лист имел. Мы с им как друзья были. Его в Москву отправили торговым наукам учиться, а я шибко тосковал, все ждал, когда вернется. Он и вернулся, через два года, сказал, что на каникулы приехал. Ну, вроде бы как по-старому все. Даже на рыбалку раза два съездить успели. И вдруг у хозяина деньги пропадают, большущая сумма, и пропадают они из железного ящика, где он наличность хранит. И заявляет этот сыночек хренов хозяину, что будто бы видел, как я возле ящика крутился. А как я возле него крутиться мог, если не знаю даже, где хозяин от этого ящика ключ хранит. Клянусь-божусь, а мне не верят. И вышибли с позором. К кому ни пойду наниматься, никто не берет, дурная слава вперед прибежала – вор… Едва-едва на пристань приткнулся, баржи разгружать. Ну, разгружаю, радуюсь, что кусок хлеба имею, и вдруг вижу, по осени уже, идет по берегу хозяин мой – с лица черный, будто сковородка старая. Подошел ко мне, на колени встал и прощения попросил при всех грузчиках. Выяснилось, оказывается, кто деньги стырил – сыночек родненький. Он в Москве, как разузнали, к картежной игре пристрастился, проигрался там в прах и сюда сбежал. А здесь опять за карты, с жуликами связался, ну и пошло-поехало. Долгов наделал. Хозяин долги все отдал, сына из дома выставил, а передо мной покаялся и попросил, чтобы я на старое место вернулся. Подумал я, подумал и вернулся. Гордейка как напьется, так приходит к отцу и наследство требует, а тот его без разговоров с крыльца спускает. Так вот и живут теперь – война, да и только.
– А сюда он зачем полез, за деньгами? – удивлялся Гриня. – Да еще товарищей прихватил, будто я купчина и мошна у меня неподъемная.
– Вот и я голову ломаю – какая нужда его сюда притащила? Хозяин, похоже, догадывается, только молчит пока. Ладно, давай спать, вон уже светать начинает. А ты молодец, Гриня, приукрасил Гордейку – хоть в гроб клади. Я прямо душевное удовольствие поимел! А про дом свой пока забудь, не зли хозяина.
«Это он тебе хозяин, а мне никто, кочка на ровном месте», – подумал Гриня, однако вслух ничего не сказал. Съел кусок хлеба с маслом и лег на топчан. Савелий потеснил его, пристроился рядом, и они разом уснули, оставив незакрытой дверь каморки.
8
Выехал утром Гриня за ограду скорняковской мастерской, придержал своего коня и задумался: какую вожжу потянуть сейчас на себя – правую или левую? Если правую – прямая дорога домой, если левую – приедешь на улицу Туруханскую, где магазин «Парижский шик» и номера Сигизмундова. Ехать ему хотелось домой. Но Савелий, который стоял возле каморки и все видел, крикнул:
– Не дури, Гриня! Помни наказ!
«Да чтоб вас всех мухи съели!» – Гриня сплюнул на сторону и потянул левую вожжу. Конь весело пошел мелкой рысью – ему было все равно, куда тащить сани.
Вот пожарная каланча, вот улица Туруханская, а вот и номера Сигизмундова, где Гриню уже ждали. Перед входом нервно прохаживался по грязному истоптанному снегу Кулинич и поглядывал на часы, поддергивая рукав дорогого пальто с меховым воротником. Сразу же подскочил к саням, боком плюхнулся на разостланную волчью полсть, властно приказал:
– На Обдорскую улицу поезжай! Знаешь, где она?
– Нет, не знаю, – честно ответил Гриня, сразу вспомнив, что ему говорил про эту улицу Шапкин. Шапкин… А где он сам-то? Где его подвода? Гриня оглянулся вокруг – ни Шапкина, ни его подводы вокруг даже не маячило. Совсем чудно!
– Вон до того каменного дома и сворачивай! – продолжал командовать Кулинич, и голос у него был необычно злой и прерывистый. Еще чуднее! Обычно он говорил негромко и с добродушным хохотком, будто его постоянно смешили. А сегодня гляди, что делается, – грозный начальник, да и только. Гриня послушно поворачивал, куда ему приказывали, подгонял своего коня, и скоро они уже были возле старого, почерневшего дома-пятистенника, стоявшего на отшибе. Все верно говорил Шапкин! И предостерегал он, похоже, не напрасно. Но теперь уже поздно было поворачивать взад пятки, теперь беги вперед и смотри под ноги, чтобы не споткнуться.
– Жди меня здесь, я позову! – Кулинич выскочил из саней и бегом, развевая полы пальто, кинулся к дому.
Пробыл он там он совсем недолго, выскочил на крыльцо и махнул рукой, подзывая Гриню к себе. Тот привязал вожжи к передку саней, направился к крыльцу.
– А поживей нельзя?! – прикрикнул Кулинич.
Благоразумно помалкивая, Гриня поднялся на крыльцо, вошел в дом и сразу же за порогом остановился, будто его в лоб ударили. Посреди большой и пустой комнаты стояли два венских стула, а на них сидели Целиковский и Кармен. Одеты они были по-теплому, словно собрались в дальнюю дорогу, быстро, сердито о чем-то переговаривались между собой и сразу же замолчали, как только Гриня вошел. Поднялись со своих стульев, обнялись, и Кармен проскочила мимо Грини, обдав пахучим облаком духов, – только подол длинной синей юбки взвихрился. Кулинич повернулся, глядя ей вслед, что-то сердито прошептал себе под нос и смачно, со злостью, плюнул на пол.
– Прекрати, – тихим, едва слышным голосом остановил его Целиковский. От этого голоса Кулинич вздрогнул, как от громового крика, и сник, опустив голову, съежился, будто стал меньше ростом, а затем проворно, как мышь, кинулся в закуток за большой русской печью и вытащил волоком оттуда, ухватив за железную скобу, большой деревянный ящик, выкрашенный зеленой краской и обитый крест-накрест тонкими и узкими полосками железа. Закрыт был ящик на большой крепкий замок с толстой дужкой.
– Чего встал?! Помогай! Бери с другой стороны! – запыхавшийся Кулинич тащил ящик к порогу, и видно было, что ящик тяжелый. Гриня ухватился за вторую железную скобу, и они вдвоем доставили груз к саням.
Целиковский вышел из дома следом за ними, проверил, как установили ящик на санях, и произнес:
– Ты уж постарайся, все от тебя зависит, Кулинич…
Тот, не жалея своего дорогого пальто, втиснулся сбоку ящика, поерзал, устраиваясь удобней, и толкнул Гриню в плечо – поехали.
– Куда ехать-то? – Гриня повернулся к нему и уперся в злой, прямо-таки горящий взгляд своего седока. И это тоже было необычно – на самого себя стал непохожим сегодня Кулинич, будто переродился. Выкинул вперед руку и показал – прямо.
Ну, раз прямо, значит, прямо. Миновали Обдорскую улицу, дальше, согласно взмаху руки Кулинича, обогнули сухарный завод, возле которого в воздухе явственно пахло печеным хлебом, и лишь после этого последовало приказание:
– На тракт выезжай.
Здесь все знакомо, привычно. У Грини даже на душе стало легче, когда подумал он, что едет в сторону дома. Ровная, быстрая езда успокоила окончательно. Не любил Гриня терзаться долгими раздумьями и страхами – чего, спрашивается, загадывать и бояться раньше времени. Вспомнилась дедова поговорка: кому суждено под плетнем околеть, того до срока и колуном не зашибешь. Как он там, дед? Внука, наверное, ждет, а внук и знать не знает, когда вернется…
Повизгивали полозья саней на подмерзлом снегу, глухо хлопали бичи, тенькали под дугами колокольчики, иные ухари по-разбойничьи свистели, подстегивая коней и теша самих себя удалью, – обычной жизнью жил тракт, пролегший через длинные, заснеженные пространства. Все торопились, спешили по своим неотложным делам, и никому не было дела до одиночной подводы с двумя седоками и с большим деревянным ящиком, выкрашенным в зеленый цвет. Едут и едут, все куда-то едут…
Невысокое солнце быстро пошло на закат, съеживая и без того короткий зимний день, когда добрались они до постоялого двора. Кулинич, не сказавший за всю дорогу ни единого слова, вдруг коротко хохотнул, словно проснувшись, и прежним, веселым голосом известил:
– Прибыли! Устраиваемся на ночлег, заказываем самовар и спим в свое удовольствие. Слушай, а почему ты не интересуешься – куда едем, зачем едем? Даже не спросил ни разу.
– А чего мне спрашивать? – как можно равнодушней ответил Гриня. – Меня наняли, я и вожу, куда скажут…
– Молодец, верно говоришь, – Кулинич снова хохотнул и, потягиваясь, раскидывая руки, выбрался из саней. Лицо у него сияло, даже русая бородка топорщилась, будто испытывала удовольствие, как и ее хозяин.
Устроились на постоялом дворе без долгих проволочек. Коня Гриня поставил в конюшню, где ясли доверху были набиты пахучим сеном, сани закатил под навес, а деревянный ящик они вместе с работником затащили в чистую, просторную комнату, имевшую отдельный вход, и пристроили возле окна.
– Ну, благодарю за службу. Теперь ступай ужинать, после у хозяина спросишь, он тебе место покажет, где спать. Утром дальше поедем. – Кулинич довольно хохотнул и принялся снимать с себя пальто.
Ужином Гриню накормили, место указали на деревянной лавке в углу, и он сразу же лег на нее, укрывшись своим полушубком, не слушая, о чем говорят ямщики и возчики, которые тоже укладывались на ночлег. «Надо настороже быть, – подумал Гриня, – если и спать, то в половинку глаза…»
Но в половинку не получилось, как он ни сторожился, а все равно крепко уснул.
Да и то сказать – прошлая ночь выдалась бедовой, и день нынешний прошел не веселее, весь в тревогах. Правда, сначала Гриня пытался не давать себе поблажки, лежал с открытыми глазами и мучился от зевоты, чутко прислушиваясь, что происходит вокруг; хотя прислушиваться особой нужды не было: кашель да храп мужиков, умученных дальней дорогой. Устав прислушиваться, он закрыл глаза и – как в яму провалился, даже вздрогнуть не успел. Поэтому не сразу очнулся от жаркого, прямо в ухо, шепота:
– Гриня, слышь меня, просыпайся…
Вскинулся, не понимая, где находится, но сильная рука ухватила за плечо, придавила к лавке, а в ухо – шепот:
– Не дергайся, это я, Савелий… Проснулся? Ступай за мной, только тихо…
Гриня окончательно вытряхнулся из крепкого сна, признал голос Савелия и поднялся с лавки; на ощупь обул валенки, перебросил через руку полушубок и неслышно, по-кошачьи, выбрался следом за Савелием на крыльцо. Соскреб сухой колючий снег с перил, шлепнул его полной пригоршней на лицо, растер с силой, и в глазах сразу прояснило. Увиделся просторный двор в ярком лунном свете, крыльцо, а самое главное – увиделся Савелий, который стоял перед ним, неизвестно откуда взявшись – будто с неба свалился. Сам же Савелий молча ухватил его за руку, потащил за собой под навес, где стояли сани. И только там торопливо заговорил, вывалив сразу кучу новостей:
– Шапкина угробили прошлой ночью, до смерти. Хозяин узнал и сразу меня за тобой следом отправил. Кинулся я, да чуток припоздал, вы уже к этому домишку на Обдорской поехали. Ну, а от домишка этого я уже следом за вами тащился.
– А где ты был, я тебя не видел? – удивился Гриня.
– Где, где? В гнезде! Ты же пока ехал, ни разу не оглянулся, голова садовая, а я по сторонам посматривал. Как на тракт выехали, за вами сразу тройка пристроилась, три мужика в кошевке. Как привязанные тянулись, до самого постоялого двора. А пока ты щи хлебал да спать укладывался, они вместе с твоим седоком на ночлег определились, все в одной кучке.
– Слушай, Савелий, а чего это хозяин погнал тебя за мной, с какого квасу? Я ему не родня…
– Родня – не родня, я не знаю. Одно только понял – в каморку к тебе те же самые варнаки приходили, которые Шапкина угробили. Это, видно, Гордей Гордеич сыночка своего тряхнул, тот и сознался. Вот потому и отправился я с наказом, чтобы тебе голову не проломили. А еще мне наказано узнать, если получится, о чем эти варнаки разговоры разговаривают…
– Ага, иди и постучись к ним, скажи, желаю, мол, послушать вас и все помыслы ваши выведать, – не удержался и съехидничал Гриня, правда, высказал это не от веселости, а от тревоги, которая цепко обняла его и не отпускала. При всем своем упрямстве в обыденной жизни имелась у Грини и своя борозда – чувство опасности. Именно оно выручало его во многих деревенских драках, когда внезапно будто кто невидимый подсказывал – оглянись. Он оглядывался – а там уже кулак летит. Вот и сегодня, словно получив такую подсказку, Гриня всерьез встревожился и уяснил для себя – в суровый переплет он попал, и голову ему могут проломить запросто, как Шапкину. Правда, полностью оставалось непонятным главное – по какой причине? Вот эту причину Гриня и желал узнать. А узнать ее можно было только от людей, которые сидели сейчас в отдельной комнате и разговаривали разговоры – видно было из-под навеса, что в комнате горит свет, значит, не спят странные постояльцы. Но как к ним подобраться – неизвестно. Потому и съехидничал, посоветовав Савелию пойти и постучаться.
Но тот его ехидный совет пропустил мимо ушей, будто не услышал. Только шапку потуже натянул на голову и спокойно, как малому дитенку, принялся объяснять:
– Стучаться к ним, Гриня, – себе дороже. Да и голова у меня не казенная, чтобы под топор ее подставлять. Хитрее надо придумать. Пока ты дрых тут без задних ног, я маленько огляделся, в разные места заглянул. Значит, так, эти отдельные комнаты, их пять штук, они в один ряд выстроены. Дверь, сама комната, дальше, если прямо смотреть – стена. Вот в этой стене и весь фокус – она смешная, из досок, потому что за ней коридор на кухню. Там варят-парят и две печи здоровущие стоят, тепла хватает, потому и стены в одну дощечку. Теперь понял?
– Да не дурнее тебя, – отозвался Гриня, – только как мы в этот коридор попадем? На ночь, поди, все на замки закрыто.
– Все, да не все! – Савелий покровительственно похлопал его по плечу. – Снимаем сейчас валенки, пойдем босыми, чтобы снег не хрупал. Я вперед, ты за мной. Там сторож на заднем крыльце дремет, я ему косушку поднес, думаю, не скоро проснется. Вот мимо сторожа, как мышки, проскочим и в коридор. Ну а как в досках дырку найти, я пока не придумал… Вот и разбудил тебя, может, чего дельного подскажешь… Может, у тебя в санях гвоздодер завалялся?
– Гвоздодера у меня нет, а вот топорик имеется. – Гриня, в отличие от Савелия, был серьезен и шутки шутить не собирался. Его обычное упрямство взыграло сейчас в полной силе, и он знал наперед, что не успокоится, пока не услышит собственными ушами, о чем разговаривает Кулинич с приехавшими к нему людьми.
– Тогда тащи свой топор, пойдем, если не трусишь… Быстрей тащи! – поторопил Савелий.
Долго искать топор не потребовалось, он на днище саней лежал, под сеном. Скоро, без слов понимая друг друга, парни скинули валенки, размотали портянки и босиком, след в след, проскользили до заднего крыльца, минули похрапывающего сторожа и оказались в узком длинном коридоре, в конце которого, на кухне, подслеповато горела лампа и слабые, тусклые отсветы лежали на полу.
Загнул, конечно, Савелий, когда говорил, что стена смешная, из дощечек. Толстенные плахи были намертво приколочены коваными гвоздями, длиннющими, если судить по шляпкам, которые размерами своими не уступали пятаку. Тут и с гвоздодером едва ли управишься, а уж с топориком… До утра можно дырку прорубать, пока все постояльцы не сбегутся…
Незадача.
Парни в растерянности стояли перед стеной и не знали, что делать.
Гриня тоскливо поднял вверх голову и обомлел – под самым потолком поблескивало стеклом оконце, совсем махонькое – головы не просунуть. Да большое им и не требовалось, они же не собирались в комнату залезать. Савелий, когда ему Гриня показал на оконце, сразу все понял. Присел, Гриня взгромоздился ему на широкие плечи, будто в хорошем седле устроился, Савелий выпрямился, и вот оно – оконце. Отогнуть топориком гвоздики и вынуть стекло – дело плевое. Осторожно, сбоку, Гриня заглянул в проем и увидел внутренность комнаты.
За столом сидели Кулинич и Целиковский, третий человек, в торце стола, располагался спиной к оконцу, и лица его разглядеть было невозможно. Виднелась лишь всклокоченная шапка темных волос с густой проседью, похожая на воронье гнездо. Больше в комнате никого не было. «Савелий сказал, три мужика ехали в кошевке, а где еще один?» – Но едва лишь Гриня подумал об этом, как ему стало не до подсчетов, потому что зазвучал тихий, едва различимый голос Целиковского:
– Все, Кулинич, договорились. Сейчас прихлопнут этого мужичка, и мы сразу же выезжаем. Рассвет в дороге подождем. А дальше – прямой дорогой, и будет у нас, если глупостей не наделаем, полная чаша счастья. Спроси еще раз – он точно места вспомнил? Не начнет путаться?
Кулинич поднялся из-за стола, наклонился над лохматым человеком, что-то прошептал ему, и тот закивал головой, а затем, помолчав, произнес хрипло и певуче:
– Вижу путь! Все вижу! Почему не едем, мне быстрее надо!
Кулинич еще что-то прошептал и погладил лохматого человека по плечу, словно хотел успокоить. Тот, отзываясь, снова покивал головой и замер неподвижно, опустив плечи.
И в этот момент дверь комнаты настежь распахнулась, будто выстрелила крутящимся морозным клубком, из этого клубка вышагнули два мужика, и оба держали в руках по паре валенок. «Наша обувка!» – беззвучно охнул Гриня. Валенки полетели на пол, а мужики, словно каждому из них к горлу нож приставили, испуганно, перебивая друг друга, заговорили, и пока они говорили, Целиковский медленно поднимался из-за стола, все глубже и глубже засовывая ладони в карманы брюк. Рывком их выдернул, и в свете лампы тускло блеснули два револьвера. Гриня из торопливых и путаных слов, сказанных мужиками, понял лишь одно – искали они его, Гриню, но не нашли, наткнулись лишь на валенки, валявшиеся теперь на полу.
– Ящик, быстро! – по-прежнему тихим голосом скомандовал Целиковский. – Мужичка найти, он где-то здесь, прихлопнуть, и сразу уезжаем. Быстрее! Где он может прятаться?
– Сторожа спросим, на заднем крыльце сторож должен быть. Сейчас, мигом!
Мужики выскочили из комнаты, в самой комнате поднялась суматоха, и ясно стало, что больше ничего услышать не удастся, теперь бы ноги унести. Савелий замешкался, не понимая, почему Гриня размахивает руками, наконец до него дошло, он присел, Гриня соскочил на пол, показывая на выход – бежим! Но было уже поздно, на крыльце зашумели, стукнула дверь, и тогда парни, не сговариваясь, кинулись в сторону кухни, на блеклый свет лампы. Заскочили, прижались в угол за печью, а по коридору уже стучали быстрые, торопливые шаги – ближе, ближе. И тогда Гриня, не раздумывая, запустил топориком в лампу, она жалобно звякнула, и всю большую кухню разом заглотила темнота. Парни бросились на ощупь, ударились в мужиков, отчаянно отмахиваясь кулаками, сшибли кого-то на пол, и легкие, как ветер, вылетели на крыльцо, бросились к конюшне, где стояли их кони, думая лишь об одном – успеть бы, заскочить, да хоть за гриву уцепиться.
Но возле конюшни уже мелькали чьи-то тени, а у входа в комнату, почти впритык, стояла тройка, запряженная в кошевку; видно, ее не распрягали, и находилась она где-то неподалеку, чтобы появиться в нужный момент, как в сказке. Никого возле тройки не было. И парни разом, в три больших скачка, долетели до кошевки, рухнули в нее, схватились за вожжи, и тройка, застоявшаяся на морозе, понеслась, почти без разгона, будто выпущенная из тугого лука. Вслед запоздало стукнули несколько глухих выстрелов, но они лишь подстегнули коней. Ветер засвистел в ушах. Дорога терялась в темноте, куда ехать – было неясно, и надежда оставалась только на коней – лишь бы вывезли, а в какую сторону – не важно.
Опамятовались и пришли в себя, когда уже отмахали от постоялого двора не одну версту. Придержали коней, прислушались – погони не было.
– Оторвали от шубы рукава! – Савелий дурашливо засмеялся и хлопнул Гриню кулаком по спине. – А ты, парень, удалой, не валенок деревенский!
– Лучше бы валенком, – угрюмо буркнул Гриня, – ноги-то отморозим!
И только сейчас Савелий вспомнил, что они остались босыми. Спрятал ноги глубже в сено, но холод их все равно пощипывал, тогда он оглянулся, надеясь отыскать в кошевке какую-нибудь тряпку, и присвистнул:
– А эта беда откуда? Гляди!
Гриня тоже обернулся – в задке кошевки, мутно темнея в рассеивающихся потемках, стоял знакомый ему ящик.
– Погоди-ка, – передал вожжи Савелию, подполз на четвереньках, пошарил рукой – замка на ящике не оказалось, видно, в суматохе не до замка было. Откинул крышку и отшатнулся – из ящика показалась всклокоченная голова, и хриплый, протяжный голос известил:
– Путь вижу, не ошибусь. А почему встали? Я же говорил – бор сосновый клином в поле выходит, его обогнуть надо и налево, а там одна дорога – до самой деревни, Покровка называется…
Гриня замер в растерянности над ящиком, не в силах произнести ни одного слова. Это что же получается? Выходит, он все дни человека в этом ящике катал, а тюки материи, в бумагу завернутые, для отвода глаз рядом лежали! А еще – откуда это чучело дорогу до Покровки знает, называя точную примету, и по какой надобности Кулинич с Целиковским в Покровку собирались? Пересказывать все это Савелию он не стал – после, не сейчас, а сказал, помолчав, твердо, как о деле решенном:
– Домой едем, в деревню, там нас никто не достанет, там и разбираться будем – чего и почему…
– Едем, едем, быстрее едем, – поторопила всклокоченная голова и скрылась в ящике, – крышку опустить не забудьте.
– Закроем, только подстилка у тебя шибко богатая, бока отлежишь. – Савелий обеими руками залез в ящик, вытащил оттуда широкий кусок толстой материи, сложенной в несколько раз, разорвал ее; быстро, ловко навернул, как портянки, на ноги, и оставшиеся две половины протянул Грине. – Примерь обувку, а то пальцы отвалятся.
Гриня отказываться не стал – босые ноги леденели.
Поздним утром, когда уже поднялось яркое, морозное солнце, они въехали в Покровку.
Глава четвертая
1
Дед Владимира Гиацинтова был крепостным у помещика Сулахина.
Вот уж кривая судьба вдоволь над мужиком посмеялась: мало того, что пребывал он в горьком звании, так еще и помещик ему достался – ни украсть, ни покараулить. Выйдя с военной службы в отставку и приехав в свое наследственное имение, в котором уже почили, с разницей в один год, его родители, Сулахин очень огорчился от скудных доходов, от серого и убогого сельского вида, от дурного вкуса домашних настоек и наливок – если сказать коротко, все ему не понравилось в изменившейся линии жизни. И решил он эту жизнь украсить цветами – затеял строительство большущей оранжереи. Выписал агрономические журналы, семена и даже ученого садовника из Санкт-Петербурга. А всех крестьян, которых он отобрал для строительства оранжереи, Сулахин наградил чудными фамилиями, доселе здесь неслыханными: Розовы, Фиалковы, Георгиновы… Дед стал Гиацинтовым.
Но закончилась диковинная затея очень скоро. Оранжерея, еще не достроенная, рухнула, ученый садовник, не дождавшись обещанного жалованья, сбежал, семена не взошли, цветы не распустились, но зато остались фамилии и еще немалые долги Сулахина. Но тот не успокоился, занял у соседей денег и решил заняться коневодством, но из этого начинания также получился громкий пшик, лишь увеличивший долги. Много еще чего пытался Сулахин строить, выращивать и даже сомов разводить в старом пруду – кругом осечка. В конце концов разорился в прах. И принялся тогда выбивать недоимки со своих крестьян. Собственноручно выбивал, кулаками. Деду, как иным прочим, тоже не один раз доставалось. Но мужику надоело получать оплеухи, он сел в своей избенке на лавку, задумался крепко и – придумал! Явился вскоре к Сулахину и выложил перед ним конскую упряжь – узда, шлея, вожжи… И все эти изделия с медными блестящими наклепками, с ажурно выкованными колечками, крепкой дратвой, мелкими стежками, прошитые, играли, светились, будто яркие бусы, предназначенные для нежной девичьей шеи, а не для коня. Сулахин смотрит и не понимает – какая с этих украшений польза?
А вот какая, терпеливо разъяснял ему дед, надо с этой сбруей съездить в уездный город, где конный полк стоит, и показать ее господам военным. Вдруг поглянется? Если поглянется да если деньги за нее платить станут, дед таких изделий нашьет на три полка. Сулахин, конечно, ни одному слову не поверил, деда обозвал дураком, но долги подпирали, будто нож под горло, и он, поразмыслив, схватился за эту упряжь, как тонущий человек хватается за любую веточку – лишь бы под воду не уйти. Взял с собой деда и отправился вместе с ним в полк. Упряжь военным понравилась. Ее тут же купили и еще заказали.
Пошло дело!
Через пять-шесть лет Гиацинтов мог не только за себя, но и за всю деревню, которая теперь на него работала, недоимки заплатить. Да что там недоимки! Он теперь и самого Сулахина мог купить со всем его имением и с потрохами. Еще несколько лет прошло, и в деревне настоящая шорная фабрика появилась. Две дочери Гиацинтова замуж ушли, на сторону, а сын Игнат оставался при отце и родительское наследство крепко забирал в руки, приумножая его год от года.
Сулахин помер, пресытившись от спокойной жизни наливками, Гиацинтовы получили вольную и, развернувшись в полную силу, перебрались в Москву, где старший из них тихо и спокойно ушел на восьмом десятке в иной мир, успев еще дождаться двух внуков – старшего Антона и младшего Владимира.
Братья с самого рождения уже иной жизнью жили: сначала их дома учителя учили, затем они оба гимназию закончили, правда, Антон, получив похвальный лист, вставил его в рамку под стекло, повесил на стену и сказал: в Библии написано, что многие знания умножают скорбь, правильно написано… И впрягся в отцовское дело, как ломовой конь. Владимир все по-иному решил: заявил, что слышать даже не желает о коммерции, а желает изучать изящные науки – историю и филологию. И поступил в университет. Родитель ему не препятствовал, потому как, схоронив к тому времени тихую и безответную супругу, он перебрался в отдельный домик, где и проводил большую часть времени в молитвах. Скончался он, стоя на коленях перед иконами.
Досталось братьям Гиацинтовым от упокоившегося родителя огромное наследство: три шорных фабрики, склады, магазины, и, соответственно, немалые деньги. При таком соблазнительном раскладе в купеческих семьях частенько случались нестроения: ссориться начинали из-за наследства, а порою и враждовать, не на жизнь, а на смерть. Братья Гиацинтовы решили все тихо и мирно, полностью доверяясь друг другу: налаженное, прибыльное дело дробить не стали, оно полностью, в целом виде, находилось в руках Антона, а Владимир со своей доли получал деньги на жизнь, не зная отказа. Учился он легко, играючи, университетское вольнодумство его не прельщало: пару раз побывав на шумных студенческих сходках и послушав зажигательные речи о свободе, он пришел к выводу, что действо это чрезвычайно скучное; но молодая, буйная энергия требовала выхода, и выход этот появился сам собой: случайно Владимир познакомился с молодыми офицерами из гвардейского полка, быстро с ними сдружился и стал без устали совершенствоваться в конных скачках и в стрельбе, совершенно забросив учебу в университете, которая не прельщала его теперь никоим образом.
Манифест о войне с Японией был воспринят Владимиром с великой радостью – он расстался с университетом, получил погоны вольноопределяющегося и отправился на театр военных действий, прихватив с собой винчестер, полученный в подарок за честную победу над англичанином. Антон, провожая его на вокзале, молчал, ничего не говорил, только отворачивался время от времени и украдкой вытирал слезы – братья, при всей своей разности характеров, очень любили друг друга.
И вот теперь, встретившись после долгой разлуки, в родном доме, они сидели вдвоем за столом, и Владимир рассказывал Антону о своих злоключениях, которые выпали на его долю. Рассказывал совсем не так, как полковнику Абросимову – по-военному четко и коротко, а подробно и обстоятельно, будто заново переживал и японский плен, и долгие скитания.
Антон внимательно слушал, ничего не переспрашивая, теребил короткими сильными пальцами окладистую русую бороду и лишь изредка кивал головой. За прошедшее время, пока они не виделись, старший брат заматерел, огрузнел, и даже походка у него изменилась: ходил медленно, осторожно, будто всякий раз нащупывал под собой опору, боясь оступиться.
– Теперь, братец, давай выпьем за окончание моей одиссеи, а дальше я тебя кое о чем поспрашиваю… – Владимир поднял рюмку с золоченым ободком, и Антон, чокаясь с ним, добавил:
– За твое возвращение, Володя, и за твоего Федора, дай ему Бог здоровья. Поговорил я с ним, пока тебя ждали, чистая душа у парня… Ладно, чтоб все печали миновали!
Они выпили, и Владимир, отодвинув от себя тарелку, спросил:
– Ты слышал, Антон, про Союз русского народа? Что это такое? Я ведь ничего не знаю… Правда, читал в газетах…
– Тарелку-то подвинь на место и закусывай, вон как исхудал – одни мослы торчат. А что про твой Союз – врут в газетах, я их теперь и в руки даже не беру. Тут ведь в Москве такое творилось, в девятьсот пятом году, – хоть святых выноси! Вышел царский Манифест – всем свобода, и «пошла гулять ивановская». Читали не читали этот Манифест, одно лишь из него поняли – власти нет. А раз власти нет, делай что желаешь и чего твоей душе угодно. К моему компаньону какие-то орелики ночью с наганами в дом залезли и подчистую все выскребли – деньги, золотишко, какое было; раньше это грабеж назывался, а теперь – экспроприация. На нужды революции. Портреты Государя рвать стали, городовых средь бела дня убивали. А власть руки растопырила, смотрит и ни бе ни ме ни кукареку сделать не может. Войска послали, когда уж полное светопреставление началось. Вот и схлестнулись, русские с русскими, будто с японцами, да где? В Москве! Дожились… Тут же настоящая война была. Теперь посуди – мне такая война нужна? Нет, не нужна. Она даже моему кучеру не нужна, ему ногу какой-то лиходей из нагана прострелил. Просто так, без причины, выстрелил и убежал. А парень хромым на всю жизнь остался. Вот народ и сомкнулся, чтобы самого себя уберечь. Только боюсь я, что Союз этот долго не продержится, не мытьем, так катаньем сотрут его…
– Почему сотрут? – быстро спросил Владимир. – Деятельность Союза сам Государь поддерживает, даже телеграмму, говорят, прислал доктору Дубровину!
– Прислал, – согласился Антон, – и делегацию еще принимал, изъявляя всяческую поддержку. Да только имеется одна закавыка – вокруг Государя нашего видимо-невидимо людей, которые ждут не дождутся, когда они сами в стране хозяйствовать будут, без Государя. Разбогатели сверх всякой меры, теперь им власть подавай. Зачем им народ объединенный нужен? Такой народ им не нужен! Им только помощники нужны, а в помощниках – чиновничество да депутаты с газетчиками; они, значит, на одном краю находятся, а на другом – революционеры с передовым еврейским отрядом. Разные, казалось бы, люди, а цель у тех и у других одна. Вот с двух сторон они Союз и порушат, как главную преграду к своей мечте-идее, раскатают, как тесто по сковородке.
– Ты так говоришь, будто сам в Союзе состоишь.
– Нет, Володя, не состою, а не состою по той причине, что ясно вижу – не будет победы. Будет только поражение. Но, по силе возможности, когда просят, помогаю. А к чему ты этот разговор завел? От политики, насколько помню, всегда шарахался, хоть и в студентах пребывал, а те бузотеры известные.
– Да вот… – Владимир развел руками, – похоже, я в этот Союз вступил, хотя толком еще не разобрался… Разберусь, тогда все тебе расскажу. А теперь, пожалуй, пойду спать. Ты уж извини, брат, очень спать хочется.
– Ступай, Володя, ступай, в твоей комнате все как было, ничего не трогали.
Действительно, все вещи в комнате лежали на старых местах, книги стояли на полках, в углу – две гири-пудовки, на письменном столе – чернильный прибор из позеленевшей от времени бронзы и большая фотография семьи Гиацинтовых в деревянной рамке: дед, родители и два брата, тогда еще очень похожие друг на друга, с одинаково распахнутыми, удивленными глазами. Владимир долго любовался на фотографию и думал: «Как же тогда все было хорошо – просто, ясно и счастливо…»
Вздохнул и передвинул фотографию на край стола.
Уснул он сразу же, но очень скоро проснулся, словно его кто толкнул, и долго лежал с открытыми глазами, не понимая причины своего внезапного пробуждения. Так и пролежал почти до самого утра, заново переживая события последних дней, которые несли его, как поток, не давая времени остановиться и подумать. «Многие знания – многая скорбь», – вспомнилось неожиданно, и Гиацинтов успокоился, решив для себя просто и ясно: если дело, которое ему поручено, не вызывает внутреннего отторжения, значит, его нужно просто делать, а не рассуждать о непонятных материях. И даже не вспоминать о них. А вспоминать и думать следует только о Варе. Он закрыл глаза, увидел ее – смущенную, улыбающуюся, в легком платочке, с милыми кудряшками, выскочившими из-под этого платочка, увидел так явственно, что даже руки протянул, чтобы обнять, но руки уперлись в пустоту, и тогда он сжал кулаки, ударил ими в пухлое одеяло и произнес в темное пространство комнаты:
– Я не для того выживал, Варенька, чтобы потерять тебя. Найду… Ты потерпи еще немножко, совсем немножко потерпи…
2
Дом у Гиацинтовых был большой и основательный: каменный, на крепком фундаменте, в два этажа, под железной крышей и с балконом, украшенным коваными решетками. Двустворчатые двери, выходившие на балкон, на зиму еще не заделывали, и Федор с раннего утра неслышно проскользнул в них, оперся на влажное от изморози железо и замер, увидев долгожданное счастье: над московскими улицами наконец-то закружился снег. А снега Федор давным-давно не видел, наскучался по нему и теперь по-ребячески протягивал руки, ловил растопыренными ладонями снежинки, смотрел, как они тают, и обтирал холодной влагой лицо, будто умывался. Что-то шептал на родном языке, снова ловил снежинки и даже внимания не обращал, что на балкон выбрался в одной нижней рубахе с распахнутым воротом – не холодно ему было.
Владимир, потеряв его, забеспокоился: времени оставалось совсем в обрез, в десять часов они должны были быть у Абросимова на квартире. Наконец, отыскав Федора на балконе и увидев его влажное, счастливое лицо, он все понял и расхохотался:
– Хватит, Федор, хватит! Вот сейчас в одно место съездим, а после будем снежную бабу лепить! Вот такую бабищу слепим!
– Баба – хорошо, – блаженно улыбался Федор, – снег тоже хорошо, еще лучше. Володя, а Володя, слушай меня, снег лучше!
– Слышу, слышу! Конечно, лучше! Собирайся, торопиться нам надо.
Федор вздохнул, еще раз вытер лицо влажными ладонями и нехотя вошел в дом, аккуратно прикрыв за собой двери.
Завтракали они вдвоем, потому что Антон рано утром уехал по делам, наказав передать, что вернется лишь к вечеру и что для разъездов в распоряжении у брата будет пролетка с кучером, которая наготове стоит у крыльца.
– Вот и славно! Хорошее утро – снег идет, пролетка ждет, поедем, заодно и на Москву полюбуемся. Федор, хочешь по Москве покататься?
– Нет, не хочу, – и даже помотал головой, которая была теперь аккуратно подстрижена, – я в тайгу хочу.
– Подожди, родной, будет тебе тайга. А пока на Москву любуйся.
Но любоваться на Москву Федор не пожелал. Сидел в пролетке, молчал, и узкие глаза его были плотно прищурены. Он видел чум, дымок над его островерхой макушкой, слышал легкий перестук оленьих рогов, и казалось ему, что едет он не на пролетке, а скользит на легких нартах по свежему снегу, вокруг – все родное, знакомое, и нет ни каменных домов, ни многолюдья, а все его мытарства по дальним землям просто-напросто приснились. Вот встряхнет он сейчас головой, сбросит с себя наваждение, и забудется дурной сон, растает в небе, как легкий дымок, поднимающийся над чумом. Федор встряхнул головой, открыл глаза – узкая московская улица текла, как река, между каменных берегов, шумела, спешила, и не было ей никакого дела до отдельной пролетки, которая катилась в ряду других, и уж тем более не было никакого дела до отдельного человека.
Федор сердито прошептал что-то на родном языке и снова закрыл глаза.
Пролетка между тем подкатила к дому, где жил Абросимов. Дверь в квартиру, как и в прошлый раз, открыла миленькая горничная и сразу провела гостей в комнату, где на диване, на высоких подушках, полулежал Москвин-Волгин и улыбался во весь рот, показывая белые крепкие зубы. На колене здоровой ноги он держал тетрадь, что-то записывая в нее длинным карандашом синего цвета.
– Что, сочиняем великий роман нового века? – поинтересовался Гиацинтов.
– Увы, мой друг, увы, – Москвин-Волгин весело хохотнул и поднял карандаш вверх, – великие романы пишут великие люди, а мы так себе – газетные поденщики, вечные подносчики свежих новостей, которые забываются навсегда уже на следующий день. А хотелось бы написать большой роман и даже переплюнуть графа Толстого.
– Переплюнешь, я убежден. Как только псевдоним сменишь, так сразу переплюнешь! – Гиацинтов снисходительно улыбнулся и спросил: – А где Абросимов?
– Утром приехал Сокольников, ничего не объяснил, пообещал, что расскажет по дороге. Забрал Абросимова, Речицкого, и все отбыли, как по тревоге. А я нахожусь под присмотром милого создания и записываю глупые мысли, которые никак меня не покидают.
– Карандаш, пожалуй, маловат, да и тетрадка у тебя слишком тощая – не хватит их на все мысли, которые тебя обуревают, – продолжал улыбаться Гиацинтов, – как нога?
– Нога как нога, даже сгибается, а вот по поводу мыслей и твоей ехидности… Когда я стану великим писателем и под старость начну писать мемуары, нигде тебя не упомяну!
– Слава Богу, я не буду отягощать вечность своим присутствием. Ладно… Что, будем ждать?
– А чего нам остается? Только ждать. Федор, да не стой ты истуканом, садись, где нравится! Если хочешь, подремать можешь. Чайку не желаете?
– Благодарствуем. Скажи, почему они так поспешно уехали? – Гиацинтов, сам не зная, по какой причине, не мог избавиться от чувства тревоги.