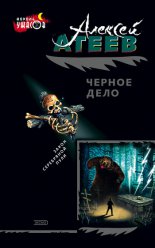Покров заступницы Щукин Михаил

– Честно – не знаю. И гадать не буду. Давай ждать.
Ждать пришлось долго. Сокольников, Абросимов и Речицкий вернулись только после полудня. Не раздеваясь, они вбежали в комнату, Абросимов быстро достал из шкафа стопку чистой бумаги, вытряхнул на стол карандаши из деревянного пенала, а Сокольников резко, отрывисто скомандовал:
– Пишем все, что запомнили! Вопросов не задавать!
Гиацинтов и Москвин-Волгин недоуменно переглянулись;
Федор, увидев перед собой командира полка, вскочил со стула и вытянулся, словно в строю, руки по швам, а затем тихонько, на цыпочках, вышел из комнаты и в коридоре присел на корточки, как спрятался. Сразу вспомнил старое солдатское правило: подальше от начальства – легче служба.
Первым закончил писать Сокольников, отложил карандаш, перечитал написанное и молча стал дожидаться, когда закончат свою работу Абросимов и Речицкий. Последний, левой рукой, писал дольше всех. Но вот и он с силой поставил жирную точку, сломав графит, и виновато улыбнулся, словно нерадивый ученик, допустивший оплошность.
– Сейчас я все это читаю, и затем попробуем составить общую картину. Прошу не мешать и не разговаривать. – Сокольников собрал листы со стола в одну стопку и склонился над ними, будто заглянул в глубокий колодец, пытаясь разглядеть – что там, в темноте, на самом дне, виднеется?
Все остальные сидели в молчании, терпеливо ждали. Через распахнутые двери слышалось, как на кухне негромко постукивают тарелки и льется из крана вода. Наконец Сокольников перевернул последний лист и прихлопнул его ладонью; поднял голову, медленно оглядел всех по очереди, словно хотел каждого запомнить, и облегченно вздохнул:
– Картина начинает проясняться, господа. Извините, добрый день, Владимир Игнатьевич, в спешке даже забыл поздороваться. Полковник, я попросил бы вас закрыть двери, а человека, который в коридоре, и прислугу – на кухню, нет, лучше отправьте их погулять.
– Я Федору полностью доверяю!
– Не сомневаюсь, Владимир Игнатьевич. Но лучше сделать так, как я говорю. Извините.
Абросимов вышел. Скоро стукнули двери, и он вернулся.
– Итак – что мы имеем и чего мы не имеем? – продолжил Сокольников и снова прихлопнул ладонью перевернутый лист, который лежал перед ним. – Имеем следующее… Самый первый рапорт исправника Обрезова, в котором он писал о Феодосии, предсказывающем грядущие события, в бумажном потоке не затерялся. Более того, открою секрет – я сам, находясь еще при исполнении, наложил на этот рапорт первую резолюцию. Впрочем, обо мне отдельно и позднее. Далее. Согласно этой резолюции, за Феодосием было установлено негласное наблюдение. И скоро оказалось, что новоприбывший больной, вольноопределяющийся Забелин, доставленный с театра военных действий, установил с ним очень тесные и доверительные отношения. Как раз в это время я был от службы отстранен, и все дальнейшее происходило без моего участия. Вот это дальнейшее мы и попытаемся сейчас восстановить.
– Но почему Обрезов не получил ответа на свой рапорт? – спросил Москвин-Волгин. – Ведь он ясно пишет в своей тетради, что устроили лишь нагоняй!
– Все правильно. Я так приказал, чтобы не было лишнего шума и чтобы вокруг этого дела не болтались лишние люди, – быстро ответил Сокольников и, помолчав, попросил: – Наберитесь, господа, терпения, я на все вопросы обязательно отвечу, только позднее. Далее цепь событий выстраивается в следующем порядке: Забелин и Феодосий из больницы исчезают, а через некоторое время, согласно донесению неизвестного нам агента, проходящего в охранном отделении под кличкой Валет, в одной из боевых организаций эсеров появляются два новых члена, а именно – Забелин и Феодосий. Второй, как следует из донесений, является лишь приложением к первому. Что можно получить от больного человека? Но нужен он им позарез именно как предсказатель. Одна любопытная деталь – Феодосий попросил отвезти его в Сибирь, в известное ему место, и там якобы провидчество его достигнет высшей степени. Конечно, есть основания думать о том, что все это является бредом, воспаленным сознанием больного человека. Да только возникает большое «но». Валет передает в охранное отделение несколько предсказаний Феодосия, судя по датам, передает их заранее – и они все сбываются! Вот в это время боевая организация, желая до поры до времени сохранить все в строжайшей тайне, и начинает «зачищать хвосты», а именно открывает охоту на несчастного Обрезова, которого убивают, а заодно, вместе с ним, и доктора Перетягина – концы в воду! Насколько я знаю, охранное отделение на такое убийство не пойдет, значит, постаралась боевая организация. Вполне возможно, что и Москвин-Волгин нечаянно угодил тоже к ним. Хотя… Точного ответа у меня сейчас нет. А теперь – самое главное. Последнее донесение Валета, дословно: «Решение принято. В ближайшие дни выезжают в Никольск». Значит, они уже в Никольске. Надеюсь, что призывать вас к исполнению долга не потребуется, да и времени у нас на лишние разговоры нет. Первыми в Никольск поедут Гиацинтов и Речицкий, мы с Москвиным-Волгиным прибудем, как только он встанет на ноги.
– Я должен взять с собой Федора, – твердо, голосом, не допускающим возражений, произнес Гиацинтов.
– Хорошо, я согласен, – кивнул Сокольников, – только не посвящайте его в тонкости нашего предприятия. А сейчас, господа, опережая ваши вопросы, постараюсь кратко объясниться, чтобы никаких недомолвок между нами не оставалось. Мое звание – штабс-капитан. С полковником Абросимовым мы знакомы с детства, доверяем друг другу полностью и безоговорочно, иначе бы я здесь, как вы понимаете, не находился. Служил в охранном отделении. В разгар смуты, не согласуя с начальством, которое пребывало в полной растерянности, запустил печатные станки подпольных типографий. После обысков их свозили в одно место, там они и стояли без дела. Я нашел людей, и мы начали печатать контрреволюционные листовки, тексты для них, по моей просьбе, писал господин Москвин-Волгин. Дальше получилось печально. Донос о моем самоуправстве улетел в Петербург и вызвал страшный гнев. Тихо, без огласки, меня отправили в отставку. Но истинная подоплека отставки, как я теперь понимаю, связана была именно с делом, о котором мы сейчас говорим. Я слишком много узнал из того, что мне знать не следовало. После отставки я пришел в Союз русского народа. Пришел с одной целью – создать боевую организацию, такую же, как создают наши враги. Кое-что удалось сделать, но это совсем мало. Не хватает людей. Поэтому обратился к полковнику Абросимову, а он мне порекомендовал вас, господа, тем более что недоразумение между вами благополучно разрешилось. Я закончил, жду ответа. Согласны вы или нет?
Гиацинтов и Речицкий встали и молча кивнули.
– Вот и славно. Не мешало бы нам подкрепиться, время-то к вечеру. Господин полковник, позовите в дом свою горничную, пусть нас чем-нибудь порадует.
– А это, простите, откуда? – Москвин-Волгин показал на листы, которые все еще лежали под ладонью у Сокольникова. – Я не совсем понимаю…
– Это, Алексей Харитонович, прежде всего, ваша заслуга. Я отдал тетрадь, которую вы вчера, можно сказать, в бою добыли, а мне из охранного отделения вынесли на пятнадцать минут нужные бумаги. Вот мы их втроем, каждый свою часть, и прочитали, а затем записали, хотя все прочитать не успели, тем не менее знаем сейчас, в какую сторону двигаться.
– Да разве такое возможно?! – удивился Москвин-Волгин. – Из охранного отделения!
– Возможно, Алексей Харитонович, – усмехнулся Сокольников, – только для этого нужно пятнадцать лет там прослужить, ничем себя не запятнав перед соратниками, ну и… иметь в руках драгоценную тетрадку! А больше ничего не скажу, извините.
«Никольск, Никольск… – радостно думал Гиацинтов, – там – Варя! Ехать, ехать, прямо сейчас же ехать!»
– Владимир Игнатьевич, – словно прочитав его мысли, обратился Сокольников, – нам еще надо отдельно поговорить о Варваре Нагорной. Если ее руки добивался именно Забелин и требовал выдать какое-то наследство, думаю, что это не случайное совпадение. Как вы считаете?
3
Как он считает?
Да никак!
Лишь запоздало жалеет о том, что в свое время, бесконечно счастливый от любви, которая захлестывала его полностью, без остатка, он рассказывал всем, кто его окружал, какой он удачливый и везучий человек, ведь красивее, чем Варя, в Москве ни одной девушки не имеется. И так он красноречиво, так искренне говорил, что даже усмешек не замечал. Но были, оказывается, и такие, кто не усмехался. Впрочем, и последнего обстоятельства Гиацинтов тоже не замечал. Поэтому и внимания не обратил, когда увязался за ним однажды сокурсник Костя Забелин, сказавший, что заключил с товарищами пари на две дюжины пива. Он считает, что избранница Гиацинтова, действительно, красивая девушка, а они – сомневаются. Смех, шутки-прибаутки, но пари, как оказалось, действительно было заключено, и следом за Забелиным к нему пристроился представитель противоположной стороны – добродушный увалень Корнеев, отличавшийся редкостной честностью. Он никогда никому ничего не мог соврать, даже если его к этому принуждали.
В назначенный день всей троицей они отправились на Большую Ордынку, где Гиацинтов и Варя договорились встретиться. Была уже весна, середина мая, молодая листва на деревьях зеленела по-особенному ярко, а над землей плыл запах цветущей черемухи, кусты которой напоминали пенные шапки. И под стать этому буйству чистоты и яркого, чистого цвета, еще не тронутого ни жарой, ни пылью, оказалась и сама Варя, хотя было на ней лишь серенькое платьице с коричневым передником. Но так сияли изумительные глаза, такой доброжелательностью светилось ее милое лицо, так приветливо и тепло звучал негромкий голос, что казалось – она светится. Ярче, чем молодая зелень, ярче, чем весенний день.
Гиацинтов представил Варе своих однокурсников и гордо, снисходительно на них поглядывал, вполне довольный: Корнеев простодушно и искренне стоял с открытым ртом, а Забелин, опустив голову, смотрел исподлобья и быстро-быстро, словно мышка, кусал длинный стебелек травы, случайно сорванный под старой липой.
Пари Забелин выиграл, потому что Корнееву безоговорочно поверили, две дюжины пива были без промедления выпиты, и, казалось бы, наступил конец всей истории – посмеялись, пошутили да и забыли. Нет, не тот случай на этот раз выпал. Не закончилась история, она лишь начиналась.
Через некоторое время Гиацинтов с немалым удивлением обнаружил, что всякий раз, когда он отправляется на свидание с Варей, где-то неподалеку, буквально по пятам, за ним следует Забелин. Сначала подумал, что совпадение, но когда это повторилось в третий раз, он взял, без всяких предисловий, однокурсника за грудки:
– Ты чего вынюхиваешь, Забелин? Почему за мной следишь? Что тебе надо?
И получил ответ, от которого опешил и даже руки опустил:
– Отдай мне Варю! Я ее люблю, жить без нее не могу! Я деньги заплачу, какие скажешь, все сделаю, только отдай! Я…
Надо было, конечно, дослушать Забелина, но молодая горячность не дозволила этого сделать. Кулак опередил все мысли. Избитого в кровь Забелина однокурсники едва-едва спасли от разъяренного Гиацинтова.
После драки они не разговаривали, не здоровались при встречах, сторонились друг друга, и лишь взгляды, которыми изредка пересекались, все объясняли красноречивее слов. Как это часто бывает в жизни, от унижения до ненависти дорога не длинная, вот и Забелин прошагал ее очень быстро. Он даже на войну, следом за Гиацинтовым, отправился, подталкиваемый именно этой ненавистью. Наверное, надеялся, что соперника убьют, а, может быть, надеялся и сам убить при удобном раскладе. Но самому убивать не потребовалось, необходимый случай упал в руки, как манна с неба, и Забелин этот случай использовал полностью – не оплошал.
– Не оплошал, – еще раз повторил Гиацинтов и отвернулся к вагонному окну, за которым тянулось бесконечное снежное поле. Он уже раскаивался, что рассказал свою печальную историю Речицкому, – не следовало бы так откровенничать. Но жалеть было поздно, да и дальняя дорога, беспрерывный стук вагонных колес, чистый уют купе и распечатанная бутылка шустовского коньяка располагали к откровенному разговору – вот и не удержался. И все равно теперь злился, сосредоточенно глядя в окно, словно желал увидеть там нечто неожиданное и незнакомое. Но картина простиралась прежняя – поле, снег и вдалеке, едва различимо, мутно виднелись очертания небольшой деревеньки.
– Вы зря огорчились, Владимир Игнатьевич. – Не торопясь, со вкусом, Речицкий пригубил коньяку и продолжил: – Это не слабость, это естественное, человеческое желание – поделиться тем, что накопилось в душе.
Гиацинтов резко обернулся, взглянул на Речицкого. Этот поручик все больше и больше удивлял его – мудрый, как старик, и чрезвычайно догадливый, словно умел читать чужие мысли. И одновременно – спокойный, рассудительный, казалось, что никакие обстоятельства не смогут вывести его из себя. Не удержался, спросил:
– Позвольте полюбопытствовать – где вы обрели так много житейской мудрости? По возрасту совсем молоды, а по поступкам и манерам – будто век прожили!
– Не думал я никогда об этом, Владимир Игнатьевич, да и мудрость мою вы явно преувеличиваете. Просто… Бог его знает! Живу и живу и над философскими вопросами не задумываюсь – не люблю я философских вопросов, честное слово!
– Вы странный человек, поручик, у нас в России каждый второй непременно философ. Даже пьяница в кабаке и тот свою философию выстраивает – по какой причине он пьет. Просто так ему пить неинтересно.
Речицкий засмеялся, взял бутылку коньяка и, разливая, попросил:
– Ну что же, выстраивайте свою философию, Владимир Игнатьевич. Иначе у нас обыденная выпивка получается. Говорите тост.
– Нет уж, увольте, обойдемся без высокопарных слов, выпьем молча.
Они выпили, и оба, не разговаривая, долго смотрели в окно, за которым по-прежнему тянулось и тянулось снежное поле.
Пошли уже вторые сутки, как Речицкий и Гиацинтов с Федором выехали из Москвы. Впереди их ждал неведомый Никольск и полная неизвестность. Где и каким образом искать Забелина, они не знали, и даже первоначального плана действий у них не имелось. Правда, Сокольников снабдил письмом от Союза русского народа, адресованным некоему Скорнякову, возглавлявшему местное отделение в Никольске, но Гиацинтов и Речицкий мало надеялись на это письмо, потому что ясно осознавали – розыск им придется вести самим, ни на кого не полагаясь. Больше надеялись на предписание из Скобелевского комитета, которое смог себе выхлопотать Речицкий. Согласно этому предписанию поручик направлялся для сбора статистических данных и выяснения нужд увечных воинов, а это значило, что он имел возможность входить в различные учреждения, в первую очередь в городскую управу. Но и это обстоятельство, если задуматься, тоже не сулило им особого успеха.
Однако никакого уныния они не испытывали, более того, коротая длинную дорогу за разговорами, начинали проникаться симпатией и доверием друг к другу, и оба были твердо уверены, что с делом, которое им поручили, без сомнения, справятся.
Федор, почти не слезая со своей полки, к их разговорам не прислушивался и занимался двумя делами: либо спал, либо лежал с закрытыми глазами и тихонько, едва слышно, тянул длинную-длинную мелодию, представляя себе, что едет не на грохочущем железном поезде, а на нартах; едет по знакомой тайге, и олешки, взметая снег быстрыми ногами, раскидывают в морозном воздухе клубочки пара…
В Никольск московский поезд прибыл, нарушив расписание всего лишь на полтора часа. Стоял зимний полдень, скрипел мороз, невысокое солнце красило вокзал, паровоз и вагоны розовыми отблесками, вспыхивало на стеклах. Дышалось, несмотря на холод, необыкновенно легко. Прибывших пассажиров сразу же окружили извозчики, наперебой стали зазывать, каждый в свою кошевку; Гиацинтов и Речицкий остановили выбор на молодом расторопном парне, который обещал устроить в самые лучшие номера, какие имеются в городе, а еще обещал господам приезжим исполнить любые желания, если таковые появятся. Схватил чемоданы и поспешил, не забывая оглядываться, на привокзальную площадь.
Скоро они уже поселились в приличном номере гостиницы, имевшей название с большой претензией – «Метрополь». Времени терять не стали. Разложили вещи и, оставив Федора в номере, спустились вниз, где на улице терпеливо дожидался молодой извозчик.
По дороге словоохотливый парень подробно, с прибаутками, рассказывал о Никольске и о том, что город этот, выросший на пересечении Оби, железной дороги и сухопутного тракта, давно уже обскакал ближайших соседей, потому что новый народ съезжается сюда со всей России, и народ этот в своем большинстве цепкий и хваткий.
– Я тут намедни одного господина подвозил, так он все удивлялся и говорил, что мы прямо по-американски живем, даже лучше, потому что у нас воздух здоровее. А чего не жить? Если рот варежкой не разевать, на хлеб с маслом всегда заработаешь, а кто оборотистый да с искрой в голове, те и капиталы сколачивают. Маслом, зерном торгуют, мельницы в пять этажей ставят, а уж про магазины и говорить нечего – у нас теперь на каждом углу магазин, и еще строят…
Парень и дальше бы говорил-рассказывал, желая понравиться своим седокам и рассчитывая получить от них хорошую денежку, но Речицкий перебил его ознакомительную речь и спросил:
– А скажи, братец, известен тебе такой купец, по фамилии Скорняков? Чем он знаменит?
– Гордей Гордеич-то?! Конечно, известный! Он как раз на Семеновской живет, куда мы едем. Крепкий купец, крепкий, но не скупердяй, народ у него в мастерских не жалуется. Да вот беда, сынок с вывихом, съездил в Москву учиться – как сглазили! Хоть и говорят, что яблоко от яблони, а тут это яблоко на целую версту укатилось. Ну вот, сейчас налево поворачиваем, а там и Семеновская – вам какой дом, господа, нужен?
– Ты на углу останови, братец, дальше мы сами прогуляемся, воздухом подышим, тем более что лучше он, чем американский, – усмехнулся Гиацинтов.
– Лучше! Правда, в Америке я не бывал, а все равно – лучше! Приехали! Вот она, Семеновская, прямехонько тянется, не заплутаете…
Расплатившись с извозчиком, они медленно пошли вдоль по широкой улице, застроенной крепкими и просторными, каменными и деревянными домами. Беглого взгляда было достаточно, чтобы определить – люди здесь поселились зажиточные, и обустраивались они основательно, на долгие годы. Основательность эта проглядывала в монументальных, высоких воротах с железными кольцами, в брандмауэрах[14], берегущих от пожара, в ажурной резьбе деревянных наличников и даже в петушках и флажках, вырезанных из жести и венчающих печные трубы.
– Благодать, да и только, – вздохнул Речицкий, – не желали бы домик здесь прикупить, Владимир Игнатьевич?
– Нет, не желаю. Давайте так, поручик, договоримся. Если кто-то из нас почувствует, что дело пошло плохо, при любом намеке на опасность, тот сразу встает и начинает раскланиваться, ссылаясь на нехватку времени. Уходим без задержек, а письмо обязательно забираем с собой. И, разумеется, ни единого слова об истинной цели нашего приезда.
– Последнее, Владимир Игнатьевич, совершенно излишне, могли бы не говорить.
– В нашем положении, поручик, любая осторожность не излишня.
– Согласен, возражений по данному поводу у меня нет. Кажется, мы пришли. Дом номер четырнадцать. Полюбуйтесь…
– Некогда любоваться, поручик. С Богом. Пошли.
4
Неожиданных гостей Скорняков принял радушно. Не успели они и глазом моргнуть, как в большой комнате накрыт был парадный стол, и хозяин, не слушая возражений, усадил их по правую и левую руку от себя, принялся угощать, а распечатанное и прочитанное письмо небрежно сунул под большое круглое зеркало, стоявшее на комоде. Так сунул, будто показать хотел, что никакой важности оно для него не имеет. Как и подобает хлебосольному хозяину, Скорняков предлагал отведать то одно, то другое блюдо, собственноручно подвигая тарелки гостям, не забывал подливать в хрустальные рюмки водочки, настоянной на бруснике, и всякие попытки Гиацинтова и Речицкого начать серьезный разговор прерывал плавным взмахом широкой, растопыренной пятерни:
– Всему свой срок и свое время, господа хорошие. А сначала, по нашему обычаю, гостей накормить и угостить требуется. Вот еще свеженинки из медвежатины отведайте, хорошая свеженинка, или вот пирожка рыбного откусите, из нельмы пирожок, сам во рту тает… А может, вам с дороги баньку изладить? Банька у меня знатная, такой в столицах не найдете, из кедра срубленная… Ну, как угодно… Раз не желаете, насильно мил не будешь…
Радушие Скорнякова выглядело несколько преувеличенно, и Гиацинтов, изредка переглядываясь с Речицким, никак не мог понять: хитрит хозяин или чересчур простоват? Ведь должен понимать, что не ради застолья они сюда прибыли, проехав почти половину Империи. Попытался вернуть разговор к письму, в котором содержалась просьба оказать им помощь и содействие, если таковые потребуются, но хозяин снова растопырил пятерню и отмахнулся:
– Да куда ж вы так спешите, гости дорогие?! Никто за вами не гонится! Отдыхайте, пейте, ешьте, у нас в Никольске жизнь неторопливая, обстоятельная, а вы – все дела да дела… Придет час, и до дела доберемся… К слову сказать, где остановиться изволили? В «Метрополе»… Ну-ну… Есть у наших доморощенных воротил кривая загогулинка – назовут кабак или постоялый двор с этакой претензией на парижскую моду, а тараканов вывести не могут. Или того хуже – клопы. Сущее бедствие! Клопы-то есть в номере?
– Еще не огляделись, – ответил Гиацинтов, – вещи оставили и сразу к вам приехали. Позвольте прямой вопрос, Гордей Гордееевич, вам задать – мы можем рассчитывать на вашу помощь?
– А я все сижу и думаю, когда же вы меня уговаривать начнете? – Скорняков перестал размахивать растопыренной пятерней, сжал кулаки и увесисто поставил их перед собой на край столешницы, помолчал и, помрачнев, добавил: – Ну, начинайте.
– Простите, почему мы должны вас уговаривать? – спросил Речицкий.
– Да хватит в кошки-мышки играть, – не меняя мрачного выражения лица, Скорняков прищурился, и сжатые кулаки глухо стукнулись в край столешницы. – Я ведь прекрасно понимаю, дорогие господа, зачем вы сюда приехали – не в бане же париться! Говорите сразу – под чьей рукой находитесь и под чью руку склонять будете? Господина Пуришкевича[15] или доктора Дубровина?[16] Или, может, там, в Москве, у вас еще какие вожди объявились, о которых мы тут, в глухомани, и слыхать не слыхали? Да что же это такое делается? В кои веки объединились, силу свою почуяли, и на тебе – разругались, как сноха со свекровкой, все горшки вдребезги переколотили да еще и двери настежь расхлебянили – послушайте, как мы тут собачимся! Тьфу! А мы ведь тут, в глухомани-то, на Москву с надеждой поглядываем, а она смотри, какие коники выкидывает! Хотя… погодите. Погодите одну минутку!
Он быстро, по-юношески легко поднялся из-за стола и стремительно вышел из комнаты. Вернулся с толстой книгой в руках, в которой было множество закладок, быстро нашел нужную страницу и медленно, четко выговаривая слова, начал читать:
– В том щекотливом состоянии Сибири, весьма обширно обхваченной малой горстью русских, легко чувствовать, каким сомнительным помышлениям предавались градоначальники ея в смуту и потом в междуцарствие. Перевороты царственные носились над главами, как неожиданные тучи над горами Уральскими; новые лица, как кровавые столпы северного сияния, выступали, двигались, блистали холодным светом и сменялись… О, град православных, венец славы, веселие всей земли, что сделалось с тобою?! Такова звезда Сибири, что, несмотря на остановку военных подкреплений, снарядов и провьянта, из Соли Вычегодской, Вятки и Перми с десятого января тыща шестьсот девятого года, тщетно поджидаемого, до тыща шестьсот тринадцатого года, несмотря на болтливость беглых простолюдинов, как газет, распространявших уныние, несмотря, что из приказов редко насылались кой-какие разрешения с прописанием имен, при Царском титле повелительных, держава Русская в Сибири не помрачалась. Отдадим справедливость правителям Сибирским, которые, не поддаваясь ни слухам, ни внутренним или внешним покушениям, единодушно пребывали верными долгу, скипетру и отечеству, не терпели крамольных толков, не выводили также покоренных иноплеменников из терпения, хотя и не все были чисты на руку[17]. – Скорняков передохнул, громко захлопнул книгу, так, что иные закладки вылетели и, покружив, опустились на пол; обвел суровым взглядом своих гостей и поднял вверх указательный палец могучей руки: – Вот как, милые мои, сказано – не помрачалась держава! А для того, чтобы не помрачалась, требуется всем вместе держаться. Вы же там, в Москве, разругались вдрызг и к нам теперь едете, уговаривать, чтобы и мы поцапались, зад об зад стукнулись да и разбежались! Негоже это, не дело! Так и передайте, при случае. Я в Никольске союз никому дробить не позволю!
Скорняков замолчал, раздувая ноздри и собираясь с мыслями, чтобы продолжить свою речь, но Гиацинтов ловко воспользовался паузой и успел подать голос:
– Ошибаетесь, Гордей Гордеевич, мы совсем по другому поводу сюда прибыли. И уговаривать вас не собираемся. Если честно, нас эти междоусобицы совершенно не касаются. У нас к вам конкретное дело и заключается оно в следующем…
Речицкий под столом незаметно толкнул ногой Гиацинтова, давая знак – не торопись. Но Гиацинтов даже внимания не обратил на это предупреждение. Речь Скорнякова напомнила ему выступление Сокольникова в абросимовской квартире, и вдруг ясно и четко решил для самого себя: этим людям можно доверять. Было в них одно, общее – твердая убежденность в том, что они правы. Не наигранная, не изображаемая на публику, а глубоко внутренняя убежденность, которую, как говорится, и колом не вышибить. Гиацинтов ее чувствовал и, чувствуя, уже ни в чем не сомневался и не опасался подвоха.
Четко, по-военному коротко, он пересказал Скорнякову суть дела.
Гордей Гордеевич выслушал его, разжал кулаки и, помолчав недолго, сказал просто, будто жирную точку поставил:
– Чем смогу – помогу. Дня через два сам вас найду. Далеко не отлучайтесь.
5
Любое дело, за которое брался Гордей Гордеевич Скорняков, он исполнял истово и всегда доводил до конца. Или не брался вовсе. Так он был с малолетства воспитан отцом, который любил повторять пословицу-поговорку, сочиненную им самим:
– Лучше пальцем в носу ковырять, чем дело на середине бросить: из ноздри хоть соплю достанешь – все польза.
Отцовские уроки маленький Гордей усвоил накрепко. И если лежали перед ним десять заячьих шкурок, с которых требовалось мездру соскоблить, он трудился над ними, не прерываясь, даже в том случае, если глаза слипались и спать хотелось неимоверно. Терпел. До тех пор, пока все десять шкурок, чистеньких и выскобленных, не повесит на место для просушки. И дальше, взрослея и крепче становясь на ноги, он никогда этому правилу, усвоенному еще в детстве, не изменял.
Большое свое хозяйство, в которое входили мастерские, мясохладобойня и несколько лавок, он объезжал либо обходил самолично едва ли не каждый день, не полагаясь на своих приказчиков и помощников, и горе было для работников, если цепкий его взгляд, от которого, казалось, ничего нельзя скрыть, замечал непорядок либо плохо сделанную работу. Под горячую руку, находясь в сердитом состоянии духа, Гордей Гордеевич мог и оплеуху отвесить – за ним не заржавеет. Но зла на него никто не держал, потому что все знали прекрасно – зазря, без причины, он не то что руку не поднимет, но и слова никогда не скажет.
Жил не таясь, открыто, любил принимать гостей по праздникам и щедро их угощать, а еще любил в застолье петь своим громовым басом старинную песню про Ермака – «Ревела буря, гром гремел…» и, допевая последние слова, неизменно утирал широкой ладонью нечаянно выскочившую слезу.
Размеренная и строгая жизнь Гордея Гордеевича круто изменилась осенью девятьсот пятого года, когда вспыхнули в Никольске невиданные, со дня основания города, беспорядки. Начались они с забастовки железнодорожников, которые бросили работу и начали проводить собрания; речи на этих собраниях с каждым разом становились все громче и смелее, иные ораторы уже в открытую призывали: лишить жизни проклятое царское правительство, если колено на груди, души же его до смерти! К железнодорожникам потянулась учащаяся молодежь, типографские, а чуть позже, когда появился Манифест, и другие любители свобод и зажигательных речей. Городская власть и полиция, еще вчера грозные и, казалось, крепкие, как кирпичная кладка прочной стены, растерялись, ничего толкового предпринять не могли и только распространяли объявления, в которых пытались увещевать озлобленных людей, обращаясь «с убедительной просьбой не посещать некоторое время собраний и не собираться большими группами на улицах – во избежание всяких столкновений, влекущих за собой человеческие жертвы». Но этих просьб уже никто не слышал, а объявления воспринимались, как слабость и готовность идти на уступки. Дальше – больше. Как при пожаре, который не был затушен вовремя и пошел полыхать во все стороны. У митингующих появились револьверы, и вот уже, размахивая этими револьверами, особо буйные пришли на Базарную площадь и разогнали всех торговцев. Кричали: у нас забастовка, никто не работает, и вы не работайте! После Базарной площади двинулись дальше, по магазинам, угрожая разнести их к чертовой матери, если они в сей же час не закроются. Хозяева начали вешать на двери своих магазинов пудовые замки. А буйные устремлялись дальше – в мастерские, на лесопильные и кирпичные заводы, и везде речи были одинаковы: бросай работу, иначе разгромим либо подожжем. Явились такие орлы и в мастерские к Скорнякову. Но тут горячие речи наткнулись на встречные, не менее горячие: а кормить нас кто будет, вы, что ли, горлопаны?! И завязалась драка. Агитаторов избили, отобрали два револьвера и гнали по улице, под свист и улюлюканье, до самой Туруханской улицы.
В тот же день в управлении железной дороги собралась, как было сказано, городская общественность и объявила, что создает свою охрану, чтобы добиваться свободы и защищаться от произвола таких темных личностей, как Скорняков, которые собирают черную сотню и готовят погромы, чтобы убивать всех евреев…
Сам Скорняков ничего этого не знал, потому что был в отъезде. Вернулся домой только к вечеру и ошалел от услышанных новостей. Не поверил и сам отправился к управлению железной дороги. А там уже из окон выбрасывали трехцветные флаги и царские портреты. Один из таких портретов, изодранный и с отпечатками сапог, едва не упал на голову Гордею Гордеевичу, и хорошо, что не упал, – рама была большая, тяжелая, пробила бы голову, как пить дать.
Он поглядел на эту раму, на изодранный портрет, осмотрелся вокруг и не увидел ни одного городового.
А толпа буйствовала.
Тогда он круто развернулся и пошел домой. Велел Савелию заложить кошевку и до глубокой ночи объезжал мастеровую и торговую часть Никольска. Стучался в запертые уже дома, вызывал хозяев, разговаривал с ними коротко и строго, согласия или обещания не требовал, а спешил дальше.
На следующий день Богоявленский собор, самый большой в Никольске, не смог вместить всех, кто пришел на молебен. Огромная толпа стояла за пределами собора и молилась. А затем, подняв хоругви и портреты государя, распевая «Боже, царя храни…» двинулась к управлению железной дороги. Но едва она приблизилась, как из окон раздались револьверные выстрелы, кто-то пронзительно завизжал, а лавочник Лазуткин, который ничего не видел, потому что кровь ему заливала лицо, тыкался в толпе и кричал: «Убили!» И, похоже, крик его, и окровавленное лицо подействовали сильнее, чем десятки самых безрассудных речей. Толпа взорвалась, как взрывается заряд, когда всего лишь одна искра вонзается в порох.
Управление железной дороги подожгли сразу с нескольких сторон. Здание окружили, и всех, кто пытался спастись, выпрыгивая из окон или выбегая через черный ход, – всех подряд били смертным боем. Скорняков метался, пытаясь остановить людей, но его никто не слышал да и не хотел слушать. И он, срывая голос от крика, запоздало и с отчаянием понимал: поднять людей легко, а повести их правильно и толково – очень тяжело.
Только через три дня власть очухалась, вспомнила, что она власть, и начала наводить порядок.
А Скорняков, уже сомневаясь в способностях этой власти, создал в скором времени Никольское отделение Союза русского народа. И отдавался этому делу полностью, без остатка, будто отрабатывал заданный урок – если требуется очистить десять заячьих шкурок от мездры, значит, десять и будет очищено. И ни одной меньше.
Его ругали в газетах, обзывали обидными кличками, а он даже внимания не обращал. Да и некогда ему было – он дело делал. Открыл вместе с товарищами детский приют, больницу для бедных, вывел на чистую воду двух чиновников из городской управы, которые за подношения особо благоволили евреям-торговцам, кассу взаимопомощи создал, без процентов, чтобы любой работящий человек в трудную минуту мог получить поддержку, не влезая в кабалу, – многое успел сделать Гордей Гордеевич Скорняков, кроме одного… И заключалось это одно, не сделанное им дело, в том, что не наставил он на путь истинный собственного сына. И чуял, нутром чуял, что между приездом неожиданных гостей из Москвы и непутевым Гордеем тянется какая-то ниточка, пока еще невидная, непонятная, но – тянется.
…Проводив гостей, Скорняков взял ключ, спустился в подвал, где под замком сидел сын, открыл тяжелую дверь и встал на пороге. Гордей, увидев отца, вскочил с узкого топчана, зачем-то отошел в угол и вздрогнул, будто его бичом ударили, когда услышал суровый отцовский голос:
– Рассказывай… Все рассказывай… Игрушки, Гордей, кончились, не посмотрю, что сын мне…
6
За Обью, на своих семейных покосах, Матвей Петрович лет пятнадцать назад срубил избушку, сложил в ней немудреную печурку, нары сколотил, стол и приспособил вместо табуреток березовые чурки. Не очень казисто, конечно, получилось, но зато было где от дождя укрыться да и переночевать, если возникнет такая надобность. В последние годы на этих покосах не косили, перебравшись на новые угодья, а избушка стояла до поры до времени заброшенной.
И вот пригодилась…
Сюда, в избушку, пробившись по высокому уже снегу, приехали Матвей Петрович и Гриня, привезли на санях зеленый ящик. Савелий к этому времени, получив новые, еще не разношенные, катанки, похлебал горячих щей на скорую руку и умчался в город, весело и бесшабашно оскалившись напоследок:
– Ну и начудили мы делов с тобой, Гриня! Будет о чем хозяину рассказать! А тройка-то досталась лихая! Теперь с ветерком буду на ней кататься!
– Ты гляди, как бы они тебя на тракте не перехватили, – предостерег Гриня.
– Еще чего! Я этот постоялый двор за десять верст объеду! Не поймают, я изворотливый!
Савелий умчался, а Матвей Петрович, предупредив сына, что вернется не скоро, отправился вместе с Гриней к дальней избушке.
Приехали, откидали снег, затопили печку, занесли зеленый ящик, открыли крышку, вытащили на божий свет странного, всклокоченного человека. Был он невысокого ростика, с огромной копной темных волос, крепко побитых сединой, с жиденькой пегой бородкой на узком, скуластом лице.
– Ты кто таков? – спросил его Матвей Петрович.
Большие, с красными прожилками на белках глаза незнакомца засверкали, показалось даже, что из них искры посыпались, он шагнул к печке, протянул к теплу руки в меховых рукавицах и быстро-быстро заговорил, срываясь на радостный крик:
– Вижу! Все вижу! Я теперь сам найду, знаю, где искать! Я пошел! – Он развернулся, направился к порогу избушки, но Гриня проворно заступил ему дорогу и остановил, крепко ухватив за плечи.
Человек вскинул на него сверкающие глаза, попытался вырваться, но Гриня держал крепко. Тогда он обмяк под его сильными руками, съежился, будто стал еще меньше, прошел к столу, сел на чурку и мгновенно уснул.
– Говори, кто таков? – Матвей Петрович склонился над ним, заглянул в лицо и отшатнулся, будто его палкой ударили.
– Ты чего, дед? – подскочил к нему Гриня. – Худо тебе?
– Погоди, погоди, – отмахнулся Матвей Петрович, – погоди, Гриня, дай в себя приду.
– Да чего случилось-то?
– А вот то и случилось… Не думал, не гадал, что таким макаром аукнется… Ладно, не трогай его, пусть спит. А ты мне расскажи – как его сюда доставил, какие вести из города привез?
Гриня обстоятельно и толково доложил деду обо всем, что случилось в городе. Матвей Петрович слушал его, кивал головой, будто соглашался с тем, что говорил ему внук, а когда выслушал, вынес свое решение:
– Значит, так сделаем… Ты езжай домой, скажи там, чтобы скоро меня не ждали, а я здесь останусь. Дня через два наведайся, харчей прихвати да поглядывай там, в деревне, чужие люди появятся или нет?
– Дед, боязно мне оставлять тебя с этим малахольным, мало ли что на уме у него!
– Что у него на уме, я знаю. Не бойся. Делай, как велю.
– Ну, смотри. Может, я пораньше, завтра приеду?
– Завтра не приезжай. Через два дня. А теперь положи его на лавку, пусть спит.
Гриня, уже ничему не удивляясь и даже ни о чем не расспрашивая деда, перенес странного человека на лавку, уложил и, подбросив дров в печку, вышел из избушки. Матвей Петрович, провожая его, долго смотрел вслед, пока подвода не исчезла за дальними тополями. Постоял еще и нехотя потянул на себя старенькую скрипучую дверь избушки. Вошел, придвинул чурку поближе к лавке и склонился над спящим человеком, внимательно разглядывая его при тусклом свете, падавшем из маленького оконца. Протянул руку, приподнял растрепанные волосы с густой проседью и увидел у него на лбу тоненький, извилистый шрам. «Моя метка… Как тавро на лошади поставил, до самой смерти носить будет…»
Вздохнул, перекрестился и вслух произнес:
– Приходи теперь, вместе полюбуемся…
И та, которую он позвал, пришла.
Чутко, осторожно перешагнула через порог, замерла, чуть приподняв голову, словно прислушиваясь, и долго молчала.
Молчал и Матвей Петрович, почтительно поднявшись с чурки и глядя на свою гостью. Ее длинные седые волосы вольно рассыпались по плечам, обрамляя суровое лицо, исчерченное глубокими, продольными морщинами; но, несмотря на седину и морщины, она совсем не походила на глубокую старуху, потому что полыхали неведомо ярким светом молодые, изумительной красоты глаза – темные, влажные, как спелая смородина после дождя. И столько было жизни и силы в этом свете, что он завораживал, притягивал к себе, и хотелось глядеть и любоваться на него безотрывно.
Матвей Петрович глядел и любовался.
Гостья, словно очнувшись, поклонилась ему легким наклоном головы и прошла к спящему человеку. Тронула его за плечо, и тот вскочил, дыбом растопырив лохматые волосы, вскрикнул:
– Путь вижу! Все вижу! Иду!
Женщина горько вздохнула, как всхлипнула, и положила ему на голову длинную, тонкую ладонь:
– Значит, увидел… Только куда ты пойдешь? Твоего пути здесь нет, ты сам от него отрекся. Вспомни, как это было, Андрюшенька, вспомни…
Лохматый человек затих, будто легкая ладонь женщины придавила его, как тяжелый груз, он скукожился, сник, будто мокрый воробей под застрехой, и прошептал:
– Это ведь я тебя вижу, Мария…
– Меня, Андрюшенька. – Она легко, жалостливо погладила его разлохмаченные волосы тонкой ладонью и добавила: – Вот и хорошо, что помнишь…
7
Тонкий-тонкий, как нитка, готовая в любой момент оборваться, тянулся и тянулся по просторному дому, пронизывая его насквозь, до последнего уголка, то ли плач, то ли стон, то ли жалобный и обессиленный вой – и-и-и-и… Тянулся он, вгоняя в полное отчаяние всех, кто его слышал, без малого сутки. И никто не мог ничего сделать, чтобы облегчить страдания пятилетнего сына городского казначея Христофора Давыдовича Мануйлова, – ни доктор, ни бабка-знахарка, доставленная из ближайшей деревни, ни родная мать, стоявшая все это время на коленях перед кроваткой.
Все было напрасно.
Маленький Андрейка, закатив глаза, синел лицом, сучил ножками и лишь изредка прерывал свой плач-стон, чтобы выкрикнуть, тонко и резко:
– Не надо мне гвоздики забивать в животик! Не надо! Мне больно!
После выкрика снова тянулось, казалось, что бесконечное – и-и-и-и…
Он бредил, не приходя в сознание, голосок его становился все тише, и доктор, под утро уже, вывел из детской Христофора Давыдовича на крыльцо и сказал, смущенно отводя глаза в сторону:
– Посылайте за священником, Христофор Давыдович. Простите меня, но я бессилен. Мужайтесь.
Больше сказать ему было нечего, и доктор спустился с крыльца под тоскливый, сеющий дождик – стоял на дворе глухой, мокрый октябрь.
У Христофора Давыдовича задергалась щека, тогда он прижал ее ладонью и вернулся в дом. В коридоре, прислонившись к стене, бледная после бессонной ночи, стояла Маша, воспитанница Мануйловых, сирота, которую они приютили, когда еще были бездетными. После рождения Андрейки, которого супруги ждали много лет, Маша стала для него самой настоящей нянькой, и пять лет мальчик рос на ее руках – заботливых и любящих. Теперь она смотрела на Христофора Давыдовича, не отрываясь от стены, и темные глаза ее, влажные от слез, умоляли лишь об одном – ну, скажите, скажите…
Христофор Давыдович, не отнимая ладони от щеки, мотнул головой и глухо выговорил:
– Никакой надежды… Скажи кучеру, чтобы запрягал, и езжай в Знаменское, к отцу Александру, мы ведь у него Андрейку крестили…
В скором времени коляска с поднятым верхом выехала из подмосковного городка и по грязной дороге, размытой последними дождями, покатилась в сторону села Знаменского, до которого было верст восемь. Маша, закутанная в теплый платок, вздрагивала от холодной сырости, видела, как тускло занимается хмурое утро, а в памяти у нее все еще звучал тягучий стон-плач Андрейки. Вспомнилась совсем иная дорога до Знаменского, не грязная и разъезженная, как сейчас, а звонкая и сухая, в самой середине цветущего мая. Они ехали крестить Андрейку, все были счастливыми и веселыми, а по обе стороны от дороги буйно шла в рост молодая трава и начинала зацветать черемуха… И так ярко вспомнилась Маше эта поездка, что она перестала вздрагивать, как будто перенеслась в тот солнечный и теплый день, ей даже почудилось, что она ощутила запах цветущей черемухи. Закрыла глаза, и исчезло промозглое октябрьское утро, замедлилась тряская езда коляски и чистый, ровный свет озарил зеленую траву на пригорке. Там, на самой макушке, будто искрилось круглое облако; вдруг оно раздернулось в самой своей середине, и проступил женский лик, на котором сияли всевидящие и всезнающие, скорбные материнские глаза. «Матушка Богородица!» – только и успела ахнуть Маша, ощущая на душе неведомую доселе радость. Хотела припасть на колени, но тихий голос остановил ее: «Торопись, не теряй времени, дом сама узнаешь. Поднимешься на чердак и там найдешь икону. Поставишь в изголовье Андрея, и молитесь об исцелении. А когда час наступит, я тебя призову…» И медленно-медленно исчез лик, словно растаял в искристом облаке.
Маша распахнула глаза. Коляска уже въезжала в крайнюю улицу Знаменского и темный от дождя заброшенный дом, покосившийся и ветхий, огороженный высоким бурьяном, смотрел прямо на нее пустыми окнами.
– Стой! Стой! – закричала Маша кучеру.
Выскочила из коляски и ринулась прямо в гущу бурьяна. Выбралась из него, облепленная колючками, взбежала по шатким ступенькам крыльца в дверной проем и сразу же уперлась в лестницу, которая вела на чердак. Подгнившие перекладины похрустывали, скрипели, но Маша даже не слышала, забираясь все выше. На чердаке, в густой паутине, в пыли, в самом дальнем углу, она сразу же увидела икону, прислоненную к балке. Маша бережно взяла ее в руки, сняла теплый платок и стерла пыль. В полутьме чердака ярко проявился лик Богородицы и засияли материнские глаза…
В колючках, с иконой в руках она предстала перед отцом Александром и сбивчиво, торопливо пересказала ему все случившееся. Молодой батюшка выслушал ее, ни о чем не спросил и скоро уже сидел в коляске, которая, развернувшись, понеслась в обратный путь.
Икону поставили над кроваткой, зажгли лампаду, и голос отца Александра зазвучал в детской горячо и просительно:
– В день печали, нашедшия на ны, к Тебе, Христе Спасе, припадающе, Твоея милости просим. Облегчи болезнь раба Твоего, изреки нам яко и сотнику: иди, се здрав есть отрок…
Никогда еще в недолгой своей жизни Маша не молилась так горячо и так истово, со слезами, которые катились сами собой, а она их даже не замечала.
Все молились.
И вымолили.
Оборвалась невидимая нитка, и стих в доме тонкий плач-стон. Лицо Андрейки зарумянилось, и он уснул, легко посапывая. Во сне перевернулся на бок и для уюта сунул ладошку под голову.
Христофор Давыдович, обнявшись с супругой, плакали от счастья. Взволнованный отец Александр, не отрываясь, смотрел на икону, а Маша, обессиленно опустившись на кресло, никак не могла успокоиться от пережитого ею чуда и все теребила руками концы теплого платка, в который совсем недавно была завернута икона.
8
И никто из них в этот счастливый миг – ни супруги Мануйловы, ни Маша, ни отец Александр – даже предположить не могли, как сложатся будущие дни и годы маленького Андрейки, чудом возвращенного к жизни…
А складывались они поначалу легко и радостно. Окруженный любовью домашних, не чаявший души в Маше, которую он забавно называл Манюней, рос Андрейка резвым и веселым мальчиком, правда, любил шалить и проказничать, но это ему прощалось – кто в его возрасте не шалил и не проказничал?!
Икона, найденная Машей на чердаке, покоилась на самом почетном месте в доме Мануйловых. Теперь она была в богатом окладе, который сделали по специальному заказу Христофора Даниловича, и стояла на особой подставке, застланной вышитым льняным полотенцем. Глаза Богородицы, как и прежде, светились теплым материнским светом, и этот свет, казалось, озарял весь дом, наполненный тихим семейным счастьем.
Пришло время, и у Маши появился жених – скромный и милый чиновник городского казначейства, служивший под началом Христофора Даниловича. Впрочем, сам Христофор Данилович его и выбрал среди своих молодых подчиненных, решив, что лучшей партии для своей воспитанницы не сыскать. Он и в самом деле был мил и хорош, Сергей Петрович Кайгородцев, – учтивый, воспитанный, с нескрываемым обожанием смотрел на свою невесту и, похоже, набирался решимости в ближайшее время сделать ей предложение. Невеста отвечала ему взаимностью, а Мануйловы, наблюдая за влюбленными, уже всерьез обсуждали приданое для Маши и загадывали – на какой месяц удобнее будет назначить дату свадьбы. И лишь один Андрейка смотрел на Сергея Петровича, когда тот появлялся в доме, угрюмо и настороженно. Из-за стола, когда садились обедать, старался незаметно ускользнуть, и его подолгу искали, пока не находили в каком-нибудь укромном уголке, где он сидел необычно тихо, молчал и ни на какие расспросы не отзывался. Маша, догадываясь о причинах такого поведения, ласково уговаривала его, обещала, что и дальше будет любить его по-прежнему и что он совершенно напрасно злится на Сергея Петровича… Андрейка внимательно ее выслушивал, соглашался с ней, искренне обещался, что изменит свое поведение, но как только Сергей Петрович появлялся в доме, все повторялось – взгляд, как у волчонка, и побег в самый дальний угол большого дома.
Он умудрился даже на свадьбе не появиться. Когда собрались, чтобы отправиться на венчание в Знаменское, был Андрейка рядом со всеми и даже вроде бы садился в коляску, но в храме его не оказалось, и нашли пропавшего только под вечер, на чердаке, где сидел он, по-птичьи нахохлившись, с заплаканными глазами.
Но минуло несколько лет, и повзрослевший Андрей, теперь уже реалист старших классов, приветливо здоровался при встречах с Сергеем Петровичем; смеялся вместе со всеми, вспоминая, как ему не хотелось, чтобы Маша выходила замуж, и какие каверзы он придумывал для ее будущего мужа, чтобы отвадить того от дома. Хорошо, что ни одну из этих каверз он осуществить не смог, а еще лучше, что Маша по-прежнему его любит и видятся они почти каждое воскресенье…
На юном лице Андрея уже пушилась маленькая бородка, глаза блестели, а когда он смеялся, запрокидывая голову, невозможно было удержаться, чтобы не улыбнуться, – уж очень заразительным был его смех.
После того как сын окончил реальное училище, Христофор Давыдович пристроил его в казначейство на маленькую должность, а сам стал собираться на покой – годы подпирали, и пора было освобождать служебное место для молодого преемника – Сергея Петровича Кайгородцева. Его кандидатура была выбрана совсем не потому, что приходился он теперь родственником Христофору Давыдовичу, а потому, что на службе все эти годы Сергей Петрович отличался особой аккуратностью и добросовестностью.
По случаю ухода со своей службы Христофор Давыдович устроил прощальный вечер и пригласил на него теперь уже бывших сослуживцев. Вечер проходил торжественно, с речами и подарками, затянулся до полуночи, и хозяин, провожая гостей, от умиления, а может быть, и потому, что выпил больше, чем обычно, прослезился; много говорил своим гостям благодарных слов, а супруге своей признался, что чувствует себя счастливым человеком.
Но каково же было его потрясение, когда на следующий день он не обнаружил в своем доме иконы Богородицы. Вот еще вчера стояла она на своем почетном месте, теплилась перед ней лампада и отсветы покачивались на богатом серебряном окладе, украшенном драгоценностями. Только и осталась легкая вмятинка на белом полотенце, вышитом красными крестиками, на котором стояла икона.
Хозяин поднял весь дом, всю прислугу – напрасно. Не было нигде иконы. В самый разгар поисков в доме появился Сергей Петрович Кайгородцев и оглушил всех неожиданной новостью – ночью Маша ушла из дома. Собрала небольшую котомку, попрощалась с мужем, попросила у него прощения, сказала, что безмерно виновата перед ним, но по-иному поступить она не может, и поэтому уходит, и никогда не вернется. Сергей Петрович попытался остановить ее, закричал, желая допытаться, что случилось, и даже котомку хотел отобрать, но Маша так посмотрела на него – как гвоздем приколотила, и он остался стоять на пороге распахнутой двери. Смотрел, как, удаляясь, Маша исчезает в темноте апрельской ночи, и чувствовал, что у него даже сил нет, чтобы побежать за ней следом.
Сидел он за столом, еще не убранным после вчерашнего торжества, рассказывал, горбился и не поднимал глаз на Мануйловых, совершенно убитых принесенной им новостью.
– Да как ты мог?! – закричал Андрей и, подскочив, схватил Сергея Петровича за плечи, сдернул его со стула и принялся трясти с такой силой, что голова у того болталась, словно тряпичная. – Как ты мог ее отпустить?! Ничего не узнал, не спросил?! Где теперь искать?!
Едва-едва утихомирили горячего юношу. И стали думать – что делать? В конце концов решили идти в полицию, рассказать об уходе Маши и попросить помощи.
– Не надо ходить в полицию, никуда ходить не надо! Лучше помолитесь за нее…
Все обернулись разом на неожиданно раздавшийся голос и увидели, что возле дверей стоит отец Александр, смотрит печальными глазами на пустую подставку, где раньше сияла икона, и медленно-медленно крестится…
9
И шла она, растирая в кровь ноги в разбитых башмаках, шла ночами и днями, коротко спала, где придется – на деревянной лавке, когда пускали на постой, под придорожным кустом, положив в изголовье пучок сорванной свежей травы, в поле, в копнах пахучего сена; питалась скудными подаяниями, пила воду из речек и ручейков, ковшичком сложив ладони, и, не уставая телом, несла в себе несказанную радость. По сравнению с этой радостью сущими мелочами были для нее жара или холод, гнус или злые собаки, от которых приходилось обороняться посохом.
Неземная, доселе неведомая сила вела ее по ровному, выверенному пути и не давала сбиться в сторону даже на половину версты.
Путь уходил все дальше и дальше, в места бездорожные, глухие и необжитые. Реже попадались селения, прямо в небо упирались высокие сосны, и трава, не знавшая железной косы, скрывала с головой.
На исходе тихого благодатного августа Мария поднялась на пригорок, опушенный густой травой, тихо опустилась на землю. Сняла разбитые башмаки, устроила ноющие ноги на мягкой, прохладной траве, легко, на полную грудь, вздохнула и огляделась: лежала перед ней широкая пойма, затянутая тальником и ветельником, дальше, глубоко уходя в реку, вытягивались песчаные отмели, а уже за ними, взблескивая под нежарким солнцем, текла неудержимо обская вода, стремясь к далекому морю. Серый коршун, раскинув большущие крылья, низко кружил над поймой, и тень его стремительно скользила по макушкам кустарника. Дальше, за текущей водой, вздымался обрывистый песчаный берег; казалось, что в солнечных лучах он становится белым.
Легкий, ощутимо прохладный воздух тянул с реки, освежал лицо, словно родниковая вода, и уходила, исчезала усталость последних дней пути, по-особенному тяжелых. И тяжесть эта была связана не только с ходьбой по неудобью, но еще и по той причине, что Мария ощущала в себе новую, народившуюся в ней жизнь, которая извещала о своем появлении внезапными толчками в чреве. Вот и сейчас больно и неожиданно шевельнулось внизу живота и улеглось, затихло.
«Растет…» – улыбнулась Мария и осторожно, оберегаясь, легла на спину, устремив взгляд в бездонное небо, в котором теперь парил, поднявшись вверх, все тот же серый коршун. Скользил, нарезая широкие круги, и даже не шевелил крыльями. Мария долго наблюдала за ним, но не заметила, когда он исчез, не заметила и того, что уснула – крепко, безмятежно, как еще ни разу не спала за долгую дорогу.
И во сне, но четко и ясно, как наяву, различила она голос: «А теперь, когда ты земной путь одолела, Я скажу, зачем тебя призвала… Когда ты родишь дочку, твой путь станет небесным. Земное отряхнешь и уйдешь в иной мир, и дочь уведешь за ручку, но место это отныне в полном твоем окормлении пребывать будет, и станешь ты молитвами своими и бдениями покров Мой поддерживать. И не позволяй, чтобы под Мой покров черные люди с черными помыслами проникали. Осквернят черным, сниму Свой покров. Помни, что выбор ты сама сделала и к согласию твоему Я тебя не принуждала… Готова ли?»
«Готова, Пресвятая Богородица! Готова служить Твоему покрову, одно лишь меня томит – родители мои приемные и Андрейка… Как они там без меня?»
«Когда уйдешь в иной мир, сама их зреть станешь, знать будешь, как живут они, и молиться за них. Андрей к тебе сам явится, да только не тот, прежний, а иной совсем – увидишь… Многое тебе откроется, до сих пор неведомое, – только молись без устали и покров береги».
Проснулась Мария, снова увидела высокое, бездонное небо над головой, поднялась, встала на колени, осенила себя крестом и горячо, в полный голос воззвала:
– К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы…
10
– Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя глаголати, недостойнии: аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед, кто же бы сохранил до ныне свободны?.. – молился в этот же час отец Александр, и голос его, глуховатый, надтреснутый, негромко, но отдавался в пустом храме. Молился отец Александр перед иконостасом, на котором совсем недавно появилась новая икона. Появилась сама по себе – та самая, обретенная Машей на чердаке старого дома и хранившаяся раньше у Мануйловых. Заняла крайнее, пустовавшее место и засияла. Теплилась перед ней лампадка, зажженная рукой настоятеля, освещала скорбный лик с теплыми материнскими глазами.
Закончив молитву, отец Александр опустился на колени перед иконой, склонил голову и долго не разгибал согбенной спины, думая с волнением о том, что его скромный сельский храм посетило настоящее чудо – икона сама нашла дорогу и явилась, сама определив себе подобающее место.
А еще он думал о Марии, о том долгом пути, который ей пришлось одолеть, и о том подвиге, который еще предстояло ей совершить. Вспоминал горящие глаза, когда Мария пришла к нему среди ночи с тощей котомкой за плечами и попросила благословения, рассказав о том, что Пречистая призвала ее и путь указала. И она, Мария, в сей же час отправляется в этот путь. А еще сказала, что как только икона появится в храме, на том месте, которое выберет, значит, не сбилась она, Мария, с пути, достигла цели. Но недолго икона пробудет в храме, потому что у нее тоже свой путь, неподвластный и неведомый людям…
Благословил Марию отец Александр, проводил в темноте до околицы села, перекрестил, призвав на дорогу ей ангела-хранителя, и долго стоял посреди звездной апрельской ночи, глядя в бескрайнюю темноту, которая расстилалась перед ним.
Утром он пошел к Мануйловым, где застал великий переполох, и ушел от них с большим огорчением: никто не поверил его словам, все стояли на том, что Марию нужно искать, и в конце концов, после долгих споров, Христофор Давыдович отправился в полицию. Да только напрасно он ходил, потому что никаких следов полицейские чины отыскать не смогли и, чтобы не вводить в обман уважаемого человека, честно сказали ему об этом по прошествии нескольких месяцев.