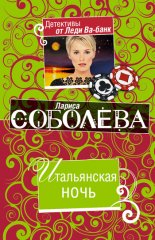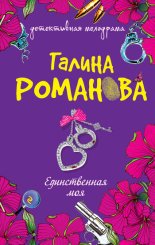Бортовой журнал 2 Покровский Александр

Из незначительностей жизнь людская произрастает…
Антиох Кантемир. «Из назиданий 1732 года».
Бортовой журнал 2
* * *
Это записи из «Бортового журнала». Есть у меня такой «Бортовой журнал», где я все пишу. Все, что приходит на ум. Такие маленькие штучки. Пришло – записал, и жить легче. Мне же легче жить, чем всем, кто не пишет. Я же одной ногой в этой реальности, а другой – там, где моя писанина живет.
* * *
Частенько я пребываю в ином расположении духа, недоступном соблазнам ложного остроумия, когда все окружающее воспринимается мною во благо, не столько в собственное, сколько во благо общее. Именно тогда-то я и ощущаю в себе силы быть беспристрастным в отношении каждой твари, выведенной на сцену этого драматического произведения под названием жизнь.
* * *
Как я пишу? Я пишу по утрам, когда рассвет разве только забрезжит, когда лучи восходящего солнца коснутся стекол моего окошка едва, а дыхание пробуждающейся природы еще только начинает наливаться.
* * *
Все написанное мною написано в глубоком уединении, на берегу непорочного горного ручья, в домике с соломенной крышей, пронизываемом случившимися звуками настолько усердно, что порой слышны капли дождя на поверхности почвы, листвы или же луж, и все это на краю нашего огромного королевства, где я живу в постоянных усилиях игривой веселостью оградить себя от всяческих жизненных зол и волнений.
Мне кажется, что так же писал Лоренс Стерн, иначе откуда у нас всему этому взяться.
* * *
Биография
Родился я в 1952 году. По свидетельству очевидцев, это было лучшее событие того года.
С 1970 года в Военно-морском флоте, где до 1991 года развивал ум.
В 1991-м закончил его развивать и уволился в запас.
Начал писать в 1983-м. Впервые напечатался в 1989-м в газете «Литератор».
Написал 14 книг.
Сейчас их сосчитаем.
Значит, так: «Мерлезонский балет», «Расстрелять», «Расстрелять-2», «Бегемот», «Кот», «72 метра», «Каюта», «Корабль отстоя», «Система», «Люди, лодки, море», «Мангушев и молния», «Калямбра», «Иногда мне ночью снится лодка», «Бортовой журнал» – точно, четырнадцать.
Патриот. О чем свидетельствует письмо на имя сэра Чарльза, приведенное ниже.
* * *
«Отец родной! Сэр досточтимый!
Не будем взвешивать все на весах обыденности.
Я не доверяю этому предмету, так усердно пятнавшему себя на волнах времени.
Вот как, скажите на милость, на них взвесить патриотизм и Отечество? А?
Граны и корпускулы двух этих понятий – а как известно философам, и понятия имеют свои граны и корпускулы – так вот, они не то чтобы способны к воспроизведению себе подобных – о нет, о нет! – но, как и всякие знания, они подобны материи, то бишь они делимы до самой что ни на есть бесконечности.
То есть на нашем пути нам и далее будут открываться все более и более мелкие зерна патриотизма и Отечества.
Засим я погружаюсь в дремоту.
Ибо! Это лучшее, что я могу сделать сразу же после открытия того, что такие понятия, как патриотизм и Отчество, еще не раз удивят нас размерами своих первокирпичиков».
* * *
Инвалиды, смейтесь!
Всякий раз, когда мы смеемся, мы прибавляем кое-какие детали к этой нашей недолгой, но вкусной жизни.
* * *
А хорошо бы, если б наша коррупция разрослась до того, чтоб ею уже занимались не наши органы.
* * *
Мою первую книгу «Мерлезонский балет» выпустило издательство «Советский писатель», за что всем членам этого заведения, всем, до последнего грузчика, я надеюсь, воздастся на небесах.
* * *
Меня тут чиновники собираются чем-то награждать. Я даже не дослушал чем.
Подарок от чиновника, что укус вампира, – превращение в своего.
* * *
Государство – это танк, который ездит по цветочной поляне.
* * *
Мне написали, что один православный священник переложил рассказ «Офицера можно» на свой лад. Получилось «Священника можно». Это переложение теперь ходит в ксерокопиях по приходам. Оно необычайно утешило всех священников.
* * *
Писатель – это человек своего будущего, живущий в своем прошлом.
* * *
Из современных люблю Колю Кононова. Он мой друг, и мы с ним договорились, что из современных писателей он любит меня, а я – его.
К прозе Гришковца отношусь очень хорошо (не читал и спектакль не смотрел, но все, кто мне симпатичен, его хвалят, значит, и мне понравится). Мостовщикова не знаю, тоже не читал, и мне его не хвалили, поэтому воздержусь от каких-либо характеристик.
* * *
Человека далеко не пускают и не награждают его умом.
Все это лишний раз доказывает существование Бога.
* * *
Смех – глубокая составляющая языка.
* * *
«Поелику уж!» – хорошее словосочетание. Славно было бы куда-нибудь его вставить. Пока не придумал куда. Найду, само собой. «Поелику уж!» – хорошо, черт побери!
* * *
На вопрос: «Кто у нас в России вообще тут литературообразующий?» – можно ответить: «Я», а можно: «Только не я» – выбирайте сами, какой ответ больше нравится.
* * *
Утро. За окнами мороз под тридцать. Я проснулся и запел под одеялом: «Когда б имел златые горы и реки, полные вина, все отдал бы за ласки, взоры1… – остановился и добавил: – за солнце, воздух и вода!»
* * *
Книги я читаю. Вернее, читал. Не так много, но было когда-то.
Тогда еще было принято читать полными собраниями сочинений.
Прочитал: Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Грина, Пришвина, Паустовского, Чехова, Достоевского (кроме «Бесов»), Лескова, всех Толстых, Гоголя, Белинского (9 томов), Бианки (4 тома). Может, кого и упустил из русских.
Это все я читал собраниями сочинений и писем. Ну там Бальзак, Гюго и прочее тоже опускаем – давно это все было. Детских Фениморов Куперов, Рабле, Свифтов и Майн Ридов с Марками Твенами, О. Генри и т. д. тоже опускаем – это до десятого класса.
Сегодня – Эмма Герштейн «Мемуары» и «Память писателя» (прочитал эту книгу два раза подряд – редкий случай), Бруно Шульц «Трактат о манекенах» (перевод Леонида Цывьяна, прошу не путать с другими), Пруст «Пленница», «Обретенное время» (перевод А. Смирновой) и все другие тома, только в переводе Франковского и Федорова (не путать с прочим барахлом, а не переводчиками).
Хватит или еще вспоминать?
Из современных (кроме Коли) неплохой Сорокин, но на меня он не очень действует.
* * *
Когда я описываю человека, то там все равно не он. Взята какая-то его черта, особенность – а потом раздуваю все, конечно.
* * *
Ненавидят меня или нет? А кто их знает! Может, и ненавидят.
Я-то не интересуюсь. Времени нет.
Бит за рассказы? Так эта… рожа-то у меня зверская – кто ж полезет?
Обещал меня, по слухам, побить мой старпом, но он весит 70 кило, пьет и на полголовы меньше. Даже не знаю. Готов встретиться с ним, что я и передал тем, кто мне передал, что он хочет меня побить. Меня бы это развлекло и, может, даже взволновало.
* * *
Про любовь. Есть такая книга у меня – «Каюта». Там есть такая поэма «Пурга». Вот она про любовь.
Как у меня с этим в жизни? В жизни у меня с этим все в порядке. Жена.
Мы с ней в шестого класса знакомы. Влюблен ли я в нее был? Гм! Мы с ней с детства приятели. Это сильно сначала мешало, потом – ничего.
У нас сын. Парень как парень. Девятнадцать лет.
* * *
Историй любви у меня было ой как много, жизнь это мне попортило, но не перевернуло. Флирт? Да сколько угодно. Так что флиртуем напропалую.
Доходим ли до постели? Ну какой же настоящий бабник вам это скажет!
* * *
Если скажет, то он не настоящий бабник.
Настоящие молчаливы.
Флиртует ли моя жена? Ну, может, и флиртует. Я ей как-то сказал: только заразу не принеси. И еще я ей сказал, что она у меня первая и последняя: первая утром и последняя вечером. Не знаю, поверила или нет.
А вообще-то я ленив (читай, разумен) с семнадцати лет.
Представьте: уговариваем девушку, потом полночи не спим, потом утро раннее, потом придумать что-то дома, потом угрызения совести (как же без них?). То есть флирта больше, чем постели. Гораздо. Ну как? С искушениями разобрались?
* * *
Как говорил наш тренер на тренировках: «Бабу хотите?» Мы все хором: «Хотим!!!» – «Тогда плывем еще часик!»
У меня после заплывов по нескольку часов кряду болели все мышцы – руки, ноги, спина, пресс, шея. У меня даже мышцы на роже болели, а вы говорите – любовь.
* * *
Некоторые глупцы утверждают, что я не люблю свое Отечество.
Выспренние идиоты, убогие недоумки, недалекие сквалыги, безнадежные лизоблюды, отпетые негодяи, неудачливые шавки, шакалы пархатые, шелудивые псы – вот вы все после этого кто!
* * *
У нас на перила балкона сел ястреб-тетеревятник. Во дворе сразу куда-то подевались все вороны, скрылись голуби. Ястреб сидел неподвижно. Он – птичья смерть, появляется ниоткуда. Бесшумный убийца. Ворону он хватает двумя лапами. Берет ее на ветке, на земле. Убивает мгновенно. Просто сжимает грудь, и ворона умирает от шока. Так что ястреб-тетеревятник – это летающий удав.
* * *
Чем дальше от Москвы, тем лучше у людей глаза. Будто умыты они, что ли. И улыбки. Хорошо они улыбаются. А еще они смотрят вдаль так, словно прислушиваются к чему-то. Точно слышат они что-то, только им одним ведомое.
И вот говоришь им: «Деньги», – а они тебе говорят: «Да, да, да, хорошо. молочка выпейте. Сейчас крыночку принесу. У нас хорошее молочко. Трава нынче вон какая, опять же, дожди. Дожди-то полосой шли. И всё-то через нас.
Вот трава и поднялась, в силу вошла. А уж как ее живность вся любит-то. Вам еще молочка принесть?» – вот так выпьешь тут молока и становится тебе понятно, что не играют тут деньги совершенно никакой роли.
Ах ты, Русь, Русь! Кто же тобой управлять-то сможет? Кто решится на такое? Всех ты переживешь, всех утянешь к себе и в себя. Вон монголы пришли. Они скакали и скакали на своих косматых конях. Всё в Европу норовили попасть, сердешные, всё мечтали коней поить где-то там, за Дунаем, но чем дольше они скакали по Руси, тем меньше становились – то в вершок величиной, а то и в полвершка вместе с лошадью, а потом и вовсе затерялись среди травы, средь полей да лесов. Все как в землю ушли. Поглотила их Русь. Умыкнула.
А она всех поглощает. Кто-нибудь видел тут монголов? Может, вам и обры встречались? Или викинги? Скифы, хазары, печенеги, булгары? Все они теперь русичи. И говорят они на русском языке. Хотя есть, конечно, особенности. Есть народности, татары например, и свой татарский язык они сильно блюдут.
Но у них у всех русские лица.
А у русских – лица татарские, а то и печенеги среди них мелькают или хазары, угры и мордва.
А язык? Русский язык. Сколько раз он менялся! Он живой, он лоснится, он упругий, он, как змея, сбрасывает кожу только затем, чтоб покрасоваться или стремительным бегом проскользнуть меж камней и уйти. Только был – и уж нет его. Вымолвил – не поймаешь. Все полюбят его. Все станут на нем говорить и думать, стоит им только ступить на эту землю. Стоит им только попасть хоть один раз на Русь, и она уже не отпустит, затянет, на манер дремучих болот. Нет, не вырваться от нее ни французу или даже германцу, ни удмурту, корейцу, китайцу– все-то здесь они лягут и исконно русскими людьми.
* * *
Мечта всех времен: чтоб за Емелю щука работала.
* * *
Надпись на надгробии: «Россия-мать, когда б таких людей ты вовсе бы не посылала миру, давно бы все тут расцвело!»
* * *
Есть такая история.
Жил-был однажды такой парень – Иисус Христос. Он всюду говорил о любви.
А евреи ждали прихода человека, который возглавил бы восстание против римлян. Причем евреи тех времен ничем от римлян не отличались. И те и другие отлично резали друг другу головы.
В те годы люди были отменными головорезами. И вот среди этих головорезов бродит человек, который говорит о терпимости к ближнему.
После того как евреи поняли, что толку от него не будет, они объединились с римлянами. То есть головорезы на время забыли свои распри и прониклись общей ненавистью к человеку любви.
* * *
Что такое политика? Ой, ребята, ну и вопросы! Я-то, грешный, думал, что всем все давно известно. Ложь, конечно. Маленькая, большая, повседневная, крупная, мелкая. Политика лишена совести. Нет там такого института – института совести. Совесть – прочитай по слогам: «со», а потом – «весть». Это значит, как говорит наш Коля, что ты с вестью заодно. А весть – это не твое. Это тебе послали, дали, вручили – пользуйся.
* * *
Этого цыпленка нам принесла Лара. Маленький такой, желтенький.
Мы посадили его в коробочку и кормили пшеном.
А попку мы ему мыли под горячей водой. Подставляли ее под кран. Моем, а он орет.
Он очень любил сидеть на голых ногах. Придет кто-нибудь, сядет за стол, а он тут как тут – прибежит со всех ног и усядется на ногах, а потом пригреется, нахохлится, опустится на живот и задремлет.
А потом он подрос и любил взбираться на плечо. Там он усаживался и начинал теребить клювом сережки, если сидела дама, и пощипывать мочку уха, если мужик.
Я его однажды посадил на солнце, так его так разморило, что он сидел, сидел, клевал носом, а потом как рухнет клювом в подоконник, и ослабел, растекся по нему– крылья, голова и ноги – все в разные стороны. А я испугался – думал, сдох – и тронул его. Тут-то я и увидел, как этот орел просыпается. Он просыпается, как человек, которого внезапно толкнули – то же взбалмошное выражение и практически тот же крик.
Очень он не любил, чтоб его в кладовке закрывали. Мы его там на ночь помещали. Он вечером сидел рядом, крепился, да нет-нет и свалится, засыпает, значит. Тогда мы ему и говорим: «Иди в кладовку!» Что тут поднимается, возмущение: «Ко-ко-ко! Как. кая кладовка! Все здесь, а я туда? Фигушки!» – ну тогда его за шкурку и за дверь.
Повозится там, повозится и затихнет.
А еще я ему дождевых червей набирал. Очень он их любил, орал от счастья, а потом схватит червяка и давай его об пол бить, прежде чем проглотить.
Всех приходящих встречал у двери, хлопал крыльями и вопил от восторга.
Потом подрос – куда ж его, почти петух.
Пошли пристраивать.
Поехали в Репино. Там ходили по старушкам и спрашивали: «Не возьмете ли к себе нашего петушка?» Одна согласилась.
Мы помялись и говорим: «Только не ешьте его. Ладно? Он у нас ручной!»
И нам обещали его не есть.
* * *
Считаю ли я, что наше государство имеет форму неустойчивую, склонную к агрессии, метастазированию; что просто нет зон, где мы можем сохранить идентичность, свою свободу, свою искренность? Да, я так считаю. Могу даже прокричать это, если кому-то это не слышно.
В наших отношениях с государством нет симбиоза гриба и водоросли. Одно не питается другим, создавая первому благоприятные условия для существования. У нас отношения иного рода. Их на нас, как вшей на тифозном.
* * *
Ну кто же понимает писателя буквально! «Я там, где мои книги» – это не книжный магазин. Цветы не растут на прилавке. Книги в своем мире, и этот мир – не торжище.
Современный писатель – я даже не знаю, что это такое. Я – среди своих слов, а они – кто ж их ведает. Я их совсем не знаю. Ни с кем не общаюсь. Разве что пару раз видел Сорокина и полраза при этом рядом с ним говорил.
Да, Колю Кононова я люблю, потому что с ним дружу. Остальные – где они, что они, как они, с кем они? Кто-то бегает в мэрию, кто-то еще куда-то. Союзы какие-то. Чего союзы, про чего, отчего, для чего, с чем союзы?
Так что все заняты.
Ну да, могут они сразу, не приходя в сознание, предложить случившейся девушке постель. Ну… так это тоже дело.
* * *
Я внутри свободен.
Но как же законы?
Как же частная собственность, которую провозглашает Конституция? Это хорошо, что она провозглашает, – я готов ей аплодировать, но когда государству захочется отнять эту частную собственность, оно найдет кучу законов, по которым оно совершенно законно это сделает.
* * *
Сашка нам недавно рассказал, что в детском саду они ловили шмелей и ели их.
«Они же сладкие!» – говорил Сашка.
«Ну и детки!» – подумал я.
Вообще-то, шмели вызывали у меня симпатию. Этакие основательные ребята. Они обожали устраивать гнезда в старых пнях. Однажды я видел, как ветер сорвал гнездо шмелей с места. В этом случае гнездо было сделано в каких-то спрессованных опилках, то есть оно было легкое. Гнездо лежало вверх ногами и было похоже на небольшой котелок.
Шмели – мамаша, та, что покрупнее, и с десяток ее ребят помельче – покружили над ним, а потом, к изумлению моему, взялись все с одного края и… перевернули свое гнездо.
Я так и застыл от изумления – они разумные. Мама моя! А потом шмели забрались под гнездо и затихли там.
* * *
Что такое «прыжок кита»? Это когда подводная лодка, переложив рули на всплытие, изо всех сил устремляется к поверхности. Для пущей убедительности могут и цистерны главного балласта продуть, и тогда она вообще выпрыгивает над водою почти полностью.
Для чего это делается? Для фотоснимков. Это зрелище такое. Ничего общего с тактикой это не имеет.
Подводная лодка обычно всплывает вслепую. Гидроакустику в активном режиме использовать нельзя, засекут, поэтому очень медленно и аккуратно всплываем, переложив рули на всплытие, на глубину семнадцать метров, потом аккуратненько высовываем из-под воды выдвижные устройства – перископ, радиолокационный комплекс и прочее, с помощью чего можно оценить обстановку на поверхности, и потом только не спеша продуваем среднюю группу ЦГБ, всплываем в позиционное положение – над водой показалась рубка – и вот уже пускается воздуходувка, которая и продувает балласт – носовые и кормовые группы ЦГБ.
Вот так лодка всплывает. Никто не выпрыгивает из воды. Это небезопасно. На поверхности может оказаться айсберг, может лежать судно с выключенным двигателем, яхта или стадо спящих китов.
А если прыгать для фото, то на поверхности должно дежурить судно, которое разгонит всех из района такого прыжка.
Иначе можно протаранить лежащее в дрейфе корыто с японскими юниорами – потом вылавливай их сачком из воды.
* * *
Пришел он во сне. Мне тут сказали, что его Аль-Хадиром зовут. Вроде и не сон это был. Очень уж явно. Но я спал. Это точно. Араб. Тонкие черты лица. Волосы короткие, вьются. Небольшие залысины. Тонкий породистый нос с горбинкой. Ведет себя с необыкновенным достоинством. Очень образован, воспитан. Мы с ним беседовали. Он что-то объяснял, мягко убеждал. Никакого насилия.
Только моя любимая логика. Все пристойно. Он сидел в моей комнате. В кресле. У окна. Рядом с занавеской.
Потом еще несколько раз приходил. Я его не боялся. Мы просто разговаривали. Он обещал помощь. Я от нее отказался. Он не обиделся.
Потом приходили другие. Тоже во сне. От этих – мороз по коже и вся шерсть дыбом. От них «Отче наш» помогает. Не сразу, но отпускает. Я к ним тоже привык.
Раньше пугался, а потом – чуть чего, уже знаю, пришли. Здесь они, сердешные.
И змей был. Руку мне покалечил, но рука отросла. У меня на глазах.
Ох и больно было.
А Лиса я выдумал. И все путешествия с ним тоже. Я один летаю. Без провожатых.
* * *
Мной открыта новая отечественная валюта (полностью конвертируемая).
Ру, бля.
* * *
К матросам на лодке у нас относились хорошо. Как к маленькому, неразумному сыночку, которого везде надо за ручку водить. Другое дело, когда этот сыночек растет и хамеет, и на третьем году жизни это уже законченный хам. Но нет правил без исключений: случались матросы, которые отслужили свое день в день, и за каждый день не было стыдно. Были и такие. Всё же от командира. Они видят, как командир относится к своим обязанностям. У меня матросы появились уже тогда, когда я был капитаном третьего ранга. Случались всякие люди, но в основном это был надежный народ. Последний матрос, Игорь Калганов, за месяц до увольнения в запас попал в бригаду грузчиков. Тогда отправляли народ перед увольнением на такие работы. Их называли «аккордными». Так вот там Калганов немедленно встал на защиту молодых матросов, не давал над ними издеваться. Почему? Он от меня этого никогда не видел. Я ни разу никого не унизил.
А парень он был невысокий и не очень сильный.
* * *
Как я чувствую государство? Для творчества государство всегда под ногами. Ты хочешь выйти в чистое поле, а тебя помещают в четыре стены. Оно все время на твоем пути. Оно говорит тебе, как ты должен поступать, что ты должен сделать, что ты не сделал, что ты должен ему сделать, и если сделаешь, то тебя поощрят, тебе обломится.
А не сделаешь вот это – тебе орден не дадут.
Человек творческий и государство – этого не может быть никогда. Вместе – никогда.
* * *
Раньше я читал между строк.
И понимал я там же.
Но ничто не стоит на месте.
Теперь я понимаю между звуками.
Слышу звуки: «Надо только социальную сторону не просмотреть!» – это значит, что завтра все будут на улице; «Больше внимания малому бизнесу!» – на нас открыт сезон охоты;
«Создать условия для вывода из тени!» – всё, ребята, в этой тени нас уже обнаружили.
* * *
Был сильный шторм. Меня укачивало до бесчувствия. Но в гальюн идти надо же, так что со стонами и всякими выражениями я вставал и шел в гальюн. Он у нас на носу помещался. Ох и бросало же нашу плоскодонку – просто жуть.
Я цепляюсь за что попало и медленно перемещаюсь в гальюн, и тут вижу, что мне навстречу из гальюна крыса идет. Причем ее тоже укачивает и ей плохо. Я хватаюсь за планширь, чтоб удар волны переждать, а она встает на задние лапы, а передними хватается за кабельные трассы. Оба мы раскачиваемся и страдаем. Так и шли. Подошли друг к другу вплотную. Я говорю: «Ой, бля!» – «И не говори!» – кажется, отвечает мне крыса, и мы расходимся. Никто никого не трогает. Все понимают.
* * *
Систему я не принимаю. Давит. Наверное, я не одинок. То бишь я не человек системы. Хотят, конечно, всякие поставить меня в строй, но не думаю, что им это удастся.
Во флоте я служил, видимо, только потому, что на лодках была, как это ни странно, относительная свобода – это как на фронте, где и один в поле воин.
Героика будней? Хм! У подводников героизм – это сделать все тихо и смыться, домой живым дойти. Был один герой – Гаджиев, но его у нас глупым считали.
Надо ли что-то менять? Не надо. Само поменяется.
Что для меня флот сейчас? Ну, болит потихоньку. Иначе б не писалось.
* * *
Судный день уже наступил.
И Терминатор им уже послан.
Только они об этом еще не знают.
Увлечены.
Всё воруют, воруют, воруют, строят планы на будущее…
* * *
Самый главный мой читатель – мужик лет пятидесяти, отслуживший в армии лет двадцать, сидящий в вагоне метро и читающий книгу «Расстрелять». Есть еще и женщины – тех меньше. В основном это или дети военнослужащих, или жены, прошедшие всё вместе с мужьями и знающие, что почем. Есть еще и дети лет пятнадцати.
Они в прошлом году посмотрели фильм «72 метра», потом помчались в магазин и купили книгу. Эти теперь разговаривают моими словами. Есть и филологи. Эти самые взыскательные. Этим подавай самое новенькое. Все смеются и требуют еще рассказов.
* * *
Как влияют на меня письма? Никак. Читаю, но ничего не падает или не поднимается. Я читаю вроде как не о себе. А если не о себе, то какая мне разница? Хочется ли, чтоб их было больше? Наверное. Программа-минимум – каждому россиянину по книге «Расстрелять». Программа-максимум – каждому землянину.
Что я выношу в рассказы из писем? Некоторые письма публикую в книгах в разделе «Письма». А так– ничего не выношу.
Пишу утром в 9 часов или по дороге в метро (пока еду). Пишу регулярно, вот только потом правлю нещадно. Раз по сто. Не писать год не могу.
* * *
Ну да, смерти в моих произведениях много. Она там дежурит.
Коля говорит, что я пишу лирично, а там, где лирика, там всегда есть смерть. Это одна из важнейших лирических тем. Это из-за слов. Там нет напрямую про смерть. Сами слова дают ощущение пограничное. Оно связано с литературной проницательностью. Такая «Каюта» – эпизоды полного отчаяния. Они не вмещаются в ритмизованный стих. Это такие короткие сообщения, телеграммы. Как будто ленты наклеили друг под другом, оборвав.
Настоящие русские верлибры, как говорит Коля.
Это когда, уточняет он, форма оказалась равна содержанию, хотя эту форму ничего, кроме обрыва страницы, не держит.
* * *
Кино. Не смотрю. Еле досмотрел «Ночной дозор» – чушь, по-моему.
«Дуру» – даже не знаю, что это.
«9 рота» – не видел. Народ знающий сказал, что души там нет.
* * *
Насчет «Кота». Его надо перечитать еще раз. Это философские кружева. Действует не сразу.
* * *
Свое я перечитываю. Не часто, но бывает.
Смеюсь, если забываю, потому что когда рассказ писался, то он правился по сто раз, и я тогда уже смеялся эти сто раз. А потом бывает так, что и не смеюсь и вообще думаю, что без такого-то рассказа вполне можно было бы обойтись.
А потом мне его становится жалко, и вроде неплохо. Так что все оставляю на суд читателя. Хочет читатель – читает. Не хочет – не читает.
Переделать никогда ничего не хочу. Зачем? Легче написать новое.
* * *
Ненормативная лексика.
Черт его знает. Когда пишешь, вроде без нее никак. У меня же очень часто идет стилизация под человеческую речь, а там без мата – это не речь.
Упрекают ли меня критики? А кто ж их знает. Я-то не читаю критиков.
Мне кто-нибудь приносит статью: «Вот, почитай!» – а я спрашиваю: «Чего там? Хвалят или как?» Если говорят, что хвалят, то можно и почитать, а если не хвалят, то зачем это читать?
* * *
Рассказики мои для того и писаны, чтоб настроение поднимать.
* * *
Об общественном благе. Даже не знаю. Россией управлять невозможно.
Как же ею управлять, если управленческий зуд возникает обычно к 15.00, а в это время в Петропавловске-Камчатском полночь?
Россия сама по себе. Люди ее почти не беспокоят. Так, чешется иногда. Так она на это встряхивается – и опять хорошо ей.
Какое ей надобно общественное устройство? Лучше демократии ничего пока не придумали. Законы нужны. И чтоб они для всех были одинаковы. В России этого нет. И коммунизма в России не было, и демократии тоже.
Ничего в ней не было. Есть на сегодняшний день власть чиновников.
Долго ли это будет продолжаться? Русский бунт, как родовая травма, неизвестно когда грянет. Может, завтра, может, через девяносто лет.
* * *
Кстати, битие рож в России осуществляется пока хаотично и спонтанно. Нет еще процесса лавинообразного, как при делении ядра. Но все в этом мире стремится к упорядочению. Так что ждем-с.
* * *
О Ходорковском.
Это история о зависти. Она тут главное лицо. Играют два парня в шахматы. Выигрывает тот, кто умнее, но тот, кто проиграл, в последний момент смешивает фигуры на доске и говорит: «Моя победа!» – «Как же так?» – говорит тот, кто вроде бы выиграл. И в этот момент на подмогу тому, кто фигуры смешал, подходит банда. Вот и все. А нефть здесь ни при чем. И всем плевать, что ее не так много добыли.
Мотивы другие.
* * *
Что такое «Общественная палата при президенте», я не знаю. Может, хочется в песочек поиграть?
* * *
Разницу между религиями давным-давно описал Джонатан Свифт в битве остроконечников и тупоконечников.
* * *
Вредно ли православие на Руси? Да все здорово, что не удар в темечко.
К Богу я хорошо отношусь. Я в этом деле рассуждаю, как Ассоль, которая с утра говорила: «Здравствуй, Бог!» – а перед сном: «До свидания, Бог!»
Вот и все, а что в промежутке, мне не надо. Но кому-то, наверное, надо.
Это же вопрос совести: неспокойна – бегом за свечками.
То, что церковь с государством сращивается, так это только мои поздравления. Я же говорил: все чиновники у нас объединяются против народа. Так что несправедливо, если церковь окажется в стороне.
* * *
Как нам быть с эмигрантами, чтоб не было как у французов с арабами?
А никак. Не нарожали народ – берем на стороне. Экзюпери утверждал, что мы в ответе за прирученных. А прирученные бывают разными. И крокодилы случаются. Ну, если тебе с самого начала хотелось крокодилов, то, приручив и раскормив, не спускаешь же их потом, скажем, в речку.
Какие-то государственные вопросы меня еще обременяют? Ой! Занялись бы помойками! Вот было бы славно! А то ведь за что ни возьмись – все помойка.
* * *
Вообще-то, если есть газопровод, то все, кто не имеют к нему отношения, представляются мне лишними людьми. Им надо придумать занятие. Или в очереди пропадать, или размышлять о национальных программах.
Мне позвонили и спросили, не изменил ли я своего отношения к делу Пуманэ. К тому самому Пуманэ, что подозревался в терроризме. Он был забит в милиции насмерть.
Я сказал, что не изменил: убили невинного человека.