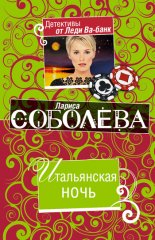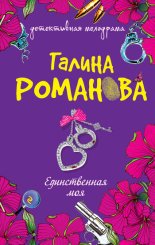Бортовой журнал 2 Покровский Александр

– Саня! – сказал я. – Просвети! Может, я – дурак и все не так понимаю?
– Да нет! Все так. Лодка из нашей базы. 613 проект. Ну, вышло там у них из строя вся навигация на боевой службе? Штурман шел по счислению. И дошел!
– Это точно 1981 год?
– Точно!
– У них были торпеды с ЯБП (ядерный боезапас), а то меня этим шведы просто задолбали?
– Конечно были. Две штуки. Как всегда. Это же боевая служба! Должны быть!
– А, ну да! Совсем забыл. Боевая же! Конечно были!
– А чего они так боятся этих торпед?
– А я не знаю. По ним хоть молотком бей, все равно не получится Хиросимы с Нагасаками!
– Да, у них и заряд – полная ерунда!
– Ну да! Только пирс разрушить да базу накрыть!
– Ну не десять же килотонн!
– О чем речь! Там столько степеней защиты!
Так что Саня меня успокоил. Ну их, этих шведов, задолбали!
* * *
Перезвонил швед и сказал, что он тут подумал и решил, что в этой истории, скорее всего, дело обстояло так, что мы (русские) просто заблудились. У них мнения среди военных разделились, одни сказали, что ничего русские не имели против Швеции, а другие за то, что имели. Просто когда допрашивали командира севшей на мель подводной лодки, то он в показаниях путался, и все решили, что что-то тут нечисто.
А я сказал, что у командира столько инструкций и всяких наставлений, что там немудрено запутаться и говорить не пойми чего. На это надо делать поправку.
Так что мы решили со шведами дружить, и на все их вопросы ответить, и нужных людей им показать, и чтоб они тоже ответили – о как!
* * *
Господи! Сохрани всякую халяву для любителей культуры: поэтов, писателей, художников и прочих служителей. Не уничтожай, Господи, самих основ. Пусть они врываются на фуршеты и едят, едят, едят торопливо и за фужеры с вином хватаются: «А можно мне еще, там у меня друг?»
* * *
Сейчас сделаем обнажение приема. Это я о литературе и пафосе.
Все, что связано с пафосом, у меня рано попало в зону великих подозрений – повязывание красных галстуков и прочее.
Сначала я почему-то считал, что если мне повязали галстук, то я сейчас же должен что-то делать – полезть на забор, по крайней мере. Но никто рядом со мной не полез на забор. Вообще никто никуда не полез. Все разошлись, я остался. Один.
То есть я сразу заподозрил, что в этом кроется какая-то чушь. Предполагалось, что если я с галстуком, то я должен немедленно помогать бедным, больным или же калекам. А если я без галстука, то я сейчас же попадаю в область Мальчиша-Плохиша и начинаю яблоки воровать. Я только что прочитал «Тимур и его команда», и все мои первичные предположения были оттуда, вот только я никак не мог понять, как же они там все время обтряхивают яблони. То есть яблок – море, и кто-то все время трясет эти несчастные яблони, а они, яблоки, от этого ничуть не страдают – на следующий день опять появляются. Я тут же произвел расчет, и получилось, что все яблони во всей деревне можно было за две недели обтрясти и после этого сдохнуть от скуки, а у них там все так здорово развивается – появляется организация, которая борется с этими ябложорами. Я даже эксперимент провел: взял и съел килограмм яблок. На следующий день у меня болел живот, и яблок мне еще месяц не хотелось. Ну и мои братья однажды по примеру этих негодяев полезли и сожрали на бахче какой-то зеленый виноград. Они тоже после этого целый день ходили с вздувшимися животами.
И не то чтобы я сразу понял, что там все ложь, нет, я верил Гайдару, я просто хотел понять. Ну нельзя каждый Божий день ночью (!) обтряхивать у бабушки такой-то яблони, потом то же самое делать у бабушки сякой-то. Не получится сделать из этого профессии. Я же хотел дойти до самой сути. Мне надо было удостовериться, что это не вранье.
Потом я прочитал Фенимора Купера «Зверобой». Он мне тоже понравился, но что-то меня там не устроило. И вот я читаю у Марка Твена про того же Купера: ну сколько индеец может прыгать сверху – «боевая раскраска его налилась, плечи взбугрились, лицо исказилось». В это время, пишет Марк Твен, плот-то давно уплыл, а он все прыгает и прыгает. Естественно, он грянулся в воду, потому что нельзя быть таким неловким индейцем. То есть Марк Твен направил меня в нужную сторону, и я стал понимать условность литературы.
А потом помог «Золотой теленок». Я очень рано понял, что в «Золотом теленке» все написанное – правда, а вот в том, что папа мой стал коммунистом, правды нет. Он стал им по недоразумению. Недоразумел он. Он мне очень долго объяснял и никак не мог объяснить, что при коммунизме будет много товаров, зайдешь в магазин и все бесплатно возьмешь. Меня это сильно озадачило. И не то чтобы все всё быстро заберут – нет, я не понял другое: зачем производить, если и так в магазине все будет? «Ну как это «будет»? – говорил папа. – Надо же работать!» – «А зачем работать, если и так все есть?»
Папа подумал и начал мне говорить про производительность труда.
И я понял, что будет наблюдаться такая производительность труда, что, допустим, человек кнопку нажал, и автомат ему выкинул семьдесят пять гондонов, а ему нужен только один, а остальные семьдесят четыре он может подарить кому угодно.
И я еще тогда подумал: «Ну как же так?»
То есть я очень рано не увидел никакого смысла в этом производстве.
А дальше – мне было очень легко. Как только речь заходила о светлом будущем, то я представлял себе сразу семьдесят пять гондонов, и все сейчас же вставало на свое место.
* * *
У космонавта Юры Батурина хочу взять интервью.
– Только без джентльменского набора, ладно? – говорит он.
Что он под этим понимает, я не знаю. Наверное, журналистские всякие штуки.
Я ему сказал, что буду задавать вопросы не совсем обычные.
– И не сегодня, хорошо? А то я не совсем готов.
– Хорошо.
– А что это за вопросы?
И я ему рассказал, как у меня однажды брали интервью. Одна немецкая журналистка просила отвечать на неожиданные вопросы неожиданно. Например, что вы думаете об облаках?
– Об облаках?
– Да! Вот смотришь на облака, и что приходит на ум?
Юре вопрос нравится.
– Однажды на орбите была сплошная облачность. Ничего не было видно. Одни облака. И я решил смотреть на облака. Целый день смотрел. Я увидел там облака Леонардо да Винчи. Я потом такие же видел на его картинах. Красиво. А потом вдруг ты понимаешь, что твое «я» простирается за пределы скафандра. Это особенно чувствуется, когда остаешься один в капсуле. Тогда твое «я» заполняет всю капсулу.
– Это как в море. В море нельзя плыть несколько часов без того чтобы думать о том, что все вокруг – это ты. Что ты и море – это одно и то же. Что рыбы – это ты. Они подплывают и плывут рядом. Потом они отстают, уходят в глубину.
– Это точно. Я люблю плавать в море. Такие же ощущения.
– А правда то, что в какой-то точке на орбите космонавты вдруг начинают слышать рев динозавров и звуки средневековых сражений – лязг мечей, например?
– Нет, неправда. Просто в невесомости мозг человека, как и любая жидкость в состоянии невесомости, стремится принять форму шара, а черепная коробка не дает ему это сделать. То есть на какие-то области мозга давление усиливается, а на какие-то – ослабевает. У человека могут проснуться способности к пению, к рисованию, к написанию музыки. Причем на Земле все это утрачивается.
– И человек приходит в свою норму?
– И человек приходит в норму.
Вот такое я взял у Батурина короткое интервью.
* * *
Говорили с Женей Бунимовичем о русском языке, после чего выработали с ним следующую декларацию для тех, кто сетует на то, что русский язык обедняется, размывается, деградирует.
Граждане! Ничего он не деградирует! Вот называют вас «носителями языка», вот и будьте «носителями».
Носите то, что вам дали.
А язык все равно найдет себе дорогу. Он пробьется. Если надо, он под землю уйдет и там будет течь. Есть же подземные реки. Они текут даже там, где на поверхности все выжжено, пустыни, солнце да песок.
Вот и язык так же. Он все пропитывает собой, все в себя вбирает, а потом, что не надо, осядет где-то и язык очистится. Сам. Без академиков.
А молодые говорят на таком языке, потому что именно они более всего способны на эксперименты с языком. Должен же кто-то что-то новое в язык привносить. Вот они и привносят. Ничего страшного. Они потом перебесятся и будут, как мы.
А язык Гоголя никуда не пропадал, потому что в нем не только слова, но и мелодия. Слова могут меняться, а вот мелодия…
Мелодии у языка могут быть разные.
Не все они языку подойдут, но уж если подойдут, то это навсегда».
* * *
1 апреля не только День дураков, но и День птиц.
Меня с Колей пригласили читать стихи и прозу, посвященную птицам.
Коля читал про своих пеночек, а я – про ворон.
Там еще на пианино и на балалайке здорово в промежутках играли приглашенные артисты.
Потом вышел мальчик Петя осьмнадцати лет и сказал, что он прочитает стихи про Путина.
«А где же здесь птицы?» – спросили все, на что мальчик Петя отвечал, что Путин – очень важная птица.
Потом он прочитал стишки. Одним матом.
В этот момент я подумал, что у киборгов нет будущего, если даже мальчик Петя так матерится.
* * *
Одного поэта спросили: «Как же так? Говорят, что вы – пьяница, бабник, бездельник, даже мелкий воришка – вы воруете деньги у своих родственников.
А в стихах – вы певец и мечтатель. Вы пишете о любви, о прекрасной женщине, о чистой душе». – «Но я же пишу только с восьми до десяти, – отвечал он, – а дальше я свободен!»
* * *
Коля считает, что наш юмор находится в языке, потому что есть многие территории, темы, что ли, к которым мы не прикасаемся. В этом есть особенность нашей цивилизации. Мы позволяем себе не додумывать мысли до конца. Может быть, поэтому нет и русской философии.
Я сказал на это, что русский язык не обязателен. Зачем додумывать до конца? Ты должен выдумать формулу, а как тут можно выдумать формулу, если это все не обязательно к исполнению. Просто формула, и все. Промежуточная, неустойчивая.
* * *
Кстати, обязательными могут быть те русские люди, что живут на окраинах империи. Там смешение языков, и им, чтобы выжить, надо выбирать из русского языка самые устойчивые его формы.
* * *
Чиновники во все времена советской власти изо всех сил пытались сделать русский язык обязательным. Они его выхолащивали, выхолащивали – все газеты были похожи друг на друга – и заколебались выхолащивать. Язык вывернулся. Он просто старше любых чиновников.
* * *
1 января 2006 года у нас была жуткая ночь. Мы встретили Новый год, а потом сестра жены Лариса с мужем уехали. Моя жена всегда звонит им потом и спрашивает, как они доехали – все-таки на машине, всякое бывает. А тут она звонит – и тишина. И тишина по всем мобильникам и по домашнему. Ната всех поставила на уши. Все бегали и звонили – в морги, в «Скорые помощи», в милиции. Потом отправили к ним домой ходоков. Выяснилось – они приехали и легли спать, отключив все телефоны.
* * *
А Саня наш пошел погулять и в три часа ночи привел компанию. Саня уже был выпивший и компания навеселе. Ната встала и всех разогнала. А утром Саня нам устроил скандал на ровном месте, мол, он уже взрослый, а мы при его друзьях его оскорбляем.
Я обычно стараюсь эти скандалы как-то гасить, пытаюсь перевести все на разговор, пусть все выскажутся, расскажут о претензиях друг к другу.
Но тут он меня оскорбил, и – не знаю, что на меня нашло – я зарычал, схватил его за грудки и замотал из стороны в сторону, потом бил по голове, по рукам, а сам что-то говорил, говорил: «Уходи! Пошел вон! Немедленно! Все свои вещи собрал, и вон!»
И Ната кричала: «Вон!» – а он вцепился в батарею и просил, чтоб мы его не выгоняли. Он долго просил, а мы все не могли успокоиться, все повторяли, чтоб он ушел, ушел, ушел.
Потом все устали. Я сидел, повесив руки. Жутко обессилел. Будто сам себя избил. Перед глазами все плыло. Не готов он жить один. И когда он только будет готов? Когда они вообще будут ко всему готовы? Говоришь им, говоришь – все впустую. Твое – не надо. Своего нет – ну и что? А если нас завтра не будет, и что тогда? Куда он пойдет? Сразу повзрослеет? Да он же не хочет взрослеть! Его все устраивает. Дурак дураком!
А потом мне опять стало как-то все равно, апатия ко всему – да идет оно все!
А потом я вдруг подумал, что на самом-то деле это ведь я не готов к тому, что он повзрослеет, что он уйдет, что вечером мы будем оставаться одни – это хорошо, конечно, но эта тишина, без него, без всех его глупостей.
Как же мы-то будем? И может, это все не его бунт, а наша надвигающаяся немощь? Что мы-то без него? И как это все будет – дети ушли, и он не приходит поболтать на ночь, и не говорит всякую чушь, и я не говорю ему, что хорошо бы книжки читать, а он мне отвечает, что он читает, а я его тут же ловлю на том, что все это ерунда.
Все это ерунда. Ерунда.
Да нет, все хорошо. Пусть уходит, взрослеет.
А ты к этому готов? Готов. Я готов. Да. Он уходит, не звонит, а потом – у него семья.
Да.
Черт знает что.
* * *
Ната позвонила и сказала: «Надежды нет!»
Я сразу примчался. Моя любимая теща умирает. Я знаю тетю Нину с двенадцати лет. Она все время работала – все в дом, все в дом. У нее уже пятьдесят три года грыжа на животе. Боялась оперировать. Теперь увезли по «скорой». Я денег дал, чтоб привезли в Мариинскую больницу – там у меня друзья, врачи.
Когда привезли, в приемном врач качал головой, мол, ребята, нельзя же так. А потом меня успокоили: не волнуйся, операция, да таких операций мы делали… и я успокоился, поверил, и все было вроде хорошо, дело пошло на поправку, к выписке дело-то шло. Операцию сделали, мы пошли купили кучу лекарств, но потом открылась язва в желудке – кровотечение, не унять.
Тетя Нина скончалась в восемь часов вечера – нам позвонили из реанимации. Я не мог говорить. Ната зарыдала навзрыд. Сашка в это время сидел в своей комнате и не слышал всего. Я зашел и сказал ему прямо в затылок: «Твоя бабушка умерла! Иди успокой мать!»
Он не пошевелился. Я тогда еще подумал: «Бесчувственные они люди, молодежь! Бабушка его на руках носила, столько любви, а тут – молчит!»
Потом я еще раз зашел к нему. Сашка не шевелился. Все смотрел в свой монитор компьютера. По щекам у него текли слезы. Ручьями. Он сидел не шевелясь. Минут тридцать.
Ната лежала на кровати, кровать ходуном ходила.
Я пошел на кухню. Там я вдруг затрясся весь, потом изо рта вырвались какие-то звуки – что-то похожее на то, что не хватает воздуха, какое-то жуткое мяуканье, что ли.
Никто не должен видеть меня, никто! Не сейчас! Не сейчас! Я приду в себя. Все будет хорошо. Я сильный. Я очень сильный. Это бывает. Со всеми. Вот и со мной. Ничего. Я справлюсь.
Сашка пошел мыться в ванную. Мы старались с ним не попадаться друг другу на пути.
А врачам, друзьям из Мариинской, я больше не звонил.
Все. Нет друзей.
* * *
– Хорошо, деда, хорошо!
Дед после инсульта учится ходить. У него отнялись левая рука и нога. Теперь приходит в норму, но очень медленно.
– Давай еще раз, дядя Саша, ходить надо! Все время ходить. И руку разрабатывай! Вот это кольцо резиновое все время сжимай!
А еще деду вырвали все зубы. Вернее, то, что от них осталось, – там одни корни гнилые. Надо делать протез. Дед терпел. Он терпеливый.
Дед всю жизнь работал, стоял у станка. Он не понимает, как это – ничего не делать?
Все время теперь сидит перед телевизором. Или ходит по квартире, тренирует ногу. Дед упорный, но иногда сидит и плачет – сразу стал немощным. В один раз.
Он очень крепкий мужик, но и крепким достается. То, что плачет, – это ничего. Это бывает. Он придет в себя. Просто одиноко. Он один в квартире. Мы – только наездами. Он целый день один.
– Деда! – звоню ему. – Ты руку тренируешь?
– Да!
– Давай, не забывай, ладно?
– Ладно!
При встрече он всегда мне левой рукой сжимает мою руку:
– Ну как? Крепче стала?
Руки у деда всегда были железные. Он возился с железом. С четырнадцати лет. В войну точил снаряды. Ему ставили ящик, он на него становился и точил.
Я жму руку. Она еще только-только начала сжимать.
– Отлично, деда! – говорю я – Молодец! Какой ты молодец! Правильно! Жми! Ты только захоти, и все получится. Видишь, какой ты молодец?
Дед улыбается.
– Сильно жму?
– Очень! Молодец!
Дед видит, что я вру, но ему приятно, и он снова берется за резиновое кольцо.
* * *
В историю я не верю. То есть я не верю в то, что ее потом точно записали в нужные скрижали. Почему? Потому что я же вижу, что у нас за окнами делается. Делается одно, записывается другое. И времена здесь ни при чем. Времена всегда одинаковые.
Я верю в захоронения и выгребные ямы. Захоронения – это здорово. Разрыли курган номер пять – а там князь-солнышко целиком лежит. И с ним – парочка жен, чтоб скуку, значит, в преисподней разгонять, и парочка слуг – почему-то считалось, что и на том свете князь станет гадить точно так же, как и на этом, и потому нужны те, кто из-под него горшки вынесет.
И выгребные ямы – это тоже здорово. Они потом культурным слоем становятся. И уж в этом культурном слое не только черепки, но и сережки имеются, что в нечистоты свалились и их потом вместе с ними и вынесли.
* * *
Как это не было Куликовой битвы – потому что не обнаружено массового захоронения? Отцы родные, а как же это: «...о поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?»
Битва была, а вот захоронения, может, и не было. А зачем хоронить? Мечи, в землю воткнутые, щиты да кольчуги – они только на картине Васнецова очень сильно задержались – а так их расхищали с поля битвы в один миг.
Потому что они денег очень больших стоили. В ту же кучу шли и шлемы, и сбруя с коней, и прочее, и прочее. Все, что можно продать, стаскивалось с покойничков в одно мгновение.
И кафтаны, и сапоги, и рубахи нательные. Конечно! Все шло в дело – где халат под родившегося жеребенка подостлать, где рубаху под ягнят подстелить. То есть после сражения, через пять минут, на поле уже одни голые покойнички лежали.
А мясо в те времена не пропадало – волки, собаки, вороны, стервятники.
А кости потом сгребали куда-нибудь да и жгли – отличное, кстати, удобрение.
Так что Куликовская битва была, а вот захоронение – это дело расточительное.
Не викинги, чай, рода княжеского.
* * *
Кстати, о Куликовском сражении. Мне больше всего нравится версия о том, что оппозиционер Мамай собрался сковырнуть Тохтамыша и пошел на него силой великою.
А Тохтамыш, пока ждал подхода орды из Сибири, повелел Москве как одному из улусов Золотой Орды выступить пока что навстречу Мамаю, что они и сделали и, к своему удивлению, разбабахали Мамая так, что и сибирской орды не потребовалось.
После чего московский улус, задолжавший, кстати, Тохтамышу дань за несколько лет, решил эту дань вообще не платить, и Тохтамышу ничего не оставалось, как расплатиться с подошедшей сибирской ордой долгом Москвы, мол, денежки-то там. Те пришли и сожгли Москву (деревянную, холопскую – князья-то добро свое вовремя вывезли).
То есть денег не получил от Москвы никто. Так Москва и богатела. Сокрытием налогов.
А там и Тимур подоспел. В 1391 году трехсоттысячное войско Тимура расколотило трехсоттысячное войско Тохтамыша. Наголову. Тут игу-то монголо-татарскому и пришел конец.
Так что настоящий избавитель Руси от ига – Тимур.
Вот интересно, а где ему у нас памятник стоит?
* * *
Какие песни пели в моем детстве? Русские, конечно. Бабушка-армянка отлично знала несколько языков, в том числе и русский. Бабушка пела русские народные. Она много пела, романсы любила, но я запомнил только «Ой, полна, полна моя коробушка, есть и ситец, и парча.»
У бабушки был хороший голос. Она пела – мы сидели, слушали, смеялись. Она не пела серьезно. Она пела весело. Оттого и смеялись. Она пела, потом говорила: «Ой, забыла куплет!» – и потом опять пела. А мы хохотали, катались по полу. Нам было смешно. И бабушка смеялась вместе с нами.
И мама тоже пела, но это были уже другие песни – «Каховка» и прочие.
«Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону…» – вот это я никак не мог понять, почему обязательно «в другую сторону»? Или: «Если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой…»– почему смерти, зачем смерти? Ничего себе! А другого ничего пожелать нельзя? Кажется, это стихи Демьяна Бедного. Он такой был бедный, просто бедный, бедный, «дажэ кущать не мог»!
Или песня про Щорса: «Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве..» – а я все думал: «Ничего себе, сколько же в нем крови! Это ж километрами только «след кровавый стелется», а он все едет и едет! Все несет и несет. Цистерну крови с собой тащит», – и в конце он должен был сдохнуть, по моему разумению (или Щорс, или конь).
* * *
Все живое и неживое проходит стадии рождения, созревания, зрелости, старости, смерти.
И народы, как говорил Гумилев, не исключение.
Чингисхан – это, как мне помнится, вовсе не имя. Это звание. Самим человеком себе же и присвоенное. Означает оно что-то вроде «верховный хан». Они шли, как лемминги, собирая по дороге других леммингов. Вечная война кочевников с земледельцами. Кочевники очень мобильны. Еда (сушеное мясо) всегда с собой, вода в речках, корм коням под ногами, оружие на себе. Очень четкая организация войска, замешанная на немедленной смерти ослушникам. Их была тьма. Они пожирали пространства. Как только они осели – они стали уязвимы. Точно так же как и земледельцы. Одно дело налетел, ограбил, убежал, а другое дело – сидишь и ждешь нападения. Конечно, нападающий несет большие потери. По иным данным, разница от двух до десяти раз. Но если у тебя людей немерено, то и это преодолимо. Так что Чингисхан шел. Остановился – проиграл. Тому, кто за ним пошел. Тамерлану, например.
Конечно, он оказал влияние на Русь.
Все оказали влияние на Русь – викинги-обры-литовцы-поляки-турки-шведы-немцы-фашисты – все. А Чингисхан – особенно. И Чингисхан, и Угедей, и Мамай, и Тохтамыш, и все прочие. Это как в организме человека – если б на печень не давили соседние органы, то она бы разрослась так, что человек состоял бы из одной только печени. Только в споре с соседями, только в общежитии с ними же и получается человеческий организм – собрание взаимозависимых органов. Все влияют на всех.
Золотая Орда позволила вызреть Московской Руси. Бесспорно.
И никаким человеколюбом Чингисхан не был.
Время человеколюбов не наступило и по сей день.
Просто в те времена гораздо легче резали людям головы.
Очень действенная методика.
* * *
Что касается того, что монголы церкви и христианство не трогали, так сначала вроде как трогали, а потом перестали. Все боятся чужих богов. И потом – управлять народом легче: с попами договорись, а они договорятся с прихожанами.
* * *
Прибежали с работы, сели за стол картошку кушать и включили телевизор. Мы всегда в это время смотрим новости по «Вестям», чтоб быть в курсе, в какой стране мы все еще живем.
Только включили, как дикторша с глубоким внутренним вздохом говорит: «Путин в Коми». Звучит это в ее исполнении, как «Путин в коме».
У нас даже картошка из ртов повываливалась. Потом мы поняли, что речь идет о республике.
Я немедленно позвонил всем: «Путин в коме. Только что по телику передали!» А хорошо чувствовать, что не только у тебя изо рта все упало. А славно, когда все мы, все вместе, одно и то же чувствуем.
Потом я добавил: «Он в Республике Коми. Просто девушка не удосужилась Коми республикой назвать!» – и сразу же на том конце: «Фу, блин! Ну ты и пошутил! Сейчас позвоню всем, чего я, самый последний, что ли!»
* * *
Теперь возродят институт замполитов. Они будут называться «воспитатели и психологи». Первый же будущий замполит на вопрос о дедовщине в армии посетовал на отсутствие гауптвахты. То есть без тюрьмы воспитать никого невозможно.
Да нас один вид нашего командира воспитывал. Такой жуткой силы был этот человек. И не физической. Духовной. Помню, как я удивился, впервые увидев его руки. Руки как руки, маленькие такие, а вот мне почему-то казалось, что у него огромные кулаки.
Он нам говорил, что надо вырабатывать командный голос. Голос у него действительно был очень сильный.
«Надо встать подальше от строя и командовать так, чтоб вас все слышали!» – говорил он.
На разнос к нему лучше было не попадать. Он нервничал, у него дергалось все лицо, голос звенел, но. ни одного бранного слова в твой адрес, ни одного взмаха руками.
Случалось, что он матерился, но это не относилось к конкретному человеку, это имело отношение к ситуации, и случалось это так редко, что после этого хотелось только взлететь.
На строевых – всегда подтянут, все приемы выполняет как по струночке. По тревогам – бежит вместе с нами.
Никто никогда не сомневался, что он все всегда делает лучше всех. Никто и никогда.
Мы его жутко боялись и одновременно гордились им. Когда у нас спрашивали: «Как вы с ним служите? Он же ненормальный!» – мы надувались от важности и отвечали: «И не говорите! Мучаемся! А что делать?»
На втором курсе полгода готовились к московскому параду. По шесть часов в день строевые на плацу с карабином. Хождение по кругу – карабин на согнутой левой руке. Рука отваливалась. Тогда-то я и понял, что такое строевые занятия на месте и в движении.
Потом, на флоте, я парочку раз устраивал некоторым строевые занятия. Брался разгильдяй, по которому гауптвахта плакала, и ему говорилось: «Вы нарушили воинскую дисциплину. У вас слаба строевая подготовка. Назначаю вам дополнительные строевые занятия. Тема занятий: строевые приемы на месте и в движении. Место – плац. Руководитель – я!»
И только во время, отведенное распорядком дня, – с ним на плац.
Мороз под тридцать, ветер, а ты его в казарме одеваешь потеплее, проверяешь наличие теплых носков и кальсон, и на плац – а все в казарме смотрят на все это дело в окошко.
И сорок пять минут. Никаких поблажек ни себе, ни ему. Ножку на весу я держать умею и носок тянуть умею. Так что кто кого передержит – это даже не вопрос. Через десять минут он ходил вместе со мной по плацу только строевым. Он потом еще сутки вскакивал и принимал стойку «смирно», если я входил в кубрик. Причем он делал это рефлекторно.
А какое впечатление производила на испытуемого фраза: «Товарищ матрос!» – у него сразу спина выпрямлялась.
В наше время считалось, что если ты посадил человека на гауптвахту, то грош тебе цена, поскольку ты с ним не справился. А если не справился с ним с помощью только одного устава, то какой же ты, к чертовой матери, командир?
Все зависит от командира. Абсолютно все.
А теперь какие у нас командиры? Получил письмо от одного своего товарища. Он переслал мне письмо своего друга. Тот служил на тех же лодках, что и я в Гаджиево.
Вот выдержки: «На столетие подводного флота познакомился с нашим выпускником 2000 года. Послушал его с ужасом. Не наш человек по психологии! Как же надо так опустить тех, кто должен сидеть в прочном корпусе? Вот смотри, когда они учились в системе, то всячески скрывали свою принадлежность к подплаву, придумывали версии, что они секретные сотрудники ФСБ, потому что если девки узнавали, что они подводники, то даже бомжихи-лимичитцы убегали. Еще: они мусор выкидывали из казармы на улицу. Я сказал, что нормальные офицеры, будучи курсантами, мусор из окон гальюнов на улицу не выбрасывают, на что получил ответ, что это минеры и штурмана выбрасывали мусор на улицу, а «приличные» ракетчики только во внутренние дворы…
Предыстория такова – я зашел в гальюн, а там не только стекол, но и рам нет. Я спросил, почему это у них так, на что мне ответили, что курсантам лень выносить мусор, они сначала открывали окна, затем выбили стекла, когда окна забили, а потом вырвали рамы, когда окна забили досками…
Во время службы этот выпускник ни разу (за 4 года на Камчатке) не получал РБ (рабочее платье) и тапочки (покупал в магазине), 5 дней (за 4 года в линейном (!!!) экипаже) был в море, а что такое морской паек – слышал по рассказам, из мяса только тушенка, да и та просроченная. И главное: командир БЧ-2 прилюдно бил морду СПК (старпому) за то, что тот поставил его в новогодний наряд. Вот такие у нас командиры БЧ-2! А во время ссоры этого выпускника образца 2000 года с коллегами два старлея его держали, а третий прижигал ему рожу окурками…
Там еще были разные истории, но от ужаса я их тут же забыл…
Такую «офицерскую» службу я себе не представляю…
Это, блядь, пиздец, приехали!..»
* * *
«Если же, вы, дорогая Эмили, запасетесь терпением и снисходительностью на мой счет, то я расскажу вам, каково это кататься на коньках против ветра во Фландрии. Нет, нет, нет! Я не родился в этой шелудивой, злосчастной стране. Я родился в другой стране, почти столь же злосчастной и шелудивой. Но я уверен, что катание на коньках против ветра имеет во всяком месте общие, незабываемые черты. Почему же я подумал о Фландрии? Хороший вопрос! Я подумал о ней, потому что некие классики именно там и подхватывали скарлатину уже в зрелом возрасте.
Так вот, о коньках. Стоя на этом сложном для ходьбы инструменте, вы хотите сохранить равновесие и в это мгновение, совершенно непроизвольно, открываете свой рот. И что же? Он надувается случившимся порывом ветра. После этого вы уже не занимаетесь сохранением равновесия, вы увлечены только тем, что всеми силами пытаетесь освободиться от такого количества попавшего в вас воздуха. Каков же результат? Результат всегда таков: ноги ваши взлетают выше головы, а тем, к чему они почти у всех нас крепятся, вы с неистовой мощью впечатываетесь в оледенелую твердь. И что же ветер, успевший до этого наполнить воздушными массами ваше существо? Он стихает чудеснейшим образом, а лишний дух покидает ваш рот и грудь.
Через естественные дырочки.
Не кажется ли вам, что я злоупотребил вашим терпением, и все, что здесь сказано, величайшая чушь? Но сознайтесь, что читать это вам было весело.
Засим остаюсь, всегда ваш,
Сомерсет Моэм»
* * *
Умерла Ольга Ивановна Глебова. Вдова моего начальника училища – Глебова Евгения Павловича. Маленькая такая старушечка. Близкие ее называли Бубенчиком.
Она была трогательна и строга. Ей понравилось то, что я написал о Евгении Павловиче в «Системе». Их дочь, Наталья, нашла меня через кучу приятелей, и мы перезнакомились, подружились. Ольга Ивановна говорила, что она знает наизусть пятую главу этого сочинения. На той встрече она сильно волновалась, и голос ее немного дрожал. Она все говорила про Глебова и говорила. Что-то не очень значительное, из чего потом составляется жизнь.
Она его очень любила, своего Глебова, очень гордилась им, а сама всегда была на вторых ролях, никому не перечила.
На поминки пригласили близких, друзей, соседей, садовников, врачей. Все хорошо говорили.
Теперь они будут лежать вместе. В одной могиле. Огромный Глебов и его маленькая жена.
* * *
Мы их можем только любить. И больше ничего. Даже если кирпичи с неба падают, на манер дождя. Вот они падают на твоих глазах, а ты что бы ни говорил – все мимо ушей. Думаю, у Бога с человеком такие же проблемы. То есть родители, все абсолютно, немножко боги. Они могут только наблюдать и любить. И хорошо, если их в ответ тоже полюбят.
* * *
Гантман Александр Иосифович (наш большой книготорговец) рассказал мне анекдот. На корабле в открытом море капитан встречает незнакомого человека и спрашивает у него: «Вы боцман или лоцман?» – «Я – Коцман!» – отвечает тот.
Я рассказал анекдот Нате. Она смеялась, и на следующий день она рассказала его в своем отделе, но там никто даже не улыбнулся.
«Что-то с этим анекдотом не так, – говорила мне она потом, – мне он показался смешным, а наши – даже не улыбнулись!»
Потом она рассказала его мне: капитан спрашивает у незнакомца в море: «Вы лоцман или боцман?» – «Я – Гантман!» – отвечает тот.
После этого я позвонил Александру Иосифовичу и рассказал ему его анекдот еще раз.
* * *
Вчера участвовал в сцене. У нас на улице Большой Зелениной множество всяких дорожных знаков, и все время появляются новые. В основном – против автомобилистов. Есть один очень подлый знак: «Остановка запрещена, эвакуатор». Он висит рядом с автобусной остановкой, и его не видно подъезжающим – он повернут в другую сторону; и вроде как он для тех, кто едет навстречу, а тот, что для этой стороны, – он на перекрестке установлен, но там он висит так, что переезжающие его тоже не замечают, потому что перекресток очень сложный и всем хочется его побыстрее миновать, так что на знаки смотреть некогда.
Вот эвакуаторы и собирают каждый день знатный урожай.