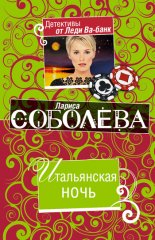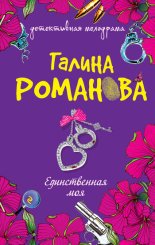Бортовой журнал 2 Покровский Александр

Об этих подлых знаках знают только местные – так что случайно остановившиеся попадаются.
Вчера идем с Натой, а эвакуатор забирает черную «Тойоту», и рядом мечется молодая женщина вся в слезах и умоляет не забирать ее машину, потому что у нее ребенок болеет, и она остановилась, только чтоб зайти в аптеку. Зрелище поганое – женщина плачет, руки у нее дрожат, она уже лишена всяких признаков человеческого достоинства.
Мы, конечно, остановились, и я сказал милиционеру, что он не имеет права забирать машину в присутствии владельца – это противозаконно. Он может только выписать счет за неправильную парковку. Все остальное – нарушение закона. Я еще много чего сказал о Конституции, о праве на частную собственность и о том, что милиция должна защищать граждан, а не ненавидеть их за то, что они ездят на дорогих иномарках.
А милиционер сказал, что я мешаю ему выполнять его долг, и он сейчас заберет меня в отделение. А я сказал ему, что он сейчас выполняет не долг перед народом, а нарушает закон, и я ему об этом говорю. Кроме того, он провоцирует меня на вмешательство, угрожает мне и тем самым превышает свои служебные полномочия.
В общем, они отпустили девушку, она никак не могла вставить ключ в машину, Ната дала ей валидол.
Я потом ночью плохо спал.
* * *
У Сашки одиннадцать хвостов. Они еще с первого курса тянутся. Я когда узнал, у меня просто руки опустились. Как же так? Я столько старался, а оно все время идет прахом. Что они за люди? Глаза не горят, жить отдельно не могут и не взрослеют, хоть ты тресни.
Не будет учиться – попадет в армию. А это не та армия, что мы когда-то все служили, это жертвенник. Там каждый день осуществляются жертвоприношения. Кровь пускают.
И вот его туда? Таким неприспособленным?
Мой опыт не нужен, своего получать не хотят. А вокруг – садок с крокодилами.
Мне было очень плохо. Я сидел, и такая тяжесть вдруг навалилась со всех сторон – руки не поднять. О Господи! Может, это мне испытание такое, а? Может, я должен что-то в этой жизни понять? А что я должен понять, а, Господи? Хоть бы намек какой, маленький!
Через некоторое время я начал сам себя уговаривать: «Давай так, он не дебил – это уже хорошо. Это прекрасно. Это здорово. Не наркоман – просто отлично. Он не болен неизлечимо – еще одна удача. Ну, медленно развивается ум. Ну и что? Сейчас он развивается медленно. Да. Что еще ты можешь сделать? Ты можешь только наблюдать. Только смотреть. Вмешиваешься – скандал, сердце рвешь. Ты думаешь, он хоть один раз уронит слезу? Нет, он перешагнет через тебя и пойдет дальше. Ему же ничего не надо. Твоего – ничего. Отлично! Отлично я себя утешил. Так! Давай еще раз. Он – не урод…»
Так я сидел довольно долго. Потом пришел Санька– шумный, голодный:
– Привет, ты дома? Как дела?» – сел есть. Ест жадно, много.
– Саня, как успехи? Сдаешь хвосты?
– Сдаю. Все хорошо.
– Посуду помоешь?
– Да, оставь в раковине!
Так и не помыл посуду.
Что тут сказать.
* * *
Почтительнейший из соотечественников, виновный лишь только в избытке изящества, подаренного природой и предками, целиком поглощенный не столько собой, сколько течением обыденности, ошеломительный в желаниях и поступках. Словом, пепел и алмаз.
Именно в таких выражениях я хотел бы описать одного своего современника, имеющего отношение к сохранению и приумножению наших ценностей, на букву «П».
Но что он говорит о детях своих? Но как он о них говорит? Ведь что все эти вазы и картины, как не дети его? Ужас! Вчерашняя газета. Невероятная скука. Чудовище под видом красавицы! Нет! Не могу! Пойду упьюсь вина дешевого, рыгая и бурля!
* * *
Мне недавно рассказали историю обо мне. Как-то я пришел к своему другу. Был я в форме и прямо с корабля, а там было веселье в самом разгаре. Взрослые, в основном дамы, уже были расслаблены, всюду вино, а дети бегали друг за другом и орали. Мам это волновало уже очень слабо, потому что бокалы с вином то и дело подносились ко рту. Я спросил, не пробовал ли кто-нибудь успокоить детей? Мне сказали: вот и успокой их. Я пошел и немедленно всех построил, потом я назначил им командира (самого горластого и сильного), потом я провел с командиром инструктаж, я сказал, что командир должен заботится о своих подчиненных и следить за тем, чтоб никто не орал, потому что можно надорвать горло. Потом мы играли в засаду и ползали через минное поле. Ползти надо было молча, потому что за нами следил враг.
Пока народ полз до границы и обратно, я успел чего-то там съесть и спросить у милых дам: а чего это все дети до сих пор не спят? Мне сказали, что это невозможно сделать, дети заснут после часа ночи.
Тогда я объявил тому самому старшему, чтоб он собрал всех, потому что сейчас мы пойдем лежать в дозоре. Все дети отправились со мной в спальню, где мы улеглись на кроватях. Я сказал, что хорошо бы накрыться одеялами, потом – что так мы будем незаметны для врага. Потом я сказал, что лежать надо очень тихо и ни в коем случае не спать, так как именно через этот участок границы должен пройти вражеский караван. Пока они лежали, я рассказывал им о морях, об океанах, о пустынях, о горах.
Через пять минут я вернулся за стол, потому что к этому времени все их дети уже спокойно спали.
«Не может быть»! – сказали мамы, услышав, что все их королевство заснуло через пять минут.
Они по одной тихонечко заходили в комнату, чтоб самим убедиться.
Потом они приходили и говорили: «Вот это да!»
* * *
Саша Крыштоб говорил мне, что если на «Курске» открыта задняя крышка торпедного аппарата, то это может быть оттого, что они там стравливали кислород из торпеды. Перекись в торпеде выделяет кислород, и ее стравливают. Есть методика этого дела. И вот этот кислород (или перекись) мог попасть в торпедный аппарат. А там всюду смазка. От этого и мог возникнуть первый взрыв, потом пожар, огонь доходит до стеллажа с торпедами – и вот вам второй взрыв.
* * *
Чернобылю двадцать лет.
Я помню 26 апреля 1986 года. Через сутки я уже стоял на въезде в Северодвинск на пограничном посту и проверял всех въезжающих с радиометром. Просто входил в автобус и проходил с ним между рядами кресел, и иногда он показывал: есть. Тогда человека просили пройти на пост вместе с вещами.
А через двадцать лет я поехал в Киев на конференцию, посвященную этой дате. Я поехал вместе с Владимиром Степановичем Губаревым.
Он был главным редактором «Правды» по науке.
Когда-то он выучился на физика, а потом его прикомандировали к газете на некоторое время. Он тогда не знал на какое. Оказалось – на всю жизнь.
Он теперь на пенсии, пишет книги про ученых.
Он познакомил меня с Патоном.
Борис Евгеньевич Патон – сын того Патона, что поставил сварной мост через Днепр.
Ему восемьдесят семь лет, и он руководит не только институтом, но и Академией наук Украины. Одно время его считали ставленником Москвы, а в советские времена его наказывали – не награждали орденами.
Строптив был. Да он и сейчас строптив. Работает, работает, работает– ему некогда. Он уже почти не видит одним глазом – беда со зрением – но ум ясный. Тренировка. Он всегда тренировал свой ум.
В семьдесят шесть лет он сломал ногу, и врачи запретили ему кататься на водных лыжах. С тех пор он только плавает в бассейне.
Борис Евгеньевич Патон невысокого роста, худощавый.
Он может сварить все своими сварочными аппаратами. Даже живую ткань.
Когда он лежал в больнице со сломанной ногой, то он там придумал, как сваривать человеческую ткань. В его институте сварят что хотите, будь то печень, легкие или мышцы.
После торжественного собрания на фуршете Борис Евгеньевич произносит тосты. Тут все произносят тосты – все они были там, на Чернобыле, двадцать лет назад. Это самое главное для них время.
В одном тосте прозвучал упрек в адрес академиков Ильина и Израэля. Они работали на Чернобыле, но потом их объявили «персонами нон грата». Они обиделись и больше не приезжают. А ведь именно они не дали эвакуировать Киев. Губарев немедленно взял слово и напомнил всем об этом.
– Как же это, Владимир Степанович? – спросил я у него вполголоса.
– А так. Видно, надо было на кого-то все это свалить.
– А что же их Патон не защитил?
– А Патону самому тогда досталось.
А на следующий день мы были в музее Чернобыля. Он устроен в старом здании пожарной части: фотографии, вещи, рукава пожарные.
Первыми там были пожарные. Они поливали реактор сверху водой. Прямо в жерло лили, а потом еще час там стояли. Они получили по четыре тысячи рентген. Это просто сумасшествие какое-то. Неужели никто не понимал, что там стоять нельзя?
– В первое время никто ничего не понимал, а потом – паника, эвакуация людей. Многие умерли не от радиации. Просто от страха, от стресса. И четыре тысячи детей получили рак щитовидной железы. Не уберегли.
– И не спасли никого?
– Кого-то спасли.
Потом мы еще долго говорили с Владимиром Степановичем о будущем атомной энергетики, о реакторах, излучении. Интересно, будут ли у человечества когда-нибудь абсолютно безопасные реакторы?
Мирный атом всегда стоял на атомной бомбе– торопились, торопились, торопились…
В недрах каждого реактора созревал радиоактивный плутоний. Его должны были потом использовать в качестве «ядерного запала» для водородной бомбы.
Мысли о водородной бомбе все уже давно оставили, а вот оружейный плутоний по-прежнему зреет в каждом реакторе. Жутко ядовитая, между прочим, штука. Максимально допустимая концентрация (МДК) в одном кубометре воздуха – одна миллиардная грамма. Он опасней синильной кислоты в десять тысяч раз. Не дай бог, вырвется из реактора.
В Чернобыле это случилось.
А до этого было в бухте Чажма на Дальнем Востоке. Там при перегрузке запустился реактор и. его крышка потом взлетела вверх на полтора километра, а после этого еще и территорию основательно закакали.
В каждом реакторе давление около двухсот атмосфер и температура теплоносителя почти двести градусов, так что не приведи господи, если СУЗы (стержни управления и защиты) из-за ошибки оператора или недоработки конструкции в ненужный момент двинутся вверх. Или произойдет какой-то иной дефект специального уплотнения, через которое эти стержни выходят на крышку реактора.
Что же происходит в обычном, не аварийном реакторе? Уран-235, поймав нейтроны, начинает делится и. и потом отработанные стержни не знают куда девать. А жидкие радиоактивные отходы Великобритания и Франция долгие годы сливали в Северную Атлантику. Япония и США от них не отставали.
А Россия закачивала их под землю или тоже сливала в море.
К 2006 году из более чем четырехсот реакторов в мире выгружено 260 тысяч тонн отработанного ядерного топлива, а это более 150 миллиардов кюри радиоактивности. Из них 180 тысяч тонн – на хранение, а 80 – на переработку.
СССР за всю свою историю смог переработать только 10 тысяч тонн.
Кстати, в результате такой переработки получаются отнюдь не цветы. Из одной тонны получается: 45 тонн высокоактивных жидких отходов (из них потом упариванием, фракционированием и остекловыванием получают 7,5 тонн), 150 тонн жидких отходов средней активности и 2 тысячи тонн низкоактивных отходов. А потом – твердые запечатываем в гору, а жидкие, как уже сказано, сливаем в море – вот такая беда.
А хранение в специальных хранилищах? Хранят, конечно.
Отработанные стрежни хранят в специальных хранилищах. Пятьдесят лет.
Потом и хранилища придут в негодность, и стержни.
Это наш подарок следующим поколениям.
Вот если бы был выбран не уран-плутониевый цикл, а торий-урановый (торий-232 после захвата нейтрона испускает электрон и превращается в уран-233, который потом делится), то радиоизотопный шлейф за ним тянулся бы не такой длинный и возни с ним было бы поменьше.
Но тогда не было бы оружейного плутония.
* * *
У меня была когда-то дача, где я пытался воспитывать своих соседей по участку, которые постоянно жгли мусор. В первую очередь – отжившую свое пленку с парников. Я им объяснял: ребята, вы же даже не в курсе, что вы все время палите – то ли полиэтилен, то ли полихлорвинил. И потом – это же совершенно другая структура. Когда вы жжете, образуется, мягко говоря, непонятно что, которое к тому же еще и воняет ужасно.
Ну неужели трудно запихать это дело в машину, отвезти в город и сдать на переработку?
Ну, если и правда трудно, то хотя бы смастерите из этих остатков что-то наподобие трубы для дренажа, что ли!
Но очень скоро я понял, что им это в принципе не нужно. Человек просто не понимает, что если ты, к примеру, оставил где-то какой-то пакет с мусором, то через некоторое время рядом с ним будут лежать уже двадцать, а потом пятьдесят, сто пакетов. А потом приедет бульдозер, всю эту дрянь свалит в яму и сверху заровняет, вроде как здесь и не было ничего. Вот только через некоторое время на этом месте заколосится бурьян.
Людям не объяснить, что они потом все это едят.
Да, в принципе разные растения ведут себя избирательно: одни, например, могут поглощать свинец, а другие могут его и не трогать. Но микроскопические штуки этого свинца все равно попадают в кожу растений, еще во что-то…
В конце концов, человеческий организм – он ведь то же сито: что-то на нем обязательно оседает (стронций, к примеру, или радиоактивный йод), а что-то проходит через него транзитом. Без толку. Есть такое русское слово – бестолочь, означающее «без толку толочь».
Главная беда свалок в том, что они текут. И происходит это в толще недр под этими свалками. Слава богу, что в основном это пока еще как-то разбавляется самой матушкой-природой. Но природа все чаще уже не справляется. Результат – мутация всего живого.
* * *
Человечество загадило все что можно, и на этом фоне люди сохраняют, скажем, панду, делают ей какие-то прививки. И никто не задумывается, что скоро не будет ни панды, ни «манды» – никого не будет! Ситуация ухудшается в геометрической прогрессии. Зайди в магазин – сколько за эти годы появилось новых упаковок. Так мало того – на одну упаковку надета другая, та завернута в третью, и все это помещено в картонную коробку. Все! Повторяю: все должно быть утилизировано. Если сегодня что-то по разным причинам утилизировано быть не может, значит, это пока просто не имеет права на существование. В противном случае, как я уже говорил, утилизировать будет матушка-природа. А она подходит к этому вопросу очень просто – создает мутантов.
Зона, про которую мы читали у Стругацких в «Пикнике на обочине», – это не фантастика, ребята. Это наш с вами завтрашний день.
И еще: надо вытаскивать человека из бомжового состояния.
Сегодня человек у нас – бомж, потому что мусор – он не только вокруг нас, он еще и в сознании.
Какие животные всегда дерутся до крови, до смерти? Живущие на помойке голуби и вороны.
Мусор воспитывает агрессию, недаром и крысы столь агрессивны. Так и здесь: психология мусора превращает человека в очень страшное животное. В непредсказуемое, опасное животное.
* * *
Гвадалкавирий! Я вне себя от ярости! Вообразите, некоторые философы, уподобленные шакалам (да посыплет им голову Везувий пеплом, да омоет им чресла Тибр уксусом), не любят трубопроводы! Трубопроводы – это последний очаг нашей цивилизации и прибежище нашей культуры! Ибо что есть наша культура, как не то, что бежит по этим трубам дробным скоком? И разве не там происходит наше сношение со всем остальным миром?
Недаром же Тиберий (да продлятся его дни не суетно, но вечно), где бы он ни явил себя миру, незамедлительно оживляется разговорами о трубопроводах. И все внимают ему с пониманием, делающим честь их достоинству и рассудку.
Какой радостью светятся глаза его преданной челяди, когда речь заходит об изгибах и извивах трубы, несущей свет и тепло в самый край Ойкумены! И сколько мы при этом слышим славных, забавных и убедительных объяснений!
Их просто тысячи, этих объяснений, просто тысячи! И даже медленное подыскание светозарным логических доводов (что случается: de gustibus non est disputandum) говорит, скорее, о скромности его натуры, чем о неповоротливости его печени.
Трубы, призванные сочленять и примирять, не они ли, соединенные, учат мирному созерцанию и деликатной дремоте!
Словом, нет слов!
Твой Плиний (старший).
* * *
Смех может быть пониманием. Человек вдруг понял мир. Принял его. Это уравнивание человека с миром. Или примирение. Часто через абсурд.
* * *
Коля говорит, что смех – это счастье уверенности в самом себе. Даже в самом тупом варианте, когда человек давится от смеха, задыхается. Он видит себя в ситуации. Он видит, что он есть. И это вызывает в нем животный пароксизм удовольствия. Умно.
* * *
Что такое смех в русской литературе?
Даже не знаю. Русская литература – она же не смешная.
А Гоголь? А Гоголь не смеется. Он воспроизводит речь, которая сама по себе смешна. Например: «Брешет, сучий москаль!»
Там нет комизма ситуации. Гоголь не комичный. Там смеешься от удовольствия при чтении. У него такие слова встречаются, которые замечательны сами по себе. Там все такое кругленькое, маленькое, когда смешными словами надо говорить о серьезных вещах, и ты вдруг понимаешь, что ты увидел то, что не должен был видеть.
Он певуч, он лиричен, он задумчив, он печален – а все вместе это смешно. Удовольствие.
* * *
Салтыков-Щедрин? Он не смешной. У него та же манера, что и у Гоголя: он работает над словом. Он пародирует случай. Он хорошо знает мир чиновников.
Гоголь знает этот мир хуже, и потому он не может описать его так, как это делает Салтыков, у него нет чиновного опыта, но зато он чует. Он лучше чует мир. Через язык. Там же не обязательно иметь опыт. Можно услышать язык, и в нем уже будет весь человеческий опыт. Можно через язык и через абсурд выстроить логику.
А у Салтыкова-Щедрина логика железная. Он это все знает. Он чиновник высшего полета. И если он пишет, что «я приехал в этот город, и на этом вся моя жизнь кончилась», то это же правда. Она у него действительно кончилась.
* * *
Коля говорит, что Гоголь не знает, что происходит, и когда его читаешь, то там все дело в плавании по его языковым структурам. Тебя омывает восхитительный русский язык. Он невероятно точен, лиричен, он видит зерно вещей, зерно речи, но одновременно он все свои истории до конца не доводит, он их комкает. «Шинель» – недописанный рассказ. Он превращен в анекдот. Он начинается с такого невероятного лирического замаха, а в конце превращается в довольно плоскую притчу. Точно так же устроены «Мертвые души», где к прекрасному повествованию зачем-то приставлена биография Чичикова.
Коля считает, что, пользуясь пародийным языком, языком лингвистического абсурда, ситуацию объять невозможно. Ситуация оказывается то ли больше, то ли незначительней, то ли неинтересней, и она куда-то выползает из языковой территории.
* * *
Гоголю вдруг становится неинтересен сюжет. Он его начинает, а потом сюжет его перестает волновать. Он сначала замахивается на большое, а потом его увлекает маленькое: какие-то детали, деталюшечки.
Есть у него рассказы, которые словно не окончены, или ему лень было их оканчивать, или он решил, что их можно не оканчивать, – невелика беда.
Это такое сращивание анекдота с великим языковым эпосом.
Большое и малое. Именно в силу этого и рождается смешное.
* * *
Коля как-то говорил мне, что Розанов жестоко упрекал Гоголя. Он его чуть ли не обвинял в сатанизме (условно говоря). Он считал, что Гоголь очень виноват. Комизм ситуации, над которой можно посмеяться и забыть, он превратил в комизм языка, который не забывается и в силу этого становится опасным.
Я сказал, что Розанову надо было оставаться Розановым и не писать о Гоголе. Потому что это все равно как профессору точных наук заговорить об устройстве бабочек. Почему не принять Гоголя таким, какой он есть?
Коля сказал, что Розанов просто размышлял о Гоголе. Он же писатель предреволюционный. Он это очень ощущал – чем закончится история России. Он хотел найти исток. Исток великой русской литературы. По сути, он искал виноватого.
И он считал, что Гоголь нашел в жизни – в мелочной, каждодневной, в быту – какой-то корень, который может быть подвержен осмеянию.
А это уже сомнение в такой важной вещи, как частная жизнь, как суверенность личности. Гоголь гениален из-за того, что он все эти законы, условно говоря, протестантские, пронзил, он ничего не оставил замкнутым, он проник практически в каждый символ, он его углубил, сканировал, показал его безмерную величину и бездну с другой стороны.
Гоголь показал в этой мелочи поэтическую безмерность, а так как это является частью человека, то он усомнился в том, что человек – тварь Божья. Вот что Розанов, наверное, имеет в виду.
Я сказал, что Розанов, может быть, и имеет это в виду, но при чем же здесь мастер? Он все время хочет сделать из Гоголя пророка, а он не пророк, он – мастер.
Коля: от русской литературы всегда ждали пророчеств. Толстой и Достоевский при жизни были объявлены пророками, и вот и на Гоголя Розанов примеряет это платье, костюм пророка.
Я сказал, что не надо было на Гоголя примерять это платье. Он, наверное, сам не хотел всего этого. Иначе он сошел с ума гораздо раньше. Он от этого и сошел с ума. Он перестал с юмором относиться к тому, что делает. Смеяться перестал. А когда перестал смеяться, то ужаснулся содеянному.
Вот! Уф! Как я устал…
* * *
Слова могут уничтожить ситуацию. Они могут сделать ее смешной, и тогда она перестает быть опасной.
* * *
Как я пишу? Сначала я нахожу слово. Сначала оно мне нравится ужасно, потом я ношусь с ним несколько дней, а потом я делаю из него рассказ. Все очень просто.
* * *
Рассказ «Расстрелять» – это некое остановившееся зрение – мухи, погибшие в графине, и прочее. Надо было описать безмерность остановившегося времени. Все повторяется каждый день как заведенное, и вот это уныние разрешается еще более ужасным, абсурдным посылом. Человек обсирается. Все смеются. Ужасное становится неужасным. Фраза породила космос.
* * *
Смешное – это территория речи.
Абсурд – это такое видение. Когда ты не можешь объяснить происходящее с помощью логики или надо сэкономить время на объяснениях.
Вообще, происходящее с помощью логики не всегда объясняется, потому что оно многомерно. Это как кочки на болоте. Ты можешь пройти по кочкам, но ты не знаешь, что находится под кочкой в глубине. Абсурд – это хождение по кочкам.
Перепрыгиваешь с кочки на кочку и в конце ты получаешь смысл.
После произнесения какой-то незначительной фразы вдруг становится понятна природа вещей.
«Трудно думать обезьяне, мыслей нет – она поет».
Или: «Когда я вижу мусор на улице, я понимаю, что в государстве все в порядке».
То есть абсурдистская литература смешной быть не может. Она может быть какой угодно, ужасной, например, но только не смешной.
«Владимир Ильич любил детей. Подойдет и гладит, гладит… а мог бы и по горлу».
Вот вам и Хармс.
* * *
У Генри Миллера я взял разнузданность. Все можно. Но у него все это приобретает несмешной смысл. Жуть богемная. Видишь тряпку, потом еще одну тряпку, потом очень грязную тряпку, и поэтому та тряпка, что ты видел до этого, теперь представляется почти чистой.
* * *
У Белинского прекрасный русский язык. И уже не важно, о чем он пишет. Его критические статьи проникали в душу человека, и все чувствовали, что он прав. То есть только благодаря качеству языка он убеждает. Стиль убеждает. Можно убедить человека в чем угодно, если стиль настоящий.
И еще о русском языке: русский язык не обязательный. В нем можно переставлять слова. Переставил – получил иное звучание.
* * *
Армия – это непонятно для чего. Обычному человеку непонятно, почему надо стоять дневальным. Почему надо все время стоять у тумбочки. И зачем становиться по стойке «смирно», потом поворачивать голову направо, и все это надо делать лихо, молодцевато. А что такое «лихо» и что такое «молодцевато»? Надо в себе что-то перевернуть – ну, мы это играем, в казаки-разбойники, один разбойник стоит у тумбочки.
Там все время игра: начальник-подчиненный. Все играют. Некоторые заигрываются.
Это действует. Ты тоже начинаешь в это верить, но взгляд все равно лукавый.
Ты шутишь, но все должны думать, что ты говоришь серьезно. Потом возникает такая привычка, что ты все время шутишь, и не всегда понятно, где же ты не шутишь.
И не всегда доходит, что ты, вообще-то, не здесь и звать тебя никак – это убегание от того, что здесь, – от тягомотины, от тягла.
Форма общения с окружающим миром. Небольшая придурковатость приветствуется.
* * *
Мелкий, повседневный армейский юмор – это ответ на другой юмор, большой, угрожающий. Это ответ на то, что если человек пришел в армию, то он уже призван, он не распоряжается своей жизнью. Все помнят об этом постоянно. Надо внутри себя держать границу. А как? С помощью осмеяния. На границе небытия.
* * *
Меняются ли эти вещи? Нет. Иначе можно было бы говорить о том, что Швейк конечен, а Швейк бесконечен. Пока армия есть, будет Швейк. Гашек как-то сказал: «Мне вчера приснилась гениальная вещь – идиот на воинской службе!»
Если нет конкретной боевой задачи: «бежим вперед, колем там», – то будет Швейк.
Перерыв в беготне и стрельбе – и сразу идиотия. Без подготовки к стрельбе нет армии, но подготовка к стрельбе – это идиотия.
* * *
Зощенко, Довлатов – не смешны. Язык не терпит упрощения. Он его не прощает. Зощенко упрощал язык. Так у него получилось то, что потом назвали галантерейным языком. Можно на нем написать сто рассказов, но через тысячу рассказов ты уже не сможешь писать по-другому. Зощенко потом не смог от него отделаться. Язык его закрепил. То есть он закрепился в нем.
* * *
Пришвина я любил за то, что он траву описывал, росу, рассвет. Мне это нравилось. А потом, как только он все это перенес на социализм, все кончилось. Это уже читать не хочется, потому что и до него, и после него были люди, которые все это описали в выражениях куда более ужасных. Платонов, например. Прочитал до середины «Чевенгур» и уже знаешь, что будет дальше, – этакое монотонное, однородное месиво дремучего полуязыка – и все, читать не хочется. Ужас там даже не нарастает. Он сразу ужас. А потом – такой же ужас. Ужаснее того ужаса не получается. Читатель глохнет. Плато. Платонов – это плато. Ужаса.
* * *
До того как я попал на флот, я не обладал никакими литературными интересами. Нравилось то, что и всем, «Золотой теленок», например. Так что гуманитарием я себя ой как не чувствовал.
* * *
Почему я выбрал флот и что бы было со мной, если б я попал в университет? Ничего бы не было. Я не мог попасть в университет. Там все представлялось мне как страшно затхлое. А на флоте – все такое неизвестное впереди, красивое, белое. Это как мечта.
Должна же у человека быть мечта. О светлом, о белом.
* * *
Что я думаю об идентичности? (Сейчас говорят, что есть проблема у каждого человека – быть идентичным самому себе, не скрывать своего травматического прошлого, быть самим собой, и современное искусство этому якобы научает).
Ничего я о ней не думаю.
Быть самим собой?
Быть самим собой очень трудно. Все равно эталона-то нет. То есть ты должен быть самим собой тогда, когда ты не знаешь, каким ты должен быть.
Тут должно быть какое-то бессознательное отношение к себе.
Человек должен забыть о себе, и тогда он будет самим собой.
Сознательно у него это не получится. Сознательное тут борется с бессознательным.
Идентичность – это искренность, скорее всего.
Что такое искренность? Мне кажется, что в каждый момент времени человек сам себе не врет. Он врет потом.
* * *
Коля говорит, что в слове «искренность» есть корень «искра», замыкание, «плюс и минус». Мы бываем искренними, когда нас бьет искра. И не важно с кем. Может быть, с самим собой. Это очень важное человеческое состояние.
Я считаю, что искренность – это радость.
А если в тебе есть темные стороны, есть какая-то зона, которую не хочется никому показывать?
Ну и не показывай. Твое право. Передо мной такой проблемы не стоит: искренний я или не искренний. Я искренний в словах. Они передают искренность, и моя задача их произнести. Надо просто любить, и тогда слова найдутся. Самая простая, неграмотная мать, описывая свое дитя, всегда найдет самые проникновенные слова. Потому что она любит.
* * *
Искренние ли «Каюта» или «Иногда мне снится лодка»? Наверное, да. Там есть переживание, заставляющее сопереживать. И сделано это без оглядки на самого читателя. Там есть такое чувство, что писателю все равно, прочтут ли эти его самые горячие строки или не прочтут. Вот такая искренность.
Но каждый день я бы их не перечитывал. То есть мне не надо каждый день находиться с ними. Я написал – я избавился. Отринул.
* * *
Да, там очень искреннее слово. Хоть сто раз пиши об одном и том же – о флоте, например, – и каждый раз это будет поиск самого искреннего слова. И меня совершенно не смущает то, что надо приоткрыть себя.
Нет, меня это не смущает. Вон сколько я написал о семье, о себе, о Сашке.
Там не совсем, конечно, я, не совсем семья, не совсем Сашка – все это понимают, но… задевает.
Ну да, там есть то, что называется «градиент дара» (мой вариант скромности).
Я делюсь. Да. Это зона высокой искренности, зона достоверного существования, зона человечности, ответственности и прочее.
Там всегда можно получить ответ от людей. И я поэтому их все время вспоминаю. Транслируя речь, я транслирую настроение.
* * *
Прямую речь я никогда не фиксировал. Не записывал. Я моделирую речь.
* * *
Сатира со сцены? Она же не сатира. Это что-то другое. На уровне «побили рыжего». Люди пришли посмеяться. Там понижен градус смешного. И там такое уродство речи. Это то же самое, что и смех над падающим человеком. Это ложное возвеличивание тех, кто сидит в зале: они же смеются не над собой, они смеются над тем, другим.
* * *
Там нет слова. Там оно изуродовано. Оно не смешное. Оно не вкусное. Там слова калеки, уродцы. Карлики, валтузящие друг друга. Это уже было – Анна Иоанновна, Ледяной дом.
* * *
Смешно становится только после того, как ты это пережил, – такое уничтожение человека.
Ты делаешь это смешным. Об ужасном весело. Такая задача.
Ты просто показываешь, что и здесь можно выжить. Можно выжить вот так. Смеясь.
И все поняли – надо смеяться.
«Если б не было так смешно, не служил бы на флоте».
* * *
Обязательно ли надо обладать чувством юмора, чтобы смеяться?
Да, конечно. Есть масса людей, которые не умеют смеяться. Им не смешно. И это тоже психическая норма.
Читают ли они меня? Читают, наверное.
Но о читателях я думаю очень мало. Главный читатель – это я, и чего же я буду думать еще о ком-то? Я никого не приглашаю читать вместе со мной. Я читаю сам. Это мое. Мое пространство для жизни. Это мне нравится. Или мне не нравится, и я потом сожалею – а может быть, не нужно было в книжку вставлять – но потом я думаю: пускай будет. Знаете, как Стендаль, когда ему что-то не нравилось из того, что он сделал, он говорил: «Ну ладно, пусть будет. Читателя это позабавит».
* * *
– Ты чай будешь?
Если Сашка приходит с таким вопросом да еще и с хмурой физиономией, значит, они с нашей мамой только что поссорились, и теперь он приглашает меня на подмогу.
– Конечно буду!
– Ну тогда иди. Я тебе налил.
И почему женщины все доводят до ссоры? Они повторяют одно и то же по сто раз на разные лады, чего мы – мужчины – совершенно не выдерживаем. Мы взрываемся.
И еще я заметил, что у женщин голосовые связки устроены особенным образом. Женщина совершенно не способна вымолвить: «Я была не права!»
– Ну, что тут у вас?
Молчат, оба надулись – я не ошибся, уже успели. Их ни на секунду нельзя оставить одних.
В такие мгновения я на какое-то время превращаюсь в клоуна. Точнее, из этого состояния я почти не выхожу, но бывают и минуты особого обострения.
– Ой! – говорю я. – Смотрите-ка, кто это? Это мой взрослый сын? Не может быть! У меня сын уже взрослый? Как же так! А я и не заметил!
– Ага! – встревает мама. – А что ты вообще можешь заметить?
А сейчас главное – не дать ей перехватить разговор, а то все будет гораздо хуже.
– Не может быть! – продолжаю я. – Он же был такой маленький, шустренький, все время бегал и орал! А теперь – вон они как у нас вымахали! Надо его пощекотать – вдруг все это мне только кажется!
И я начинаю щекотать Сашку – тот сначала молчит, набычась, а потом не выдерживает, хихикает, уворачивается, кричит: «Не надо!» Теперь беремся за Нату.
– Господи! – вскрикиваю я. – Какая красивая девушка! Кто вы, девушка? И как вас зовут?