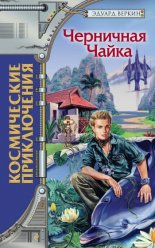Детский дом и его обитатели Миронова Лариса
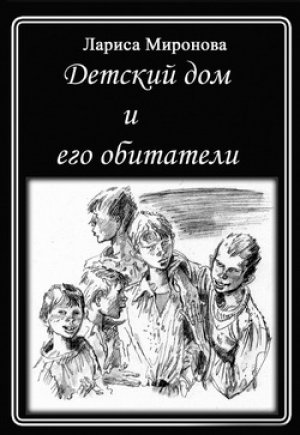
Предисловие
Описывай, не мудрствуя лукаво, всё то, чему свидетель в жизни будешь!
«Борис Годунов»А.С. Пушкин
Повесть «Детский дом» впервые была опубликована в 1987 году в журнале «Урал» (№ 6) с большими сокращениями. Затем повесть была издана в Москве – отдельной книгой в издательстве «Современник» и в издательстве «Молодая гвардия» (журнальный вариант, в двухтомнике «Тёплый дом», ред. А. Лиханов). Книга «Современника» издавалась в формате: Библиотека «В начале жизни», поэтому текст повести вынужденно претерпел определённые «форматные» изменения, хотя и не очень существенные – добавились некоторые дидактические рассуждения, также был опущен ряд рассуждений, которые в то время воспринимались как спорные.
Данное издание свободно от прежних форматных рамок и является наиболее полным, максимально соответствующим авторскому рукописному тексту. Кроме того, в книгу включены опубликованные в периодике в 1987-90 годах рецензии известных критиков на повесть «Детский дом», т. к. в них содержится много интересных, оригинальных рассуждений, существенно расширяющих рамки затронутой автором темы.
В сборник, помимо повести «Детский дом и его обитатели», включены также: притча «Рим – мир наоборот» (2007), статья «Когда прошлое течёт в будущее» (1997), биография автора и аннотация к последним книгам (2003-07 г.г.) – пять романов, рассказы.
Глава 1. Две копейки дайте!
Был конец лета, на редкость жаркого, изнуряющего. Оставался ещё маленький хвостик отпуска. Ехать куда-то (всего-то несколько дней!) бессмысленно. И я, безвыездно запечатанная в раскалённых стенах по-летнему суматошного города, была счастливо предоставлена самой себе. Вот брела по незнакомой мне улице на окраине рабочего квартала – и вдруг… кто-то дергает сзади за рукав и говорит что-то полушёпотом… жалобно так смотрит и канючит: «Тёинькаааа… две копейки дайте, а? Чтоб позвонить»… Девочке было на вид лет семь. Я пошарила в кармане.
– Вот гривенник, им тоже можно…
Девочка взяла монетку и, тут же забыв обо мне, отошла прочь. Их было трое – маленьких христарадниц – кучно стоявших поодаль. Ссыпав в горсть собранные монетки, они их громко пересчитывали. Одеты все одинаково – вельветовые платья в горох, кеды на босу ногу. Две коротко пострижены, одна с косичкой, в платке…
Ночью бессонница. Наутро в телефонной книге стала искать адреса детских заведений – что-то типа исправительных колоний для малолетних нарушителей. Я и подумать не могла, что в нашем городе есть детские дома! И что вообще они где-то есть…
Когда-то в детстве я видела детдомовских детей, но это были настоящие сироты. Их родители погибли на войне. Детдомовцев водили по выходным в кино, а мы, уличная компания домашних, бежали за ними вслед и кричали:
- Открывайте ворота,
- Едет пан сирота.
Дети бывают удивительно жестоки в своей очаровательной непосредственности… Но эти – то откуда? Конечно, никаких адресов в справочнике я не нашла. Поехала на то самое место, где вчера встретила безнадзорных малышек, бродила-бродила и, наконец, набрела на унылую кирпичную коробку в пять этажей с огромной пугающей вывеской «Детский дом». Застучало в висках. Откуда?! Прямо на ступеньках столкнулась нос к носу со вчерашними девчушками.
– Жаловаться идёшь, тётька-мотька? – прыгая на одной ножке, задиристо выкрикивала девочка, обнаружив солидную недостачу передних зубов. Остальные весело засмеялись. Преодолев смущение, я решительно дернула дверь и… чуть не загремела со ступенек – с виду тяжелая, она едва держалась на петлях. (Потом я уже узнала – дверь регулярно высаживали «бывшие», так здесь называли выпускников.) Вошла, озираюсь – нет ли поблизости вахтера или дежурного. Однако, никого, кроме снующей «взад-назад» малышни, на первом этаже не обнаружилось. Дети же на мои расспросы ничего вразумительного сказать не могли. Долго бы мне пришлось блуждать по этажам, если бы на моё счастье вдруг не наткнулась на очень серьёзного и сравнительно молодого человека с кистью в руках.
– До конца по коридору. Потом направо. Резиденция там, и всё начальство в ассортименте – и директор, и завуч, и даже завхоз. Триумвират в полном составе, – забавно картавя, произнес он.
– А остальные педагоги… где?
– Все при деле, надо понимать, – уже начиная раздражаться, ответил он. – Да и я вот, как видите…
Не очень вежливо махнув перед моим носом кистью, с которой жирно стекала белая эмаль, он протяжно вздохнул, что могло, вполне возможно, означать следующее: «Здравствуйте-приехали, ещё одна на нашу голову…»
– О, простите, ради бога! – горячо прошептала я, хватая его за рукав. – И в мыслях не было вам мешать! Но согласитесь – всё же странно: в таком огромном доме, буквально кишащем маленькими детьми, я до сих пор не встретила ни единого взрослого!
– Понял. Вы боитесь заблудиться. И вы правы – здесь настоящие джунгли.
Положив кисть на тряпку, он почти с отвращением начал, загибая пальцы, объяснять, что: дети всего как три дня из лагеря; у воспитателей дел по горло (проверить, что из одежды сохранилось, а что – получить из бэ-у; подобрать учебники по комплектам); ну и всё такое. Я уже раскрыла рот, чтобы задать очередной вопрос, но он, приложив палец к моим губам, назидательно сказал:
– Любопытство – не порок, но и не украшение, мадам, – и гордо удалился.
Я рванулась за ним – тысячи «почему» тревожно роились в мозгу, но человек с кистью уже скрылся за поворотом в одном из многочисленных мрачноватых переходов. Вместе с ним скрылась за горизонтом разумного надежда разузнать хоть что-нибудь об этом странном месте, я, наконец, набрела на кабинет директора.
Глава 2. А не пойти ли вам на отряд?
В кабинете я обнаружила приятную, округлых форм женщину лет сорока. Очень милая… – с надеждой и даже как-то радостно подумала я – совершая, тем самым, первую жестокую ошибку. На краю большого дубового стола стояла пузатая ваза с полуголыми тётями на выпуклой серединке. Букет ирисов, уже порядком подвявший, издавал пряный резкий запах. Она машинально выдергивала из вазы сухие прозрачные листья, так же машинально скручивала их в жгутики и бесконечно наматывала на указательный палец. Доброжелательно прищурившись и внимательно выслушав мой сбивчивый рассказ, директриса, с утвердительной интонацией, вдруг сказала:
– А не пойти ли вам на отряд?
Я, лишившись дара речи от приятной неожиданности, тупо трясла головой.
– Так. Поставлю на первый. Это старшие. У них как раз уходит воспитатель. С документами не спешите… пока… готовьте детей к школе, – раздумчиво добавила она и тут же занялась своими делами, давая понять, что аудиенция закончена – уже шелестит пачками накладных, какова!
– Так познакомьте же меня с детьми! – взмолилась я, совершенно сбитая с толку и потрясённая столь стремительным развитием грозивших стать эпохальными событий – не шило ведь на мыло меняем…
– Пойдёмте, – пожав плечами, сказала она со странной улыбочкой «а ля Джоконда» на ярко накрашенных полных карминных губах. В отрядной никого не оказалось. Пустая комнатёнка на пятом этаже. Мебели совсем никакой, если не считать нескольких колченогих стульев в углу, нахально выпятивших распотрошённые внутренности. Да, весёленькое начало… Мы поднялись на третий этаж, где были спальни детей. Обитательницы комнаты лежат в одежде и обуви на свежих покрывалах. На кедах глина. Обсыхая, она щедро сыплется на постель.
– Опять наляпали? Сейчас же снять! – выкрикнула Людмила Семеновна, указывая перстом на стенку.
Картинки из журналов – синеглазый Делон, знойный Боярский… Она уже совсем не та, что была недавно в кабинете. Куда девалась её представительность, радушная улыбка! В полном смятении и страхе я внезапно бойко выпалила:
– Добрый день, девочки!
– А что, правда? – сказала одна из них, обращаясь к своей подружке.
– Я теперь буду вашей воспитательницей. Меня зовут Ольга Николаевна…
Не успела я произнести эту запоздалую дань вежливости, как одна из девочек, лихо цыкнув зубом, коротко и категорично выдала:
– Пшшшла вон.
Я вздрогнула, всё нутро моё тревожно заныло. Бегом, бегом отсюда, из этого вертепа! Пока живьём не слопали.
– Это не вам, – сказала девочка, обратив, наконец, и ко мне своё безразличное лицо.
Скользнув взглядом в мою сторону, Людмила Семёновна неуклюже засуетилась и поспешила на выход.
– Вы уж тут сами… Ещё две комнаты на втором этаже. Трудные дети, трудные… – скороговоркой произнесла она над моим ухом и тут же исчезла за дверью.
Теперь я почувствовала себя увереннее – по крайней мере, не будет лишних свидетелей моего позора. Девочки молчали, молчала и я. Присев на край тумбочки, украдкой разглядываю своих будущих воспитанниц. Мои будущие воспитанницы, однако, не проявляли ко мне ни малейшего интереса. Молчание становилось непереносимым, угнетающим, и я, усевшись удобнее и набрав в грудь побольше воздуха, вознамерилась уже произнести лихой экспромт на педагогическую тему – лишь бы не молчать, как та, что лежала на постели, счастливо предотвратила это позорное действо, решительно развернувшись ко мне лицом. Я замерла с открытым ртом, подавившись так и не рожденной речью. Положение моё становилось просто катастрофическим, это было уже совершенно ясно. Да, надо честно признать – мадам, вы потерпели полное фиаско… Да… Моя педагогическая карьера стремительно и весьма постыдно завершалась, так и не успев начаться. Однако я не вылетела вон, чего мне в этот момент более всего хотелось, а почему-то, вопреки логике и здравому смыслу, продолжала сидеть на тумбочке и молчать в пень. Тяжело отлепившись от кровати, девочка села и молча посмотрела на меня. Я подумала, что сидеть вот так будет совсем уж глупо, встала, подошла к ней и хотела уже погладить её по растрёпанным волосам. Но…
– Не протягивай руки, – дернувшись от меня, резко, неприятным голосом сказал она.
– А то протянешь ноги, – подала, наконец, голос вторая обитательница спальни…
Я перестала дышать. Снова зависла томительная пауза. Я отчетливо понимала, что счастливый момент моего спасения безвозвратно упущен – теперь уже просто так сбежать, позорно ретироваться, невозможно ни по каким причинам. За нами всё-таки Москва…
Я снова села на тумбочку и продолжала смотреть на неё, мою мучительницу, в упор – прямым, тяжёлым встречным взглядом. Я знала, это мало приятно, когда вот так противно смотрят. И она сдалась.
– Так ты кто? – врастяжку произнося слова, спросила девочка – в её тоне прозвучали едва уловимые нотки смущения. – Оль Николавна говоришь? А если по-простому – Оля? Так можно? Садись, чё стоишь. Больше всё равно не вырастешь. Сколько лет-то? Я сперва подумала, что к нам новенькую привели. А это воспиталка! Прикинь… Гы…
Последние слова были произнесены сквозь смех и адресовались её товарке. Та тоже гыкнула-рыкнула, короче, засмеялась…. В развязном тоне, во всей её позе, небрежной и наглой, было очевидно одно – желание оскорбить. Но – поздно! Я уже вполне овладела собой. Смущение оттого, что в моём присутствии оскорбили, обидели грубым окриком ребенка, а потом ещё поставили в неловкое положение перед незнакомым человеком взрослого – директрису, уже, слава богу, прошло. Адреналин, бушевавший в моей крови, настойчиво диктовал совсем иную стратегию и тактику. Готовясь дать достойный отпор наглым девулям и едва сдерживая переполнявшее меня нервное возбуждение, я всё же успела периферийным сознанием обмозговать одну-единственную, но вполне разумную мысль: передо мной дети, несчастные дети, и они совсем не виноваты в том, что они – такие… Подействовало, однако. Мгновенно усмирив гордыню (явилась – не запылилась), я почувствовала прилив успокоения, и, как и положено мудрому педагогу, не стала спорить с детьми и примирительно сказала:
– Если нравится – Олей, то, пожалуйста.
Теперь их ход. Я – отдыхаю.
– А нашу воспиталку зовут Валя.
Похоже, моя оппонентка оправдывается. Или мне волшебные нотки в её милом баритональном голосочке просто пригрезились? Смотрю на них как можно дружелюбнее, ищу и не нахожу ну ровным счётом ничего, что хоть как-то располагало бы к сочувствию. Ленивые, сытые лица, чёлки, из-под которых не видно глаз… Разглядываю комнату. На стульях бельё и расчумазые куртки – всё в одной куче. На подоконнике тарелка с остатками засохшей каши. На полу кастрюля с кефиром. Проследив мой взгляд, девочка вполне уже добродушно спросила:
– Кефирчик будешь?
– Свежий. Третьего дня не прошло. Кастрюлю приворотили, никак вот не выпьем, – пояснила, лениво поглаживая живот, вторая.
…Пробыла я у них долго – пока не позвали на обед. Слово за слово, завязался разговор. Одну девчуру звали Лиля, вторую, что клеила картинки, – Кира.
– А фамилия у меня артистическая, щегольнула она, разглаживая слегка помятое лицо лучезарного Брондо из «Советского экрана». – Юматова. Может, слышали? Есть такой артист.
– Это замечательно, – вежливо сказала я, благоразумно воздерживаясь от комментариев.
В лагерь они, как выяснилось, не ездили, лето проводили у родственников. Из комнаты сейчас стараются надолго не выходить – «бывшие шмонают».. Сегодня-завтра приедут остальные обитатели детского дома, вот тогда жизнь и начнется. Девча что надо… Про пацанов из отряда ничего толком сказать не могут – мелюзгой не интересуются. А всех старших после восьмого вывели в «путягу». Да только они детдом не забывают, хотя «дирюге» этого и не надо… Такие хохмы откалывают! Полный отпад и конский ржач… Я вдруг поймала себя на том, что уже дико хохочу вместе с ними – тоже громко и… в меру нагло. И сижу – в такой же нахальной позе…
– Ладно, – неожиданно серьёзно сказала Кира. – Обед скоро. Ольга Николаевна…
Получив некоторое, хотя и смутное представление о прекрасной половине своего отряда, я храбро решила обойти спальни мальчиков, (в отрядной по-прежнему было пусто).
Но и там никого!
Зашла в столовую. У входа встречаю своих старых знакомых – Киру и Лилю. Обедать явились в том же виде!
– Вон, смотрите, старперша хавает в углу. Так и садитесь за тот стол. Это воспитательский.
– Я мальчиков вообще-то ищу, – сказала я строго.
– Так здесь и ждите, в столовку точно придут, – сказала Лиля, вытягивая шею и забавно шевеля ноздрями. – Что жрать подают? Опять узбекский сблёв? Ой, сорри… бэээээ… Плов.
– А где ваши столы? Где отряд обедает?
– Какой отряд? – фыркнула Кира. – Где займем, там и сядем.
И, подгоняемая Лилей, лихо ринулась к раздаточному окну. В столовой становилось всё многолюдней и шумней. Сидели, стояли, толкались, чертыхались, когда горячий суп проливался на чью-то голову, сновали от раздачи к столам за добавкой, короче – обедали обитатели детского дома… Но вот внезапно нестройный гул голосов, грохот стульев, позвякивание ложек о тарелки – весь этот характерный «столовский» шум вдруг перекрыл душераздирающий надсадный вопль:
– А ну, отвали! Жрать хачччуууу-у!
Я протиснулась к воспитательскому столу и намеревалась уже присоединиться к обедающей коллеге, как случилось вот что. Оттеснив от входной двери медсестру, тщетно пытавшуюся проверить несуществующую чистоту рук воспитанников, в столовую ворвалась буйная компания – мальчишки лет двенадцати – тринадцати по виду. Впереди – всклокоченный, донельзя измазюканный, неряшливо одетый обладатель луженой глотки.
– Не удивляйтесь и не расстраивайтесь, – успокоила меня старшая пионервожатая (дама в красном галстуке и со значком на груди), перехватив мой ошеломлённый взгляд. – Кушайте, потом пойдем знакомиться с этими «Чингачгуками».
– Спасибо, – благодарно кивнула я, почти с восхищением глядя на мою добровольную помощницу и вполне искренне радуясь новому знакомству с опытным человеком – столь уверенно и ровно она держалась!
– Я здесь старшая по пионэрам, – сказала она, манерно протягивая руку с высоко поднятым локтем через стол. Меня зовут Татьяна Степановна.
В столовой снова кто-то истошно завопил: «Котлету отдай! Кому грят? Харэ мой компот лопать!»
Элегантная пионервожатая по-прежнему была невозмутима. Её блистательная внешность вполне соответствовала отменным манерам – броская, холёная женщина, вполне знающая себе цену.
Поправив пальцем с длинным маникюром темные «хамелеоны» в квадратной роговой оправе и аккуратно откинув со лба прядь пепельного кудрявого парика, она пристально и весьма бесцеремонно стала меня разглядывать. Особенно внимательно она посмотрела на моё ситцевое платье в мелкую полоску.
– Что это вы так обрядились? – спросила она, слегка выпячивая нижнюю губу.
– А что? По-моему удобно для работы, – сказала я. – Слышали, конечно, ситец снова входит в моду.
– Неужели? – удивленно поднимая бровь, сказала она.
– Ну да, – вдохновенно врала я. – Вот на Международном конгрессе по проблемам океана миссис Дэвис…
– Да что вы?! – неожиданно встрепенулась она. – Что-то новенькое… А! Пока до нас дойдёт… Нет, в самом деле? Их не поймешь… Но всё же вы не правы на данный момент. Одежда – это вопрос престижа. Подать себя, знаете ли, тоже надо уметь.
На Татьяне Степановне модный синтетический жакет. Поверх жакета гордо алеет туго накрахмаленный пионерский галстук, модно скрепленный большой брошью из «самоварного» золота.
– Я здесь временно, – доверительно шепнула она. – Если хотите – лимитчица, так это называется. Раньше чем через год ничего не обещают. Теперь вот отряд подсунули – пока воспитатель болеет.
– И как? – вкрадчиво спросила я.
– Заменяю, – подняв брови, сказала она. – Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем-то, что временно.
– Да, так и бывает, – кивнула я. – Но как же вы справляетесь с таким возом работы?
– Молча. По совместительству я ещё и предэмка.
Я поперхнулась. Чрезмерная вера в магию педагогических приемов и собственные сверхъестественные способности, допускаю, может привести на это поприще людей не то чтобы случайных, но всё же бесконечно далеких от понимания того, что им предстоит совершить. У меня была иная ситуация – я ринулась в этот омут очертя голову, даже не представляя себе, что за черти там водятся, и мне на эту тему рассуждать… Но Татьяна Степановна уже не казалась мне богиней. И опять внезапно пришла на ум назойливая мыслишка: что, они с директором – а может, и ещё кто-нибудь? – так прикольно играют в «работу»? Дела! Куда меня «попали»?
Мы поднялись в спальный корпус, надеясь, что хоть после обеда застанем там кого-нибудь? На этот раз повезло.
В спальне в послеобеденное время законная сиеста.
Татьяна Степановна вошла первая, достала из сумки, которая висела у неё на плече, блокнот, ручку. Приготовилась записывать.
(Я напряглась – ответственный момент: сейчас мне будет преподан урок высокого педагогического мастерства. Вся внимание – стараюсь не пропустить ни единого фрагмента этого мероприятия).
– Ты кто? – обратилась она менторским тоном к вольготно расположившемуся на постели воспитаннику.
– Фомкин, – снисходительно ответил тот, приоткрыв левый глаз.
– А я Сёмкин, – бойко ответил его сосед, точно в той же позе предающийся послеобеденному отдыху.
Татьяна Степановна принялась чертить что-то ручкой в блокноте. Мальчики молча смотрели на неё.
Я же разглядывала комнату. Картина – увы! – знакомая: на стульях, в углах свалка одежды, на свежих покрывалах жирные грязные следы от обуви – носят кеды…
В списке Татьяны Семеновны ни Фомкина, ни Сёмкина, конечно, не оказалось. Пошли по другим спальням – нигде ни души.
Я вернулась в первую спальню, а Татьяна Степановна подняла палец и, коротко сказав: «кстати» – вдруг вспомнила о каких-то срочных делах и поспешно исчезла.
Мальчишки, теперь их было трое, тут же вскочили с постелей и выбежали вон. И ещё долго – недели две-три – они мигом разбегались кто куда, едва я появлялась на горизонте. Звать их без толку – не слышат…
Слышали они – это я уже в первый день заприметила – только то, что им хотелось слышать.
Однако детишек к школе готовить надо. Вот этим я и занялась.
Пораскинув мозгами, составила мысленный список: что следует сделать в первую очередь, и оправилась к Людмиле Семеновне узнать, какое имущество положено нашему отряду. Оказалось – немало. Мебель для отрядной – перенести со склада. Постельные принадлежности – получить у кастелянши. Школьные формы – забрать из химчистки. Можно на автобусе. Но как успеть все это сделать?
А так. Ну, как все… Ещё есть вопросы?
Ладно. Начнём с отрядной – хоть будет, куда вещи складывать. Воспитательница второго отряда мудро посоветовала:
– Сначала в дверь замочек врежьте. А то ведь всё растащат.
К счастью, мастер, выполнявший такого рода заказы, был на месте. Он же трудовик, слесарь, электрик и – муж кастелянши.
Последнее – едва ли не самое ценное его свойство. От кастелянши зависело многое: по собственному усмотрению она выдавала одежду из бэ-у, лоскут, нитки, пуговицы и прочую галантерею. Кастелянше все без исключения воспитатели дружелюбно улыбались. А заодно – и её мужу.
Осмотрев внимательно дверь, он осторожно потрогал косяк и покачал головой.
– Высадят в момент. Точняк.
«Спокойняк, – сказала я себе, – будем уговаривать».
Однако, на радость, уговаривать и не пришлось. Мастер не ломался, а просто «добросовестничал».
– Насадочку бы металлическую. Иначе… дохлый номер, ясно? Высадят в момент.
– Но может, на первое время хотя бы, как-нибудь без насадочки?
– Ну, как знаете, только и без гарантии.
– Да ни боже мой! – радостно вскричала я. – Какие гарантии?
На том и сговорились.
Школьные формы из подвала на пятый этаж перетаскала довольно резво. Но с мебелью начались трудности. Складские помещения находились в другом крыле. Там – стулья, полки, столы. Перенести всё это за один день – работа для дюжины титанов. А ещё есть гора матрацев, подушек, одеял…
Дети начнут прибывать завтра, для каждого должны быть готовы постель в спальне и рабочее место в отрядной.
…Когда, с горем пополам, первый ворох отрядного скарба был перетащен в ближайшую спальню на мальчишечьем этаже, мои любезные птенчики, ни словачка не говоря, по заведенному здесь в допотопные времена обычаю, шустро вскочили с постелей и ветром вымелись вон. Однако – всё же не все. Один остался. Явно не из моего отряда, уж слишком взрослый. Возлежит в куртке и грязнущих кедах – конечно же, на покрывале!
Однако грамотный – в руках книга. Интересуюсь:
– Что читаем?
– Сказочку.
И опять погрузился в чтение – ноль внимания на мою воспитательскую персону.
Заглядываю – Эмма Мошковская, «Цыпленок шёл в Кудкудаки».
По спокойному взгляду, нагловатому и демонстративно незаинтересованному, поняла – это бывший!
Так вот они какие – бывшие воспитанники!
Ладно.
Пока застилала свободные постели, он продолжал возлежать бессловесно. Но стоило мне взяться за веник, чтобы выгрести горы окурков, арбузные корки и прочий столетней давности мусор, бывший выразил активное недовольство:
– Пылить обязательно? – недовольно сказал он. – Апчччхи!
Столь галантные манеры надо чтить. Ведь местный стиль – «пошла вон!»…
Стараюсь. Выгонять бесполезно. Так сурово смотрит, того и гляди, саму за дверь (а то и дальше) пошлёт. По всему видно – бывшие здесь полноправные хозяева. Держат в страхе весь местный мирок.
…Работа хоть и медленно, но всё же продвигалась. И вот, в конец измочаленная, я кое-как заползла на пятый этаж – надо проверить дамские спальни.
В небольшом мрачноватом холле кучковалось несколько вновь прибывших. Хороводила Кира (та самая – «кефирчику хочешь?»
К ним присоединились трое бывших.
Ещё когда поднималась по лестнице, услышала вопль:
– Пинцет! Воспиталка! – И ленивый ответ:
– Да фиг с ней.
Подхожу к ним, здороваюсь с новенькими. Потянуло сигаретным дымком.
– Садись, Оль. Посиди с нами, убегалась с утра? – проявляет заботу одна из бывших, весьма развязно и снисходительно – так они обычно и разговаривали со взрослыми обитателями дома.
Однако я до того устала, что просто не в силах парировать столь беспардонную выходку. Тяжело усаживаюсь рядом, молчу.
– Мы тут чуток дымнём, – говорит как бы между прочим, вяло и лениво, другая бывшая. – Ты как?
Она протягивает мне открытую пачку «БТ».
– Категорически против. И тебе не советую здоровье портить, – вяло морализаторствую я, понимая, однако, полную бессмыслицу сего занятия.
– Как скажешь. Забычкуем, – неожиданно сговорчиво соглашается она. – А говорили – нормальная… Ладно. Меня Юлькой зовут. Ну, как?
– Замечательно, – отвечаю я.
Уже позднее, знакомясь с личными делами своих воспитанников, я заглянула и в документы бывших. Юля Самохина была шестым ребенком в семье. У матери – так правильнее. Отцы появлялись и исчезали, увеличивая количество детей в доме и, естественно, проблем. Принеся шестого из роддома и не обнаружив там отца ребенка, покинутая в очередной раз легкомысленным сожителем несчастная женщина спеленала малютку потуже, обернув сверху куском старых обоев, и засунула живой сверток в мусоропровод. А чтобы ребенок не кричал, напоила его через соску молочной смесью напополам с водкой.
Утром окоченевшее тельце обнаружили среди бумаг, мусора и пищевых отходов дворник и мусорщик. Ребенка отвезли в больницу, оттуда сразу же отправили в Дом ребенка – ребенок чудесным образом оказался жив.
Мать лишили родительских прав по отношению к Юле, и это её вполне устроило. Никакого наказания она не понесла.
Странно, дико, непонятно – почему не судили?
Этим вопросом я не раз задавалась, работая в детдомовской системе. Поразительное спокойствие хранили органы правосудия, когда дело касалось незащищенных маленьких граждан и их матерей-злодеек. Никто не бил в тревожный колокол, никто не возмущался разнузданным попранием прав маленького человечка, вина которого была только в том, что он рожден нерадивой мамой.
Его дальнейшая судьба была вполне предсказуема.
Но об этом – потом.
Замечу лишь, что во времена Макаренко маму-девочку, удушившую новорожденного, приговорили к восьми годам тюрьмы, наши же юристы мне так говорили: «Если ввести наказание за «халатное отношение» (!) к ребенку, которого мать не желает или не может воспитывать, то это приведет к росту криминальных абортов».
На мой взгляд – чушь какая-то, а не объяснение. А может… просто кому-то нужны массы бесхозных детей? Ведь это… «живой товар»?!
Но столь крамольная мысль посетила меня далеко не сразу.
После окончания восьмого класса Юля получила комнату в квартире матери, той самой женщины, что вместе с мусором выбросила и свою собственную плоть и кровь – своё дитя.
Размен площади не разрешили. А как жить им под одной крышей – взрослой злодейке, прижившей и благополучно «сбагрившей» в госучреждение ещё двоих детишек, и чудом уцелевшей дочери? Никто об это этом и не думал.
– Оль, у тебя этого… лишних брюк не найдется? – спрашивает Юля, без особого энтузиазма разглядывая мою одежку. – А то вот вышла из дэдэ, а надеть и нечего.
– Поищу, конечно. Кажется, у меня что-то подходящее есть. Завтра принесу. А что, тебе разве не выдали одежду?
– А куртка лишняя не завалялась?
– Куртка… нет. Не завалялась. Тебе что, теплая одежда нужна? – вяло говорю я, а сама лихорадочно соображаю – что там у меня ещё завалялось дома. В не очень большом шкафу?
– Сумка у тебя хорошая. Вот что. Ну что в отрядной лежит. С ремешками и двумя отделениями. Клёво. Где брала?
От такого нахальства я медленно закипала. Однако стараюсь не очень выдавать своё возмущение – а что как провокация? Они такие – оскандалюсь ни за грош.
– Ты не обижайся, – продолжает она, не обращая ни малейшего внимания на моё смущение, – мы тут без тебя чуток похозяйничали. Вааще-то вещи просто так не советую бросать. Сопрут.
– Ну, знаешь… Не просто так, а закрыв отрядную на ключ.
– Хохмачка. Разве это замок? Забудь. Ну, так как – насчет сумки?
– Бери, конечно, если понравилась… Если очень надо. Только мне нужно документы домой отвезти. Не в кармане же… – скучно лепечу я, ещё не вполне понимая весь трагикомизм моего положения.
– А ты завтра приноси. С остальными шмотками. Нормалёк?
– Договорились, – соглашаюсь я, всё ещё тайно надеясь, что это просто глупый розыгрыш.
Однако – нет, всё всерьёз. Когда уходила домой, встретились на остановке, так она напомнила: «Не забудь, и не жлобствуй, тогда и уважать будут».
Я вообще-то считала себя человеком нежадным, но столь мощный удар по бюджету, конечно же, поверг меня в уныние. И это – только первый день!
(Если и дальше так пойдет, то домой весьма скоро мне придется пробираться закоулками, пугая прохожих вопросом: здесь наши не пробегали?)
…Моё детство прошло в городке, перенесшем все ужасы оккупации. Фашисты пожгли почти все села вокруг, и после освобождения ещё лет десять, а то и больше, по нашим улицам ходили нищенки, ютившиеся в землянках на окраинах городка. Ни в одном доме не отказывали в милостыне – давали чаще еду (ломоть хлеба, шматок сала, картошку), но кто-то мог дать и одежду – платье, кофту, сапоги… Отказать нищенке в латанной-перелатанной одежке или не открыть ей дверь считалось немыслимым делом.
И вот теперь, через тридцать лет после окончания войны, я впервые столкнулась с ситуацией, и ни где-то, а в Москве – стольном городе, когда вполне взрослый и здоровый человек занимается внаглую попрошайничеством.
Однако отказать я не решилась.
Глава 3. День второй: что нам стоит дом построить?
И я принесла всё, что просили. Тюк получился внушительный. Юля, повертев каждую вещь в руках, критически разглядывая её на свет, чуть ли не пробуя на зуб, кое-что забраковала. Я едва не задохнулась от обиды, но виду не подала. Ведь выбирала из того, что сама ношу.
– А ты молодчина, – снисходительно похвалила она. – Я, по правде, не очень-то поверила. Думала, если принесешь, так барахло кой-какое.
Я благоразумно промолчала.
– А пальтеца у тебя лишнего не найдется? – снова принялась Юля за привычное дело.
– Что ж тебе, по арматурке не выдали? Ведь вам положено, – уже без всякого политеса спросила я.
Она посмотрела на меня без всякого понимания и сказала:
– Дирюга старьё давала вааще-то на кой оно мне? Что ж я… всякую рвань носить? Иду к Людмиле Семёновне.
– Простите, это, возможно, не моё дело, – говорю я на взводе, – Но каким образом выпускница детского дома оказалась после выхода буквально разутой-раздетой? Ведь ей положен полный комплект одежды, плюс постельное бельё, одеяло, подушка… – Матрац ещё, – подсказала Людмила Семеновна. – И даже мебель списанную, но вполне приличную – из шефской гостиницы, тоже дали. И посуду – некомплект из шикарных сервизов. Ну, пусть кое-где чуть треснуло, дома такую посуду не выбрасывают! – на самой высокой ноте закончила она.
– Так почему же Юля Самохина… Но я не успела закончить свой вопрос.
– Отчего? – свирепо глядя на дверь кабинета, сказала директриса. – Да оттого, что она всё, что ей дали, продала. Про-да-ла! Понятно, да? А теперь вот здесь промышляет. Говорит – обокрали? Врёт. Ну, пусть. Я предложила ей подобрать из бэ-у, новое вторично выдать не могу. Так не хочет! А вы не беспокойтесь, она в накладе не останется. У кого силой отберет, у кого обманом выклянчит. Первая ворюга в детском доме. А что это вас так волнует? Или… уже и у вас просила? Так не давайте.
– Нет, я просто так спросила, – смущенная и подавленная столь тяжеловесной аргументацией, ответила я. – Просто интересуюсь.
А ещё через несколько дней выпал случай поближе познакомиться с пёстрым племенем бывших.
Мой рабочий день близился к концу. Я просто с ног валилась от усталости, однако всю мебель так и не удалось перетащить в нашу отрядную. Стулья, полки книжные и всякую такую мелочь – это ещё кое-как. А вот письменный стол… И зачем только такие столы вообще делают? Двухтумбовый, неразборный, тяжелый до невозможности… Изо всех сил, напрягшись, я едва сдвинула его с места. Нет, черт возьми, его всё-таки надо как-то перетащить в отрядную!
Подложив под ножки стола и привязав ленточками полиэтиленовые мешки, я кое-как всё же исхитрилась пропихнуть его по прямой до конца коридора – толкая свой груз…э-э-э… спиной. Ну, а мои расчудесные воспитаннички сидели-посиживали на диване и во все глаза любопытствовали – интересно ведь до ужаса, как воспиталка справится с такелажными работами…
Моё профессиональное становление происходило необычайно быстро. Уже к концу второго дня я постигла печальную истину во всей её бездонной глубине – дети понятия не имеют, что такое коллективный труд! Всё, что не «лично для тебя», делали из-под палки, или – «доверяли» воспитателям и… шестеркам. Подбить ребят сделать что-либо не для себя лично, а на общее благо можно было лишь за определенную мзду – в детском доме существовала такса на все виды услуг: действовал и единственно торжествовал железный принцип личной материальной заинтересованности. Что такое – «нужно для всех»? «Ни фи-и-игааа!» – неизменно отвечали они, если им вдруг предлагалось хоть чуть-чуть шевельнуть пальцем «ради общества».
Поэтому и дети, все без исключения, бывали неизменно любезны с завхозом. Ему ведь разрешалось кое-что выдавать и без ведома воспитателей – в порядке частного вознаграждения и материального поощрения. Но за это надо было: помочь разгрузить машину с продуктами или новой одеждой, вынести кухонные бачки с отходами – в общем, сделать, что скажут.
Когда я таскала мебель в отрядную, мои оболтусы, кучно сидевшие на диване, развалясь в самых непринужденных позах, с азартом наблюдая и даже изредка комментируя наблюдаемый процесс, не изъявляли, однако, ни малейшего желания как-нибудь поучаствовать в нём лично. Но стоило на этаже появиться завхозу, как дети уже бежали со всех сторон с криком: «Вам помочь?!» – и тут же мчались исполнять поручение.
Помочь, конечно, всегда оказалось надо – пригласили троих, и уже через четверть часа, возвратившись на прежнюю позицию, они беспечно сорили фантиками, то и дело извлекая из карманов горстями хрустящую карамель. Остальные завистливо заглядывали им в рот.
О том, что именно так «привлекают» детей к труду, мне уже сообщил всезнающий муж кастелянши. Однако – метод, на мой взгляд, «запрещенный». И поэтому, чтобы лишний раз не конфузиться, я и не стала лишний раз укланивать детишек, не идут работать вместе со мной, ну и бог с ними…
Правда, когда волокла мимо них стол, они притихли, даже на время перестали хрустеть карамелью. Может, в ком-то и совесть шевельнулась, как знать? А может, просто пробудился острый технический интерес – «допрёт или не допрёт?». А как – если по лестнице?
Избежать конфуза всё же удалось – на выручку пришёл трудовик.
– За что сослали-то? – сочувственно спросил он, пропихивая стол вбок, на лестничную площадку. – Не могли, что ли распределение получше подыскать?
– Ой, что вы! – говорю я счастливо (стол-то наш! И мы это сделали!). – Я уже пять лет почти отработала в университете, а сюда сама пришла, по собственной инициативе. Понимаете…
– Ясно. По лимиту что ли?