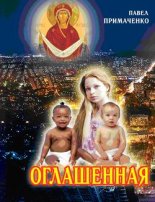Нежный театр Кононов Николай
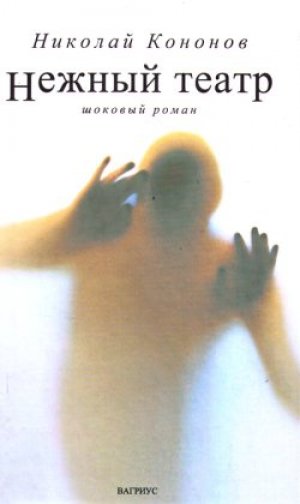
I
………………………[1]
___________________________
Я пытался вообразить свою мать.[2]
Но она никогда не давалась мне, будто совсем не хотела оживать, – даже в лучах моей памяти. Все напряжение оборачивалось густеющим снежным облаком.
Но самый тягостный выход из этих страстных медитаций – она с лицом моего отца. Но равная ему лишь в границах тех слов, которые я мог навязать этому зрелищу.
И я говорил, говорил, говорил…
Ну, наконец-то, – вот она, пусть даже в личине моего отца, с его невыразительным лицом – то есть та, которой у меня точно не было.
Но и он, принимающий личину моей матери, остающийся сам собою, оскудевал, делался бесполезным, так как уже ничем мне не угрожал. Как фальшивый Кронос, который поглощает меня, совсем меня не пожирая. Словно я – кольцо.
Мне трудно это сразу объяснить.
И мне нравилось в детстве, (да и в отрочестве, и что уж тут скрывать и позже, и позже… тоже мне нравилось) напялить на себя картонную маску милого понурого слоника или шкодной лукавой мышки. Других у меня не было. Маски зверьков, перепутанные с канителью, хранились в наилегчайшей коробке с прочей новогодней утварью. Долгие-долгие годы. На одном месте. На одной высокой полке. Как символы неизменности моего утлого мира. И я отмечал, как перерастаю эти детские маски. Как они теснят меня больше и больше. Как подозрительно пахнет папье-маше твердеющей изнанки. Как пылит в нос, как отшелушивается старая бумага.
Я шел к зеркалу – и пристально и пристрастно смотрел сквозь сдвигающиеся к переносью бусинки прорезей на свою преображенную личину.
И первое, за что принимался в сугубом одиночестве – были ругательства, грязные и похабные, выговариваемые язвительным голоском зверушки, сопровождаемые умильной жестикуляцией и приседаниями добрячка. Это пугающее несовпадение насыщало меня необыкновенным волнением, делало особенным и полнокровным, почти торжественным.
Безрассудно и головоломно я бросался в невесомость зазора, разверзшегося между двумя персонажами.
Одним – хулящим и глумящимся, и другим – слышащим и наблюдающим.
Длить эту игру мне ничего не стоило.
И она, совершаемая без усилий, грозила иссяканием и гибелью, так как за этой раздвоенностью я не признавал самого себя, и, тем более, не чувствовал растраты.
Она, эта игра, была сколь нехороша, столь же сладима.
Ведь были, были еще там кто-то третий, третья, третье…
___________________________
Отец свысока склоняется ко мне, кажется, на это уходит уйма времени. Играя, он касается подушечкой указательного пальца моей выпяченной нижней губы, – мягко оттянутая губа, когда я грустен или обижен, возвращаясь на место издает странный едва уловимый звук – будто во мне пошевелили пустоту. О, во мне пусто! Отец меня приотворяет. Что же в меня попадает при этом, – думаю с беспокойством я.
Иногда я это делаю и сам.
Но остаюсь плотно закупоренным.
Мне помнится по сей день – впервые на вечернем сеансе в кино «Победа». Прекрасное помпезное здание, неспешно теряющее лоск и красу. Послевоенные покои для народа-победителя. Тусклый триумф – бронза в вестибюлях.
Возбужденное толковище.
Мы вместе с отцом.
Он в штатском платье. Теплое время года. Не помню какое – что-то с весны по осень. Комфортная старая классика. У нас ведь пора теплыни такая длинная, три четверти года тепло лижет и ластится к миру.
Я совсем мал.
Отец, держа меня за руку, тихо что-то втолковывал билетерше, чтобы нас пропустили на столь поздний, самый последний сеанс. Тетка стояла как неодолимая преграда. В темном зале, куда мы пробираемся уже во время журнала, я робею и еще крепче сжимаю его мягкую неотзывчивую ладонь. Когда я чувствовал свою руку в этой мягкой створке, то всегда мечтал втереться, прорасти в него, стать им на все свое будущее время.
Идет журнал – вовсю мельтешат белыми нитками какие-то станки, ядовитая сталь истекает светящимся ручьем, грузный экскаватор зачерпывает породу в карьере, людишки онемевшие на ветру что-то яростно громоздят в самой сердцевине небес. В конце – несусветная даль, озаряемая лучами.
Вот начался настоящий цветной фильм.
Когда несколько раз прерывалась лента, в темноту свистели и орали ругательство «сапожник». Стрекот возобновлялся. И я вдруг увидел – не успевший со всеми крикнуть отец словно очнулся, молодечески присвистнул и выпростал вверх обе руки, – и тень с его растопыренными пальцами просияла на оживающей кутерьме.
Я тогда понял, что когда-то потеряю и его.
Так же как свою мать.
И мне стало безмерно печально, почти до слез, и кино не смешило меня, и только взрывы гогота сигналили, что помимо печали, обуявшей меня, еще есть и жизнь других людей, сидящих вокруг. И они катали бутылки в ногах, от них мелкими волнами исходил приторный запах подсолнечника, который они лузгали, подружки звонко шлепали зарвавшихся ухажеров, что лапали их в темноте, и сами собою тут и там скрипели и хлопали сиденья. Мир возбужденно жил, настаивал на самом себе. Принимал ритмические фигуры, растягивался и сжимался. Помимо меня.
И мой отец заходился в припадке возбуждения вместе со всеми. Азартно клонился вперед, откидывался, изнемогая. Будто добровольно стал гребцом галеры. Пригибаясь ко мне шептал переменившемся голосом, еще полным смеха и восхищения: «Ну ты сын глянь а… дает. Каково? Тебе все видно? А?» От отца легко пахло сухим табаком. Чуть-чуть угрожающе. Самую малость.
Он жестко толкал сидевшего впереди, чтоб тот сместился вбок и не застил мне своей башкой восхитительное кино.
– И чё с детьми-то по ночам в кино шляться…
– Ты мне поговори! Зритель!
Но я твердо понимал, что он, мой отец, бросив пятипалую тень на экран, легко подталкивая меня, чтобы я разделил его вечернее удовольствие, расчищая для меня поле яростного зрелища, – очевидно и неукоснительно преуменьшался. С каждым кадром. Будто я познал его исчезновение. Под стрекот аппарата. В каком-то другом фильме, куда со всей очевидностью был втянут.
Вот я дождался кульминации, о которой никто кроме меня не догадывался. Героя, откалывавшего уморительные коленца, изловили. Легко и просто, как глупого карася, хотя он – прекрасен, силен и скользок. И вот он вздыхает прямо на меня – потное лицо, кровоподтеки, легкая щетина прокалывает холстину экрана. Тонким хлыстом ему перехватывают шею – там где гуляет кадык. Он тяжко багровеет. И я начинаю задыхаться вместе с ним. Полные глубокого покоя кадры асфиксии, кажется, не кончатся никогда. Отец замечает мою одеревенелость, шепчет: «Что это с тобой? Тебе что, плохо?» И я кручу головой, чтобы не выдать тайны своего наслаждения этой вопиющей мерой удушенья. Она обреталась здесь – в десяти шагах от меня – не наваждением, а переменой унылой участи моего бытия. Ведь я, живой и плотный переставал дышать вместе с ним – целлулоидным и непрочным. Я просто замирал.
Отец при следующей жестокой сцене мягко закрывает мне глаза ладонью.
На мое лицо спускалось забрало древнего шлема.
И я навсегда понял – как пахнет испод мифа.
Слабым солоноватым потом отцовской ладони.
Я ведь ее тихонько лизнул. Кончиком языка.
Это – вкус и запах войны, куда он мог уйти в любой миг.[3]
От меня…
Я и тогда был сам для себя загадкой. Почти не различал себя, будто был завернут в хрустящую непроницаемую фольгу, будто был написан на бумаге печатными литерами. Что было во мне? Вещица? Слово, обозначающее вещицу? Куколка? Подробный рисунок насекомого? Безымянный дар, иногда испускающий лучи, разжигающий меня так, что я становился хрустящим – любой шаг, самое незначительное движение давали о себе знать – в глуши, во тьме кромешной, на свету. Словно прописывали себя быстрыми литерами.
Я просто знал – что я был. Это не глагол – это сущность моего случая. Сущность, которую не объяснить, только уподобить. Но никаких уподоблений мне скоро не потребуется.
В зоне исчезновений, куда я попадал, время вытирало неумолимым ластиком целые карандашные абзацы, написанные печатными буквами.
Я только поражался непрочности своего времени, быстро делающегося прошлым, зыбкости моего времени равного этим первым, но уже ветхим словам.
___________________________
На вокзале, у самых поездов, мне всегда хочется уставиться в черноту мазутных луж. От разлитого между рельсами бархата невозможно оторваться. Самый липкий неискоренимый никакими силами запах. Самый темный, никакими силами не высветляемый цвет.[4]
Всю дорогу я читал не вчитываясь, а просто перелистывал, проглатывая знакомые абзацы «Приключения Ламюэлля Гулливера». Ловил себя на том, что просто держу в руке старый потрепанный томик, словно позлащенный стократным чтением. Почему-то постоянно упираясь в любимое с малолетства место. Галантный англичанин, величиной с уютного мышонка, елозит по пахучим телесам великанш Бробдингнега. Там есть картинка, – и пикантная иголочка Гранвиля царапала мое зрение, совсем не возбуждая меня.
Воздух вокруг меня густел.
Ведь плацкартные вагоны пахнут задницей великанш, только что сошедших на полустанке, пропавших из поля зрения.
Мне бы хотелось, чтоб меня нес в зубах теплый белый сеттер, размером с тепловоз. У него мягкие чуть-чуть влажные губы. От него нисходит сухое тепло.
Но вот и дорожная курица съедена напополам с молчаливым дембелем-мордвином, безразлично поспешающим домой из самой Абхазии.
Он вызывающе белобрыс как ненастоящий.[5]
Он, как бы не просыпаясь, снова и снова погружался в мягкое небытие. В любой позе. Будто каждый раз опускаясь глубже и глубже. И сон многократно поглощал его уже спящего. Пеленал в кокон – слой за слоем, – жестко сидящего у окна, застывшего большим зародышем на полке, сомнамбулически плывущего по почти пустому вагону в сторону тамбура курить. Казалось, что парень не менял позы, лишь чуть-чуть слабел губами, изредка подбирая светлым медленным языком набегающую каплю слюны. Он лишь едва выдвигался из своего тела, чтобы снова привалиться к себе самому, жесткому и опустошенному, той плавной мягчайшей частью, где, по-видимому, колыхался его сон. И сон главенствовал и верховодил его сухим бледным существом. Парню не надо было даже смежать веки.
Так с высунутым неприкушенным кончиком языка он и оставался, даже не смыкая глаз, лишь щурился, обращая время в немощь и дряхлость, – и оно, обессиливая вместе с ним, никак не могло подобраться к вечеру.
Мне стало казаться, что я никогда не доеду до своей станции. Но мне не приходило в голову помахать ладонью у его очей или пощелкать у уха. Я видел как по-детски мягко, неэкстатически закатывались его зрачки, оставляя в просвете только голубизну роговицы в мелочи красных жилок у сегмента светлой радужки. Я спокойно и чересчур близко рассматривал его и в этом не было и тени непристойности. Спя передо мной, он неправдоподобно и наивно подставлялся. Совершенно очевидно, что парень, не расстегнувший ни одной золотой пуговки на своей ушитой форме, явно давящей его, находился где-то по ту сторону происходящего, там где его попирают совсем иные необоримые силы.
Я все время смотрел на него, и меня не язвил особый свет угнетения, чуть перекатывающийся в нем; – смотрел, откладывая «Гулливера», бродя взглядом по его ушитым доспехам, по слабеющим избитым вывернутым ладоням и ровному прямому лицу, – пытаясь читать их как приключение. Но он, сидящий напротив, делался для меня невидимкой, и проницая его я ничего не задевал в нем – ни его несущественного тела, ни его небывшей истории, уже просочившейся в мир недоступности.
Он был как знак, как безусловное обозначение места, к которому жизнь приложила чересчур великую силу, запросто смахнув все что там было. И как он уцелел, – думалось мне.
Солдат, как-то по особенному зевая – одними губами, не напрягая лица, иногда ероша свои мягкие, белесые волосы, вымолвил, наверное, две-три фразы, так и не вывалившись из дремучего сна без сновидений.
Глядя на меня, он со всей очевидностью меня не видел.
Но был ли он слеп?
Только одна его сентенция запомнилась мне: «Спать лучше, чем жить». В этом была неколебимая неумышленная древность. А, может быть, вместо «жить» он сказал «служить».
Проверить невозможно.
В тощие пробелы, когда он бодрствовал, он показал мне фотографии. Вот он сам в полной сержантской форме под сенью пальмы замер кривоного и браво, взойдя из белой перекошенной прописи по низу снимка «Дэндра Парк Сухум». И еще несколько любительских.
«Это дембель», – щелкает он по четырем серьезным совершенно голым парням, они сидят на лавке, взявшись крест накрест за руки, закинув друг другу ногу на ногу, прикрыв таким образом соседа и порождая сегмент дурного орнамента. Крайний справа – блондин, он совсем голый, так как ему не хватило соседской ноги, а своей он закрывает срам призрака. «Леха, Миха, Вован, я. Нормально?»
Он не назвал своего имени. Это было ни к чему. Они были похожи на разгримированных маленьких лебедей из балета, еще не выбравшихся из галлюценоза и одурения танца. Будущее мрачнело за их четверкой невидимой кулисой, бросало на них плотный отсвет, накидывало вуаль несуществования. Меня передернуло, будто я глянул в холодный разрытый лаз чужой жизни.[6]
И он, снова уходя в сон, уже не прятал карточки, так как не мог попасть ими в карман. Я подымал их с пола, разглядывал как нечитаемые извещения о чужой судьбе.
Несколько раз мы выходили в тамбур, пропахший мокрым табаком и угольной пылью. Я влек сомнамбулу, стараясь не разбудить. Он тихо очень аккуратно курил, держа папиросу двумя пальцами невыразимо нежно, как живую, – сначала стоя, потом, медленно оседая на корточки, уже приваливаясь к стене, не выпуская из пальцев погасающего окурка; а я глядел сквозь торцевое окно на разматывающиеся, уходящие рельсы.
Через некоторое время я понимал, что его, недвижимо сидящего, надо бы как-то разбудить. Он незаметно входил в ступор, будто разглядывал там, в своей глубине, нечто такое, чему нет ни названия в мире обычных слов, ни зримой оболочки среди всех видимостей, когда-то привидевшихся людям.
Я отводил его, чуть подталкивая в мягкую отзывчивую спину, на место.
И мне не пришло тогда в голову, что он, как Сивилла или Пифия, сможет при моей настойчивости поведать хоть что-то о той жизни, к которой я, помыкаемый безвременьем дороги, приближался вместе с ним с каждым метром теснее и ближе. Ну, хотя бы показать жестами, высунуть, в конце концов, свой белый язык по-настоящему. Я смотрел на него, на его рот, на молодую более светлую, чем его бледная кожа, щетину, будто испытывал к нему, этому безымянному существу томительное чувство, от которого все время отмахивался, ловил себя на том, что морщу брови, смаргиваю, безуспешно перестраиваясь в другой безразличный регистр восприятия его, сонного, чуть пахнущего теснотой и молодостью.
Аккуратно собранные косточки отданы на безымянном разъезде унылой собачке, даже отдаленно не напоминающей сеттера. Она уткнулась благодарным лицом в их развал. Радостно вздохнула в кучку объедков. Тряхнула многовитым кудлатым хвостом. Потянулась в изнеможении и посмотрела на меня невыносимо печально.
Компот из сухофруктов выпит и хорошая банка с навинчивающейся крышкой унесена без моего согласия проводницей.
…Вот у переезда, вбритого в густой лес, грустная еще молодая, но отяжелевшая женщина, подпирая шлагбаум, кажет поезду желтый лоскут. Все происходит столь небыстро, что можно разглядеть подробно ее неряшливость и утомленность собою. Многослойное неопрятное облачение, наверно не сдерживающее тепло. Темные пряди выбившиеся из-под платка. Она смотрела в мою сторону как в зеркало, которого не стесняются. Насквозь. Но я успел поймать на себе ее невидящий взгляд. Ее бесполезная саморастрата бросалась в глаза, как обвисшая желть флажка. Как аккуратные линейки крохотного пустого огорода, подползшего к самой насыпи. Мне подумалось, что она, копаясь в нем, голыми руками пересыпает черную почву.
Я увидел словно ее очами, со стороны, как состав в тихой вибрации двинулся дальше, вписываясь в нетугую асимптоту мировой дуги.
Человек, одетый в штатское, быстро двинулся в мою сторону только потому, что на станции, между путей остался лишь я один.
Поезд тихо отошел за моей спиной.
Когда я увидел его вблизи, я расхотел говорить. Мне стало не до слов.
Он как-то слишком аккуратно, как мне показалось преувеличенно сдержанно пожал мою руку. Но никакого порыва я не ожидал.
Вот ветровка, серая кепка, армейские ботинки и эти крупные пуговицы.[7] Но, ответив на его быстрое рукопожатие, я позволил себе жест, и мне почему-то до сих пор неловко оттого, что я его так подробно помню. Хотя, собственно, что такого я сделал… В застенчивости покрутил крупную пуговицу на ветровке этого человека, еще не ставшего «моим отцом». Ну, мгновенный неконтролируемый жест, чуть дольше секунды, до двух не успеешь досчитать. Но до сих пор сердце мое сжимается, когда я вспоминаю то поползновение близости. Мой порыв снова ломается о плохую пластмассу, и мои совершенно сухие пальцы от волнения и посейчас, когда я это вспоминаю, делаются скользкими. И я совпал со всем, что было вокруг меня. Каким-то образом, сам стал всем этим. Пустой голой станцией, опустевшими путями, низким каким-то надутым обиженным вечереющим небом. А всем остальным – я пребывал и подавно. Под ложечкой у меня отчаянно сосало.
_________________________
Ранним утром новая жена моего отца строгала на кухне ингредиенты к винегрету, и я еле пошевелился под пологом кислого морока. По народному, подвывая и охая, она подтягивала в унисон уличному репродуктору «вихри враждебные».
Я еще плотнее укутался одеялом.[8]
Мне хотелось только одного – чтобы и этот день прошел как можно скорее. Но время остановилось, став немощным и убогим. Его победили.
«Отец, отец, отец, отец», – твердил многократно я, обессмысливая это краткое слово. Словно подзывал его. Сначала слово превращалось в абракадабру «тецо», а потом смысл появлялся снова, так как в нем начинало звучать чье-то «тельце». Эта была моя особенная тайная мантра. Кажется, я начинал в конце концов гундеть ее вслух, пугая себя тавтологией, приносящей мне прибыль какого-то слезного сокровенного смысла, то что суровое слово «отец» не отстоит от жалобного слова «тельце» ни на йоту…
Завтракая один на один с собою, не слыша вкуса, я незаметно поглотил миску макарон по-флотски. На дне коричневел пригар. Я поскрябал по нему слабой алюминиевой вилкой…
Новая жена делала все время одно и тоже монотонное движение. То открывала высокую дверцу навесного шкафа, то выдвигала ящик снизу. Будто ее завели. Ее тело наплывало на меня тканью халата. Но ее плоти под ним я не чувствовал. Будто она фантом, морок раннего часа.
Кругом следы отцовского усердия, полки, ящички, мирные неостроумные приспособления. Они словно присыпаны простыми запахами быта – хозяйственным мылом, измельченном на терке, плотным настоем кипятка, горячкой выглаженной холстины.
Я понял, как он мастерит простые предметы, довольно топорно, не очень тратя себя, будто в расчете на временность. Но временное, незаметное, и есть постоянное, так как нет его крепче. Знал ли это мой сбежавший от меня отец?
От окна на кухне пахло сильным ветром. Упругий парусящий вкус ветра, от которого не закрыться. Так же пахло сегодня и от отца. Он ведь не был в казарме.
В углу комнаты, где я ночевал, – маленькая самодельная клетка. Она стоит на тумбочке, как цирк для лилипутов. Умильный крючочек на дверке. Для малюсенького дрессировщика. В руке у крохи – волосяной арапник на золотом кнутовище.
В клетке – две серые мышки.
«Девочки наши», – зовет, пригибаясь к ним, новая жена. С ее пухлых губ слова скатываются, делаясь круглыми.
Девочки вставали на задние лапки, шарили паутинкой усов в воздухе.[9]
Жалкий в своей маниакальной аккуратности военный городок, вросший с одного бока в мордовский бор, был исхожен мной за каникулярные дни вдоль и поперек. В глухом высокомерном одиночестве. Кепку я надвигал на самые глаза. Но я не казался себе шпионом. Тайны нигде не было, так как все было простодушно распахнуто. Хотя с северной стороны городка простиралась запретная зона. Она огорожена колючей проволокой, с ажурными сторожевыми башенками, расставленными на расстоянии полета тяжелого камня, кинутого пращей. По периметру на верхотуре вышек скучали маленькие среднеазиатские Давиды.
Ничем не пахнущий ближний косматый лес с подстилом легких шишек, пружинящих под ногами. Вот – мокрый жирный мох не переходящий в болото. Разбитая кривая дороги, по ней пьяно свистя, проносился буро-зеленый бронетранспортер, оставляя не тающий на холоду скульптурный выхлоп. Сизый плотный газ можно было потрогать, помять и порезать. Я вышагивал по обочине нестрашной дороги и громко пел сладкую арию Надира из оперы «Искатели жемчуга». О прекрасной Луне, освещающей любовь. Это из бабушкиного репертуара. Память о ее молодости, когда она, живя в прекрасном городе, бывала в театре.
Жестокая просинь расталкивала деревья, еще сильнее трезвя меня.
___________________________
Бытовое самоотвержение чужого семейства вызывало во мне только недоумение. Словно мое тело задевало их непомерно жесткое расписание. Ведь невзирая на праздники, они как заведенные, бодря себя, вставали ни свет ни заря, врубали на всю катушку радио и сразу распахивали легкие шторы на всех окнах. Жильцы в сияющей бессонной доблести и непопираемом здравии предъявляли себя неприятелю. Стекла окон зло чернели в пустоту безумного мира.
Враг обитал за лесным горизонтом, проседающим под собственной тяжестью. Там начинало едва мутнеть.
За завтраком отец под хихиканье толкающихся близнецов проделывал один и тот же фокус, от него все мое нутро нехорошо сжималось, и я чувствовал себя жидким.
Он клал рядом со своей тарелкой небольшой складной ножик в красных боковинках. Сидел, потупясь, в непроницаемости ступора, чуть ковыряя примитивную еду, будто бы готовился впасть в глубокий сон. Мерно дышал, гася в себе возбуждение. Все понятливо замолкали – словно все идет совершенно обычном ходом. Я с трудом выходил из ночного времени, подавляя позывы к зевоте.
– Кто рано встает, тому Бог подает, – сказала новая жена, глядя чуть искоса в мою сторону.
– В бок поддает, – нагло съязвил я.
Близнецы затолкались и заржали.
Отец пропустил мой выпад.
Он вообще пребывал где-то, не здесь, совсем в других краях.
Потом, как-то собравшись и глубоко вздохнув, он выпрастывал длинное лезвие ножа и медленно, сосредоточенно глядя на узкое блестящее острие, приблизя его ко рту, поглощал весь предмет целиком. Медленно и аккуратно заглатывая. Якобы помогая себе языком. За стиснутыми, как от невыносимого страдания, губами исчезал даже яркий черенок. Он, наконец, сглатывал, кадык его бежал по шее к самому подбородку, и отец делал вид, что опустил в свои недра весь раскрытый ножик целиком. Он магнетически проводил рукой от губ до самого живота.
Десятью секундами позже он отрыгивал ножик в ладонь, но уже сложенный каким-то непостижимым образом в совершенно безопасный предмет.
А может быть, отец своим ежедневным, ежеутренним фокусом хотел придать остроту, изменить скаредность и уныние, охватившую все, что простиралось вокруг. Мне не пришло на ум тогда спросить его об этом.
– Ой, ну ты прям как ребятёнок, а не строевой офицер! – Каждый раз ободряла его новая жена. Она давно смирилась с абсурдностью этого ритуала.
Она вообще смотрела на всех склонив голову, словно видела одним глазом лучше. Может, она была не в силах сразу охватить зрением всю картину неосмысляемой жизни, разворачивающейся перед ней
Скользила по жилью в опрятном халате в мелкий цветок. Мягко шуршала по рыжим свежеокрашенным половицам в толстенных шерстяных носках, топча пеструю штопку подошв. Мне тоже были выданы такие же спецноски негнущейся вязки. В тапочках на босу ногу по дому ходил только отец, чавкая при каждом шаге. Его пятки были желты.
– Ой, ну ты прям как артист – в шленцах, прям артист, а не офицер, – говорила улыбаясь жена, глядя на его тапочки, немного скосив голову в утренней косынке.
На кухонный стол сквозь стекла начинал сочиться мокрый серый свет.
Гречневую кашу с молоком мы доедали, стуча ложками уже у дымчатого помолодевшего окна, за которым вытоптанные офицерские огороды упирались в кряжистую теснину.
– Ну, в лес сёння чоль? В праздник самое то? А? После парада? А, пацанва? – Не унималась новая жена, сгребая посуду и сметая со стола несуществующие крошки.
Меня смущали вопиющие качества разнородных вещей и событий, которые я не мог объединить словом «осень». Я ждал глубоких сухих холодов. Я ждал снега. Но мне было так грустно, что осень была во мне. Она томленьем осеняла меня изнутри. Мне казалось, что наша утренняя лабуда мешала проявиться всему – моим отношениям с отцом, замершим в болезненной неравновесной точке, лесной болезной природе, и наше настырное сверхраннее просыпание, думал я, искусственно длит тупую немочь.
В доме существовал, одновременно как бы не существуя, еще один персонаж. Это был солдатик, помогающий по хозяйству. Приносящий откуда-то издалека колодезную воду. Тихий, смуглый, с испуганными очами, совсем плохо понимающий по-русски. Я запомнил, как он мусолит детскую тетрадку, куда им самим была перерисована печатными литерами присяга. Он по ней учит неродной язык… По самодельному учебнику. Он совсем не занимал места. Даже когда молился, расстелив половичок. «А ты помолися, помолися…» – соболезновала ему жена.
И я выходил в другую комнату или на кухню, пока он принимал куриную позу, замирал как птичья тушка. Мне она говорила: «Поди, поди, чайку попей, вот книжку почитай.»
Ее тон был столь проникновенен, что волна сочувствия заливала меня. И если я шел тогда в туалет, то лишь коснувшись своего члена, чуял как он – мое продолжение – тепел и жив. Как горяча моя урина. Я с трудом удерживался, чтобы не начать мастурбировать.
Это был приступ сочувствия?
Сожаления?
Жалости к самому себе?
Не знаю.
Припадок тепла, затихая во мне, выкручивал теплую мягкую жилу под самым сердцем, но я знал из анатомии, что ее там не должно быть. Но она словно обдавала меня всего брызгами.
Я понимал, что где-то через пятнадцать минут вернется отец…
Поздно вечером входивший в прихожую отец, там же у двери, вроде бы не обращая внимания на меня, услышавшего, узнавшего его по короткой оплеухе о дверь подъезда, как-то стремительно и одновременно мрачно начинал раздеваться. Столь быстро, будто за раздеванием должно непременно последовать наказание.
Я теперь сказал бы: не раздевался – разоблачался. Будто суровая военная форма мешает ему воплотить это наказанье. Сковывает его движения, как болезнь.
У вешалки, прямо у хлипкой двери, не успев ее толком затворить, он сбрасывал свой замечательный военный хитин, почти срывая череду золотых пуговиц, – вот-вот они разлетятся сверкая.
Он пробегал тонкими пальцами по кителю быстрее, чем пуговицы выскакивали из петель. Он их словно заводил, магнетизировал, и они расстегивались сами по себе, чтобы блеснуть редкостной завораживающей искрой.
Поддаваясь гипнозу, я стоял ни жив ни мертв.
Он стягивал сапоги, и меня настигал флер усталости его тела
Дрыгая ногами, как пацан, молодеющий отец разматывал бинты портянок, запревших за день, в ржавых сырых следах. Босыми ступнями нащупывал тапочки как кочки в зыбком болоте. И он вступал в дисперсное поле сплошной неуверенности. Начиная наново жить.
Он, преувеличенно бодро покачиваясь с пятки на носок и обратно, стоял передо мной чуть дольше мгновенья.
До сих пор мне неизвестна истинная цена того промежутка.
Стоял в одних лиловых, как отстиранные чернила, растянутых плавках.
Этот цвет печали мне ни за что не позабыть.
Из-под их провисшего края всегда стекал кожистый пустой лоскуток его желтоватой мошонки. Как беззащитный знак тыльной стороны его плоти. В пустую емкость, пока он так переминался, низко опускались яички, он их из себя вытряхивал, как птица сносил их.
Они повисали вещественной тягостью этого близкого мне тела.
Как грузила, удерживающие гондолу летательного аппарата его голого существа.
Как оберегаемая ото всех в мире его тяжелая неприглядная суть.
От всех, кроме меня.
Кроме меня.
Мне казалось, что если на другой день это зрелище не настигнет меня, то он просто взовьется и навсегда исчезнет.
И я понимал, что он, этот мужчина, пока близок мне только потому, что стоит в тридцати сантиметрах от меня. Я ведь не мог к нему пробиться. А может быть и не хотел. Мое любопытство пока наталкивалось на шершавую стену его тоски. За домашним ритуалом она была непроницаема.
И ничего тоскливее этой репризы в своей жизни мне видеть не доводилось.
Но вот он ныряет якобы помолодевшим пловцом в матерые растянутые бесцветные треники.
Он выдыхал «уфф» и сразу обмякал, входя в маленький объем кухни.
Кино делалось черно-белым.
И мне становилось ясно, что его жизнь состоит из тоски, которая им не чувствуется, потому что она невещественна.
Видит Бог, я за ним тогда не подглядывал. Просто смотрел. Ведь он сам приглашал меня созерцать себя. Это был особый уговор, установленный непререкаемый порядок. Без него течение жизни разрушилось бы. Сегодня бы не перешло в завтра.
Мои видения почти что бесплотны, так как равны мне, погружающемуся в разреженный галлюценоз прошлого. Настолько неправдоподобного, что уже и неотъемлемого.
Никогда не надсмехаясь над ним, сопереживая его живой голизне.
Ведь это он сам себя мне таким предъявлял.
Созерцание отца никогда не было с моей стороны кражей. Я это точно знал. Потому что отец совершенно не смущался меня и моего взгляда. Не думаю, что сейчас то переодевание понимается мною как-то иначе, чем тогда. Ведь первое, что он бросал как снасть в стихшее жилье, еще с самого порога, в щель двери была простая фраза:
– А-сын-где?
Он ведь знал, что «сын» – это только я. И тут, у двери, стою перед ним. Ведь близнецы к этому позднему часу уже крепко почивали. Да и жена предсонно возилась в глубине квартиры, перебирая нескончаемое рукоделие. Она вязала на спицах у смутного берега.
А может, отец на самом деле говорил:
– А, сын, где…
То есть не звал, а обращался ко мне, обрывая фразу, увидев меня. Что же таилось дальше, за указательным местоимением «где»? Мне некого спросить.
__________________________
Мне не позабыть контраста между его белейшей голизной, маячившей передо мной мгновение назад, и проваленными синеватыми глазницами – тяжелыми, как темень за незанавешенными окнами кухни.
Он отворачивался к скользкому сине-черному окну и вглядывался в бездонное никуда. Сквозь проницаемый лик своего отражения. Как-то по особенному тихо, безглазо. Но молчание его было не тихостью, а чем-то вопиющим, словно он собирался что-то такое важное для одного меня тихо и торжественно произнесть.
Все проистекало, как в очень плохом кино, будто вот-вот услышу треск ленты. И все оборвется.
Потом, не выдержав этого труда, отец тяжело ниспадал в мутную стопочку водки. Словно сам опрокидывался в нее. Тихо и обречено крякнув. Хлебал постные щи с грибами.
Почему-то тогда сумма его невеликих движений представала передо мной гигантским самоотвержением.
Он обычно подсаживался к столу, как-то неуверенно устраиваясь – далеко и сутуло. Не за столом, а именно около. Почти наваливаясь на плоскость столешницы, на позорный орнамент клеенки. Склонив голову так отвесно, что за ту каникулярную неделю мне ни разу не удалось увидеть как он ест.
Лишь стальная ложка поднималась вверх и опускалась вниз в тупости внутреннего завода.
Мне видится его начавшая редеть макушка. Он наверное сильно полысеет.
Левой рукой он всегда мял ломоть серого каравая, так и не поднеся ко рту ни единой крошки. Все его жесты оставались незавершенными. И их неполнота тревожит меня.
Он комкает мякиш, топя в нем узкий след указательного пальца; и мне совершенно ясно, что его рука совсем не подходит для военного дела.
В первый раз, когда вечером увидел его за едой – первый приступ невероятной жалости к нему, к этому неблизкому человеку охватил меня. Навернулись ли слезы на мои глаза? Теплая волна сострадания двинула мое тело к нему, и я сделал шаг. Но только внутри себя самого, оставаясь в полном покое.
Цветок алоэ, зеленеющий в горшке на подоконнике раненой елкой, мгновенно заслонил все мое зрительное поле. Половина ростков была уже сощипана на примочки от чирьев, не покидавших хилых близнецов.
– Ой, да не спеши ты, не отыму ведь еду-то, ай-яй, – сонно балагурила совершенно не к месту, вороша мягкие согласные своих причитаний, жена, войдя на мгновение на кухню. Очень добрая тихая женщина; она обращалась к нему не по имени, а системой особенных причитаний, в чьем перечне «ой» самое употребительное.
Он в ответ взглянул на нее, будто она была сделана из резины, и не очень хорошей.
Эта мягкая женщина была столь не ясна мне, что ревность меня ни разу не посещала. И ей совершенно недоступна была природа его спешки, проистекающая из тотальной скуки, уже совершенно овладевшей им.
Интрига жизни отца, связавшая его с этой женщиной, останется для меня загадкой.
Все особенности этого человека, из которых он и был сделан, громоздились за плотной непроницаемой стеной его тела и взора. В свою теперешнюю жизнь мало чего он взял. Книг – всего одна глупая короткая полка. Даже себя прошлого он где-то по дороге оставил.
Я его не узнавал. То, что меня цепляло, было настолько болезненным и жалким, что уже не нуждалось в сострадании. Он переживал скуку, куда вступил без меня. Но я разумел его, его переживания больше и больше. И мне становилось не по себе. Будто о чем-то догадывался.
Да и на что я был тогда способен в этом заторможенном времени военного городка. Серый заплаканный кирпич трехэтажных домишек, газовые трубы, серебряными жилами пущенные от дома к дому, упитанные тетки носят на руках младенцев в одеяльцах.
Время неизменно.
Дети всегда остаются маленькими. Они пищат, их самозабвенно укачивают, предъявляют друг другу, над ними укают и гулят.
Все предметы, кажется, уже стерты и лишены своих имен, они ничем не помечены. И это – конец жизни моего отца, ее зримый избыточный предел. Если вообще возможен предел неизменности. Когда седьмое ноября этого года повторит седьмое ноября года позапрошлого и одновременно будущего, могущего наступить через год или сто десять лет. Это – тавтология пассивности, повторяемость того, что само по себе уже ничего не значит. Отец существует в этом не-пространстве.
За те дни меня несколько раз настигали выразительные сцены офицерского быта, но со всею очевидностью мне было известно, что они повторимы. И потому были совершенно безразличны мне.
Впервые я уразумел тогда, что значит «всёравно».
Не «все равно», а именно одним словом, слитно, так, как нельзя.
Но на подступах глухих мордовских лесов, в самих лесах действовала совсем другая орфография. Другие правила нарицания – всех моих качеств, всех моих чувств, всего того, с чем я тогда встречался.
Мне даже казалось, что я заново привыкаю к своему имени. Нечасто произносимое отцом, оно медленно ко мне прилипает, обволакивает меня. И я попадаю в зону, откуда давно уехал. Материализуюсь наново. Будто сам себя наращиваю. А отец, наоборот, из реального человека, о каковом мне все время думалось раньше, становится невещественным, неким поводом, и к нему я должен был приложить тогда свои чувства, а теперь – их итог, превратившийся в воспоминания. Возможно ли это?
Мне кажется, что все легко просачивалось сквозь его тело.
Ведь сгорев, став пеплом, он превратился в сокровенную драгоценность. Чья непомерная роскошь, наконец, заключена в безвластии надо мной.
Ведь оставив меня, он обратил и меня в ветошь. Вся моя память, все мои изжитые чувства будут всегда казаться мне ветхими. И всю свою жизнь мне придется доказывать самому себе, что я нахожусь не в зоне кажимостей.
И только теперь, через свою пассивность, – смогу, наконец, обрести над ним власть и силу, которых как бы и нет, так как они отсрочены.