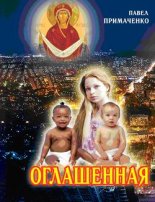Нежный театр Кононов Николай
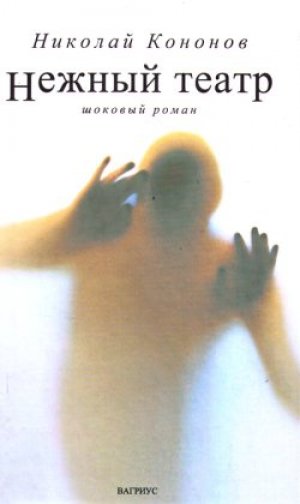
Одним и тем же тоном. Но в первый раз он именовал меня «сын», как примерного рядового, в другой – «сынок», как полкового любимца и в третий, – «сынишка», как возлюбленного баловня всей армии, которому все простится. Он говорил эти слова ровно, словно считывая их с листа, – чтобы у встречных не появилось сомнения в моей сыновней связи с ним. У меня должны были появиться в их глазах высокое звание и громкий титул. О, если бы они сразу услышали три степени сыновности.
Почему «гостинец»? Ведь гостинец привез я – три литра меда. А может, он хотел побыть в гостях у меня? Дурацкое слово «гостинец».
Мне показалось, что ему тяжело идти со мной, что ему почему-то необходимо оправдываться в глазах встречных сослуживцев. Но, нарекая меня производными имени «сын», он словно предъявлял окружающим меня во всем родственном блеске, что-то им непреложное доказывая.
О странные люди, особенно тот, что сплевывал беспрерывно, пока о чем-то говорил с отцом. До меня донеслось однообразие склоняемых местоимений «моя», «ко мне», «моей», и я цинично ждал появление торжественных форм «моею» и «мною». Но вместо этого собеседник отца сплюнул в сторону кошки так мощно, что на облезшем кусте волчьей ягоды, под которым животное копалось, повисла белая растерзанная медуза. Брезгливое животное метнулось к подолу отцовской шинели. Как под сень. Жалость переполняла мое сердце.
– Слышь, твоя кошара? Поймаю – удушу. Как машину поставлю у дома, так на капот садится, всю восковку истоптала, на дворники, падла, ссыт.
Замахнувшись, он сделал в сторону спрятавшейся кошки боевой выпад.
– Ну, будь, я блядь до гаража, – козыряет отцу человек-плевательница, показав два оттопыренных пальца. То ли голова черта, то ли три четверти стакана. От него пахнуло пережеванным перегаром.
Отец качает головой и снова берет меня за руку.
– Ну, совсем медуза, – говорит он.
То ли о плевках, то ли об этом человеке. В его словах не было ни брезгливости, ни осуждения.
Неотвязная кошка левой лапкой бережно закапывает за собой сырую ямку, она при этом странно смежает глаза, полные довольства.
– Как щурится, глянь, ну чисто баба, – замечает разулыбавшийся отец.
Мне не понятно это сравнения.
У него совсем мягкая, совсем несильная сухая кисть. Это столь контрастно с жестким обшлагом рукава шинели. «Нежная ласта», – думаю я. Мне страшно, что он вот-вот выпустит мою руку, так как моя ладонь, как кажется мне, постыдно и отчаянно липко потеет, потеет и полна немужской холодной слабости. Как перед обмороком.
И он то и дело то напрягал свою кисть, то расслаблял ее, играя со мной, показывал мне, что всё, и я тоже, еще в его власти, что он якобы может все что угодно сжать и поворотить в любую сторону. Но мне было ясно, что ничего он уже не может, что от него уже ничего не зависит, что он опоздал и пребывает в глухом беспробудном тупике. В нетях этого захолустья.
Я почувствовал, что глядя по сторонам, на дальние леса, перекопанные картофельные огороды, распаханные пашни и битые дороги, он не устанавливает между ними и собой предела. Что то, что простерто вокруг, – уже и он сам. И от этого мне делалось невыразимо грустно. Мне было его как-то невыразимо жаль. Почти больно за него. Но больно, если под этим понимать протяженность – им.
Как кажется мне сейчас, я его оплакивал.
«Ведь что за осенью?» – спрашивал я сам себя.
«Смерть, смерть, смерть», – кто-то трижды тарарахнул во мне.
– Что такой грустный? – отец сам понимает, что задает напрасный вопрос и сам не хочет, что бы я на него отвечал.
Я взглядываю на него и молчу.
Он отворачивает лицо.
Мне не удалось ничего выбрать среди скудости бесполезных товаров. Огромные кастрюли-выварки, дуршлаги, многолитровые миски. Кухня Голиафа. Шеренги пухлых пальто и одинаковых костюмов. Плохая какая-то босая обувь. Мыло, стиральный порошок и зеленый одеколон. Тоже шеренгами.
– Ты еще не бреешься, – вдруг говорит без вопросительной интонации отец, пристально посмотрев на мои щеки губы и подбородок.
Я слизываю его взгляд с тыльной стороны щеки.
– Кажется, нет.
– Так «кажется» или «нет», скажи по-нормальному.
– Не «по-нормальному», папа, а просто «нормально», – зачем-то говорю ему, хотя совсем не хочу выправлять щуплые вывихи его речи.
– Тоже мне нашелся, грамотей, как твоя бабка прямо, – он не сердится.
Он проводит сухим пальцем по моему подбородку.
Во мне стихает шум леса.
– Нет, бритву еще рано. – Но он вдруг задорно приободряется. – А черт с ним, рано или поздно. Пригодится. Если мужик нормальный. Все в хозяйстве мужику пригодиться.
В нем пробуждается другой человек.
Он запевает последнюю фразу куплетом «Как родная меня мать провожала». И это была единственная вспышка веселья, согревающая меня до сих пор.
И он покупает мне черную, как осенняя почва, электробритву «Харькiв». В жестком футляре с зеркальцем на крышке, кисточками и щеточками для выметания щетины, с крохотной масленкой для смазки, чернильными штампиками в паспорте. Это настоящий сложный агрегат, усерьезнивающий отныне всю мою жизнь.[18]
Я делаюсь бритым мужчиной.
– Хорошая вещь. Хочешь на двести двадцать, а хочешь – хоть на сто двадцать семь.
Он молча пристально смотрит на меня, он что-то начинает понимать, будто видит впервые.
– Вольт, – говорит он через несколько длиннотелых секунд.
Молчит еще, рассматривая склонившись над витриной какие-то армейские штучки. Петлицы и кокарды.
Я думаю теперь, что он не речь прибавлял к молчанию, а молчанье суммировал с молчаньем.
И вот он тихо говорит мне, сжимающему гладкую коробку. Словно прорезает бессловесность:
– Ей не говори, она все копит. Только потом обязательно одеколон, не забудь.
Он переходит к заклинанию, к тайне, которую он мне поверяет. Смотрит мне в глаза, будто с трудом узнает:
– О-де-ко-лон… Ну там «Шипр» или еще получше «Тройным». «Тройной» крепче в три раза. У тебя на левой скуле будет скорее расти. Как у меня. Одна порода. Вижу. Одна.
– Еще что брать будете? Ну вот хоть звездочки крупные завезли. Не приобретёте для пары, товарищ майор? – Говорит с тихим вызовом отцу продавщица.
Глагол «приобретёте» она словно считывает из сухой инструкции.
Моложавая тетка со злым деревянным, каким-то вчерашним лицом.
– Не к спеху, – отвечает ей с пустой интонацией отец, подталкивая меня к книжному закутку.
Там еще скупые злые авторучки, серые тетрадки с кем-то из классиков, тушки небольших глобусов. Почему-то Луны. Одна половина белая, а другая, невидимая – черная. До сих пор безмерно сожалею об той чудесной вещи.
Перегнувшись через прилавок отец что-то неслышное говорит потупившейся женщине. Она зло слушает, стреляет в него опухшими глазами и убегает за занавеску в закуток.
До меня доносится сдавленное, взятое в войлочные кавычки:
«Да он опять. Да это пасынок с ним. Не его пасынок, – глазуньин, у нее утробных своих – два. Да дура ты… От кого? От духа святого. Сын – его, а не Глазуньин. Бритву. «Бердск», да нет – «Харькiв» за двадцать семь. Сюрпризная. Уж с год лежала, пылилась всё».
Показываются две другие продавщицы, как в самодеятельном театре, они задергивают за собой тощую занавеску, делая все происходящее совершенно прозрачным.
Эта реприза делается многослойным стеклянным кубом, где разговор оживляет зрелище, а зрелище делает разговор цветным. Отец выговаривает серые как табачный дым слова, они – ниспадают к его ногам хлопьями копоти, будто пригорела котлета.
– Ну, здрасьте, деушки, – бросает им протяжные кольца слов отец, став на секунду бравым премьером в этом театре.
Они испепеляют его.
Я киваю тоже, глядя в фасад нарядной коробки. Там портрет бритвы в натуральную величину. Зачем?
Мне неловко.
Стеллаж никчемных политических книг.
Что он им еще сказал я не разобрал.
И мы вышли вон из торговой бедноты в те же самые двери. Он не настаивал на других покупках. Он подарил мне накануне темно-зеленую холщовую плащ-палатку. Зачем она мне? Чтобы я ночевал в чистом поле…
Глазунья…
О, какой кошмар, значит он, мой бедный отец, тут прозывается Глазуньиным мужем. Муж Глазуньи. Лучше бы она звалась адмирал Нельсон, пират Джо, мифологически – Циклопка, Полифемка, но только не Глазунья.
Это перебор, это чудовищно, это метко, это прямо в глаз.
– Что? Попало? – Спрашивает отец, видя, как я тру пальцем веко.
– Соринка, – отвечаю я.
Он отвернулся от меня. Он все понял.
– Да пошла ты! – Бросает он раздраженно в сторону кошки.
Потом смягчается:
– Ну, нет у нас ничего, что не видишь – нет ничего. Ни-че-го.
Кошка мягко отступает.
Мы молча шли домой. По пути нам уже никто не встретился. Он все-таки нашел в себе силы взять меня снова за руку.
Через грустное тепло его сухой ладони в меня словно перешло вспоминание об одной сцене, разыгрываемой бабушкой перед подругой моей умершей матери, Любой, о которой речь впереди.
Когда он уехал и сообщил через какое-то время о том, что то ли женился, то ли сошелся. На доброй местной женщине. Прислал в твердом конверте фото, подписанное с оборотной стороны. Отец, сидя рядом со своей новой очень доброй женщиной, безразлично смотрел вниз, – там лучи его зрения не сходились.
Так, короткая сценка, быстрый скетч. Приступ ненависти, порожденный на самом деле отчаянием, утратой власти, подступающей немощью. Бабушка шипела, показывая лучшей подруге моей матери, Любаше, Любе, Бусе разлюбезной, недавно полученное фото: «И такая-то мымра, глянь, его приворожила, на порог тварь с ним не пущу, чтоб глаза ее ослепли». Следом следовал краткий залп магического плевка. Проницательная бабушка по небольшому фото что-то почуяла про скрываемый ущерб. Она никогда зря не сыпала проклятьями.
Буся кивала, подмятая ее гневом, тупо качая головой, как китайская кукла. «А ты, дура-то, куда ж все смотрела? Проглядела, дуреха, свое счастье!» бросила бабушка в бедную Бусю, еженедельно приходящую к нам, вернее ко мне, смятый ядовитый ком. Та зарыдала, словно виновата во всем именно она.
Бабушка вообще-то насчет своего порога слово сдержала.
Отец так и не приезжал никогда.
Бабушка гневалась столь сильно на моей памяти лишь однажды, сразу по отъезду отца, после его ночного бегства. Когда униженно пристраивала в зооуголок домоуправления мышей, которых в один миг возненавидела. «В канализацию спущу, в канализацию, к говяшкам», – почти кричала она на парочку тварей в клетке, давясь сухими слезами.
Эти вспышки ее гнева пронеслась во мне за долю секунды. И засели в подкорке навсегда, как занозы, как первые рифмы, прожегшие стопку бессмысленных лет – насквозь. Они осознанны мной в моей жизни как единственный достоверный смысл.
Тогда ведь вдруг, помимо моей воли, впервые сошлось все и стало прозрачным и незабываемым, невзирая на все чувства, что я пережил. Чувства, что я пережил.
Позорные, смутные, язвящие, но неотъемлемые.
Делающие меня мной.
Назавтра отец увозил меня обратно, в тот город, где он когда-то жил со мной, где до сих пор обитал я вместе с его постаревшей матерью, в ее древнем упорядоченном мире.
Хотя я мог добраться и сам, без него – три часа на автобусе до станции и потом – на поезде. Но он хотел просто побыть со мной вдвоем. Ведь у него была жалоба. Словно он готовился ее каким-то способом поведать мне.
Ранним утром его новая жена, провожая нас, вынесла четыре трехлитровых банки к багажнику автомобиля. Две – маринованных грибов, две – моченой клюквы.
– На зиму ой хорошо. С картошечкой там, чайком, – как-то униженно промолвила она. И я понял, насколько она слаба.
И эти дары были принесены совершенно напрасно.
Неумолимая бабушка даже не позволила мне внести банки в дом.
Так их кто-то и подобрал.
___________________________
Итак, мне шел пятнадцатый год.
И это – самая быстрая часть моих воспоминаний, потому что я хочу отделаться от них как можно скорее. Ведь мне не хватает на все наркоза.
По прямому шоссе мы неслись с отцом на его неказистом автомобиле через лесистую равнину. Она холодела на моих глазах. Я увидел – в черных бороздах редких узких полей, словно выбритых в лесу великаном, мерзнет жесткий снег. Красно-черные березняки с осинниками, сменившие темень бора, притесняли дорогу, как в одном тексте, который я прочел, будучи взрослым. И мне теперь кажется, что, сходясь, они трещали, как запрет, к которому я вместе с отцом придвинулся вплотную. Будто Бог собирался надорвать пергамент над самыми нашими головами. Слов, начертанных на нем, мне было не разобрать.
Стрелка спидометра возбужденно дрожа встала у отметки «сто». Наверное, этот было на последней возможности автомобиля.
Сухие нервные руки отца, лежащие на руле, как на дуге мира.
Безукоризненно прямое шоссе гнется и горбится, оно брошено швом на живот равнины. Его прямизна как бандитский быстрый порез тела. Когда-нибудь леса и поля, лежащие поодаль него, сойдутся. Все исчезнет без следа. Как и мы.
Я боюсь, что отец заснет, и мы мгновенно погибнем. Точнее, я боюсь не смерти, мне просто жаль возни вокруг двух бесполезных покалеченных тел. Я брезгую, ненавижу быт похорон, которому был не раз свидетелем. Запах лесопилки, исходящий от халтурных гробов. Слезы, сопли, водка, торопливость преодоленной брезгливости. Искусственные ядовитые цветы.
Шоссе медленно и тревожно то опускается вниз, то начинает вползать вверх, будто мы едем по диаметру непомерного шара – так, впрочем, и есть.
Я чувствовал рядом с собой тело отца, равное биению моего сердца, равное гулу леса, идущему от набегавших справа и слева прямых стволов дерев. Время густело за дверцей нашего помолодевшего от быстрой езды автомобиля.
Мы едем молча целую вечность.
Но почему-то темнеет, и отец начинает искать место для ночлега, так как встречные автомобили его слепят, и он боится столкновения. Ему кажется, что ночью все едут как никогда не высыпающиеся солдаты-караульщики его части.
Он, чтобы успокоиться, кладет мне руку на плечо, отпустив передачу.
Гладит меня по затылку.
Его ладонь складывается в живой крупный лепесток. Я опираюсь о нее как о подголовник. Его пальцы мягко вздрагивают.
Я чувствую достоверность и выстраданность этого жеста. Его необходимость.
Я чувствую, что в сумерках ему легче что-то необходимое пережить со мной. Перенесть наш общий неделимый остаток. Ведь в нем заключены именно мы – друг для друга, неотъемлемые, постыдные в своей разделенности, кроткие и согласные на расставание.
Ему в сгущающемся свете делается свободнее.
У него тяжкая десница.
Я понял тогда, через это прикосновение кто я.
По плоти своей.
Понял себя как цитату, возвещенную им и продолжающую его.
Ведь кто я? Извещение о себе самом и о нем, о моем отце одновременно. Ведь рядом со мной он меня все время ирреально порождает, так, что я делаюсь не нашими невысказанными отношениями, а их неподъемным весом.
Ведь я наконец-то понял его особенным образом, без помощи слов, так как у меня не было тайного языка, что бы об этом понимании сказать даже самому себе.
«Господи, Господи, Господи, – с кроткой серьезностью повторял я про себя, – если Ты есть, не дай мне, добрый Господи, расстаться с ним».
Я понял, что иметь жалкого отца – больше, чем иметь сокровище.
Вот почерневшая пустота и редкие летящие двойные огни влетают в нас, делая нас неодушевленными, распахнутыми и сквозными.
Моей молитве не за что зацепиться, и она тоже пролетает сквозь меня, оставляя во мне щемящую выемку.
Мне становится понятно, что я состою из иного вещества, и тела во мне почти нет. Я делаюсь равным видимости того, что переживал. Для самого себя совершенно нереальным.
Ни одного моста по пути.
Ни одна железная дорога не пересекает шоссе, ни одного шлагбаума, где бы мы могли хоть на миг остановиться. Чтобы обездвиженность отяжелила меня или растворила как полную мнимость. Ведь я пребывал где-то между ними. Вблизи фантома отца, которого страстно любил, и человеческого тела, принадлежащего другому мужчине, вычеркнувшему когда-то меня из своей взрослой жизни так цинически легко.
У слова «легко» нет границ.
Мы мчимся, чтобы больше не увидеться, понимаю я.
От руки, лежащей на моем плече, от пальцев, перебирающих мои волосы на моем затылке, я начинаю возбуждаться. Даже не от этого, а оттого, что моей близости с отцом положен серьезный и зримый конец им самим, ласкающим меня в первый и последний раз.
Ведь так и вышло. Потом мы так и не пересеклись. Нигде. При его жизни.
Хотя это и было сто лет назад, я помню каждую деталь той ночи.
Особенную страстную деталь.
Данную мне как отсутствие смысла и содержания. Как внятное одному мне незначащее пустое слово, но обозначающее дорогую мне вещь или желанное действие. Они уже настолько дороги и желанны, что имеют обратный знак. Они вывернуты.
Эта ночь зачеркивала все:
– календарные пределы суток (ведь дорога бесконечна и равна ночи с сияющими зодиакальными животными, настигающими и обгоняющими нас),
– закон мужественности (нежность отца поворачивала его ко мне другой, невероятной страшной и торжественной стороной),
– сыновний запрет (я-то ведь не мог быть с ним ласков, как и не мог отвергнуть его ласку, я не мог насмехаться над ним, но в тоже время я безмерно желал, чтоб он был нежен со мной).
Он что-то тихо мычал себе под нос. Песню. Ее мелодии за гудением мотора я разобрать не мог. Может, это была колыбельная? На слова Лермонтова? Они сливались с шумом мотора и свистом дороги.
Он как-то серьезной кротостью меня пугал, и мне становилось страшно, но не его, а самого моего страха. Будто в отца, а я про себя понимал его не как «отца», а как некоего непомерного «его», постепенно вселялся другой, непонятный, но невероятно близкий мне, прекрасный и поэтому желанный поющий человек. Мой смилостивившийся преследователь, подаривший мне ночную отсрочку.
Не мой священный неприкосновенный отец, а пугающе близкий мужчина, сплетенный из узкой ленты дороги, темной полосы небес, лучей, несущихся навстречу рассыпающимися слезными снопами. И самое главное – из моего страха потерять его. Не вообще, когда-то, а именно сейчас на исходе его ласки.
Скашивая глаза, я наблюдаю его. Мой взор спускается по его высоко подбритым вискам, через гладкую скулу к подбородку. Я не замечал этой мягкости. Он – большой младенец, замкнутый серьезностью своего мира. Мира, претерпеваемого им. Мира, внятного только ему. Где-то за границей этого надежного напева. И из-за этой его новой безвозрастной детскости я перестал его бояться.
Но я был ни жив, ни мертв, так как оцепенел от страсти. И мне не было стыдно. Стыд простирался за другими границами, которых я может быть так никогда и не достигну.
Повернувшись, я смотрю на его профиль, вспыхивающий со встречными огнями. Я знаю, что он чует мой взгляд.
Самый важный итог моей связи с ним должен быть повторен трижды!
И именно мужчину я почувствовал в нем в первый и последний раз тогда.
И именно мужчину я почувствовал в нем в первый и последний раз тогда.
И именно мужчину я почувствовал в нем в первый и последний раз тогда.
И от этого желания, чтобы ничего не изменялось в сложном с таким трудом достигнутом равновесии между мной и им, мне делалось не по себе.
О! Я теперь это понимаю.
И никто не переубедит меня в обратном.
Как очень давно, совсем в раннем детстве, когда, подвыпив, он сделал вид, что не знает меня, что я для него – чужой надоедливый мальчик. Сейчас все происходило наоборот. Он показывал, как он близок мне, как любит меня, и это меня точно так же пугало, как отчуждение в детстве, и я едва сдерживал слезы.[19]
______________________
В доме дорожного мастера в комнатушке дворовой пристройки одиноко стояла железная кровать. У темной дощатой стены. Мы даже не перекусили. Большой грязный стол, на который нельзя было ничего целого и чистого положить.
Калилась открытая спираль примитивной электропечки. Ее принес добрый хозяин постоя. Он сказал: «А вот вам и козел». Словно здесь были еще другие животные. Водрузил ее, колченогую, на кирпичи. Напротив кровати. Вытянул в сени длинный провод. Подсоединил к чему-то. Вернулся, ушел улыбаясь. Я стеснялся его, он что-то такое знал про нас.
Но вот от властной красноты быстро сделалось почти горячо. До приземистой духоты и шалой одуряющей слабости. Будто кругом стояли темные зеркала, и легкое марево жара склеивало убогость в тяжелую одомашненную массу, где было уже совсем не страшно, как под двумя одеялами. Я начал глохнуть. Звуки с трудом достигали меня. «Сегодня» кончилось.
На вещмешке, принесенном из багажника машины, мрачно смешались наши одежды – военная мужественная его и хлипкая подростковая – моя.
На мои потертые ботинки навалились голенища его высоких блестящих сапог.[20]
Звездочка не тускнела на погоне. Звездочка, о которую я когда-то до крови оцарапался. Правда, он тогда был старлеем, а не майором, как теперь.
Эту мешанину одеяний я помню по-особому до сих пор. Я даже осязаю и поверхность тех вещей, и легко смешавшийся наш телесный дух на фоне затхлости и пыли. Именно чую, осязаю, разумею как шершавую поверхность ночного воздуха необитаемого жилья, ставшую вдруг вещественной. Неотъемлемой субстанцией моего несуществующего отца.
Отец остался в одних голубых кальсонах, пузырящихся на коленях. Он сделал еще один невидимый шаг и быстро, как чешую, стянул и их, оставшись совсем голым. Его поджарое тело, мягко разогнувшись, приняло теплый рефлекс калящейся спирали. Словно мягкий толчок. Я впервые увидел, как он красив, как он отточено строен, как теплы линии его движущегося тела, – они немного отставали от него в этой жидкой маленькой духоте, их можно было коснуться как сотни гармоничных лекал, роняемых им тут и там. В тихом зареве красноты как позднее насекомое, как робкая ночная пчела, плавно мелькнули его гениталии. Словно собравшиеся покинуть на ночь темную гущу пряжи. И мне не было ни душно и ни тяжело различать и понимать это.
Вот он остановился против меня, заломив руки за голову, повернулся, выкручивая корпус как гимнаст, всего на пол оборота, чуть вспрыгнул, легко по-молодому ухнул высоким тоном своего неусталого голоса,[21] и какая-то пронзительная гармония новой наготы и вольности насытили его обаянием, и, двинувшись дальше, он чуть пританцовывал. Одну секунду. Только два па. Не больше. Весело качнулся его член, неотличимый ни от его нестыдного лица, ни от темного худого какого-то ущербного живота. «Месяц на ущербе», – должен про него теперь сказать я. Он что-то должен был сделать исключительное, так как радостно посмотрел на меня – глядящего на него, как на самое лучшее зрелище моей жизни. И я понял, что он не предавал меня, я отчаянно захотел просить прощенье. Я сдержался. И он, поняв мои неизреченные слова, засветился сам.
Пока я переминался на одном месте, он лег – будто нырнул в ртутные густые воды, не утопая в них. Свет, в котором только что стоял он, остался поколебленным. Мне со всею отчетливостью привиделось как отец легко вышел из себя. Оставив мне так много.
Я мгновенно обнажился тоже. Не стесняясь его, так как он совсем не теснил меня.
Мне какой-то самой легкой моей частью делалось, делалось, делалось мне все свободней и свободней…
– Ну, иди же ты сюда, – позвал он не своим обычным голосом, а тоном высокого охотничьего рога, таким истомленным, что им невозможно даже распугать самых мелких птиц. Я понял: с таким «ты» мне не уравняться никогда.
Я подошел, ни сделав и шага, так как стал слишком легок для шагов, я вплыл в его эфир, в котором было все, что я знал про него, – все, кроме изнурения.
От него шли такая слабость и нетерпение, что я никогда не смог к этому сегменту моей памяти подобрать слова.
Отец оказался не тяжелее одеяла, чью полость он распахнул мне навстречу как моллюск створку раковины.
«Полезай к стене», – кажется, не попросил он меня…
«Не упадешь», – о, и этого мне он не сказал…
И я легко перекатился через сильное тело низкой помраченной волной, рассыпался по нему песком, пеной, чем-то еще – беспамятным и влажным…
Мне было необходимо задеть его собою, так чтобы проникнуть во все его поры.
Хоть на мгновение.
Ну. Вот и…
Где-то внутри меня, на самом моем дне опрокинулась низкая миска с парным молоком.
Я все про себя навсегда понял.
– Спать, – безмятежно улыбнувшись чему-то, позвал он меня, уже замершего рядом. И, кажется, я понял чему он улыбнулся.
Той ночью не произошло инцеста. Это было невозможно. Ни для него, ни для меня.[22]
И я снова, лежа с ним, вытянувшись струною, ощущая его не как корпус, бедра и голени, а иначе – как извещение о самом себе, и я всю ночь нарождался.
Но не наново, а как-то иначе – в другую сторону от моего паскудного завтра, в-туда, в-до-слов, сворачивался в полный покой и беззвучие.
Будто меня уже нельзя было прочесть, так как моя поверхность, мое тело перестали что либо означать, ибо я сам стал больше, чем гудение своей напряженной пустоты и значительнее опасного беззвучия, разлившегося во мне. Звучнее, чем переполненный улей, зудящий на манер отцовской колыбельной.
Я, – слитый с ним в этом порыве близости, останавливаемом мной, за что я еще поплачусь, – недвижимым лег у самой стенки. А потом повернулся. Лицом к нему. Почувствовал его мерное тело, вошел в зависимость от его неукротимого тепла, был понужден им к близости. Уткнувшись, нет, уставившись губами в отворенную только для меня сладкую подмышку. В робкий отцовский лес. Как в сокровенность. Как в сокровищницу с особыми пряностями, которые скоро унесут, но пока – они мои. Будто бы навсегда.
Он тоже, ответив мне, испуганно вздохнув, привалил к себе, обнял за плечи и гладил по затылку, еле слышно приговаривая: «Мой мальчик, ну мой любимый сыночек, мой мальчик. Моя детка».
Это «ну», полное тихой бесконечной горечи, засело в моем сердце.
Он твердил: «моя детка, моя детка…»
Будто улыбался.
Он это говорил не мне, смятенному его лаской, а себе самому, ставшему вдруг в тысячу раз слабее меня, юнее и ничтожнее. Оставшемуся наедине со своей плотью, не имеющей ничего – ни запаха, ни плотности, ни тем более – пола. Он переставал быть всем, чем был раньше – мужчиной, моим отцом, бросившим меня.
Я понял, что становлюсь прозрачным, и во мне уже ничего не держится – ни память, ни слова, ни желания.
Ведь он ни к чему меня не понуждал. Как и я его. Только к жизни. И вот это было неукротимо.
Я понял, что все исполнилось. И мне можно не жить дальше.[23]
Время остановилось.
Я знал, что наша кровь наново смешалась, но не в ужасающем, не в роковом смысле, а в другом, другом, – возносящем меня и оставляющем в живых.
И мы, сползая в сон, по-моему, так и не заснули.
И я понимаю, что и ему великого напряжения стоило не разрыдаться. Ведь мы наконец стали и, не преставая, снова становились ровней. Как не должно было случиться.
Между нами пролег знак великого кровного тождества. Таковой, от которого отказаться будет невозможно.
И он, он, мой бедный отец, будет понужден навсегда, даже когда его не станет, отвечать за скуку, скуку, приключившуюся в моей жизни.
Но я вспоминаю его, уснувшего рядом со мной не по уставу отцовства, а по мере столь глубокой человечности, что никто не смог бы осудить ни его, ни меня, ни темное время суток, ни безропотность веществ всего мира, – за это потакание чувственности и небрежение кромешным законом.
Потому что закона не было.
Всю ночь я поддерживал на весу его тиходышащее нетяжелеющее тело, переставшее быть мужским и отцовским, – подставлялся под бесплотность его чуть колкой щеки, заполняя собой жесткое кольцо его горячих сомкнутых на мне рук, иногда они мягчели и вздрагивали, как будто роняли что-то; и я понимал что этим чем-то был я, и он в ответ на мое понимание туже смыкал кольцо. Я лежал в пеленах колыбели, свитых из зажегшегося внутри меня тленного света, равного отцовскому, овивающему меня со все сторон. Он вдыхал в меня жизнь. Он недвижимый так старался. Стать мною. Как и я им.
Меня обволакивал ватный пустой выдох, приотворяющий его ослабшие губы у самого моего слуха, – и я чуял под своей щекой, как в этом долгом дыхании зыбится глубина его тела, тела, не имеющего отношения к обычной телесности. И насыщая меня своей жалкостью, он не делался жалким, и я не жалел его, так как просто желал, даже не его, а его жизни. И он, будучи слабее видимости и ирреальнее миража, со всею очевидностью сосуществуя со мною здесь, иссякал, – как прекрасная однозначность моего непоправимо опрокинутого выбора.
О, не только моего…
Он легко обвил меня ногами, прижимаясь сильнее и сильнее, если к тому, кого уже не было, можно было прижаться, и мое бедро не уколола травянистая растительность его живота, не отяготил перекатывающийся теплый ком мошонки и мягкого члена, к утру ставшего большим, поправ мой щуплый живот; – и когда сквозь дрему я подавался к отцу, тяжко вздыхая, то в ответ мне вздрагивала раскрывшаяся головка, чуть подталкивая меня; и еще этот ранящий ноздри запах – словно скрипнувшего канифолью распила или дальней речной липкости – мягко и беззащитно настигал меня; – это мой отец, безмерно ослабнув, со всей безутешностью опершись о меня, как о последнюю твердыню, уходил в небытие. Таким вот образом просачиваясь в меня. И эта легкая горючая прель оказалась главным его признаком, достававшимся мне, – куда соскальзывал и я, утеряв опору в нем. В полусне я понимал, что весь он, и тело, и запах, и плотность – исчезают, уводя его как череду видимостей, иллюзий, всего несбывшегося, – и удержать их подле меня не смог бы никто.
Его сил хватало, чтобы оставить о себе такой эфемерный преисполненный пугающей точности и драгоценной зыбкости, отчет предназначенный иссяканию.
Вот, вдохни, не бойся, ну, понюхай, мой любимый, – как будто подталкивал он меня, – ведь почти ничем не пахнет. В тот самый момент когда мы проснемся.