Письма из пещер и дебрей Индостана Блаватская Елена
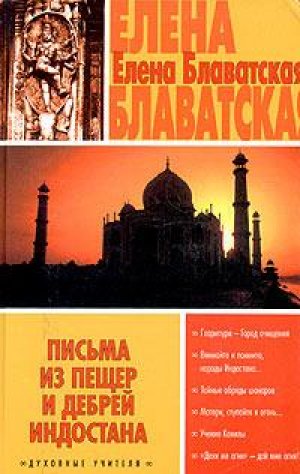
Так как приходилось долго ехать в крутую гору, то мы решились отправиться на слонах. Нам привели лучшую парочку в городе, самца и самку, на которых, по уверению хозяина, «ездил сам принц Уэльский и остался доволен». За все удовольствие туда и назад на целый день мы сторговались по две рупии за слона, ударили по рукам и стали приготовляться.
Наши товарищи-туземцы, с малолетства привыкшие джигитовать на слонах, мигом очутились на спине у своего. Как мухи облепили они его, преспокойно рассевшись где ни попало, цепляясь за разные веревочки сидений гораздо более пальцами ног, нежели рук и вообще представляя картину полного довольства и комфорта. Под нас, европейцев, как самую смирную из двух, приготовили слониху, на спине которой прикрепили нечто вроде двух скамеечек, на сиденье покатом на обоих боках и без малейшей опоры для спин. Недоверчиво посматривали мы на это «усовершенствованное» сиденье, но делать было нечего. Наш вожак (махут) поместился между ушами громадного животного (о росте которого несчастные подростки, показываемые в странствующих цирках Европы, дают весьма слабое понятие), а мы с постыдным чувством мурашек по всему телу кое-как влезли по лесенке на спину слонихи, ставшей по приказании махута на колена. Она носила поэтическое название Чанчули-Пери (в переводе «Деятельная Пери») и была действительно самая послушная и веселая изо всех когда-либо виденных мною представительниц своей породы. Крепко цепляясь друг за друга, мы, наконец, подали сигнал, и махут, вооруженный железным дротиком, ткнул животное острием его в правое ухо. Установясь сперва на передние ноги, от чего нас отбросило назад, слониха тяжело приподнялась затем на задние, и мы, едва удержавшись от падения, шарахнулись вперед, чуть было не сбив махута с места. Но этим не окончилось еще наше испытание. При первых шагах пери мы все четверо развалились в разные стороны, словно комки киселя…
Пришлось остановиться. Нас кое-как подобрали, причем добродушная Пери много помогала нам хоботом. Мы отправились далее. С ужасом подумывая о предстоявших нам пяти милях подобного путешествия и совестясь отказаться от поездки, мы однако с гневом отвергли постыдное предложение хохотавших товарищей привязать нас к сиденью… Чуть не пришлось мне горько раскаяться в своем самолюбии. Этот непривычный нам способ локомоции[74] являлся чем-то невообразимо фантастическим и вместе глупым. Рысью бежавшая возле важно шагавшей слонихи лошадь с багажом казалась нам с непривычной высоты каким-то малым осленком. Каждый шаг Пери превращал нас в акробатов, заставляя выкидывать самые неожиданные штуки. Шагнет она правой ногой – и мы ныряем вперед; левой – мы как сноп и валимся назад, все время вдобавок перетряхиваемые с одного ее бока на другой. Это ощущение, особенно под палящим солнцем, стало вскоре переходить в лихорадочный бред, оно являлось чем-то средним между морскою болезнью и кошмаром во сне. К довершению удовольствия, только что мы стали подниматься по каменистой, извилистой тропинке, на окраине глубокого оврага, в гору, как вдруг наша пери тяжело оступилась. Этот неожиданный толчок заставил меня окончательно потерять равновесие: сидя на задней части спины слонихи, на почетном месте экипажа, я неудержимо покатилась вниз, и в следующую затем секунду непременно очутилась бы с неприятным для своей особы изъяном на дне оврага, если бы не удивительный инстинкт и понятливость нашего умного животного. Слониха задержала мое падение со своей «покатости», буквально поймав меня налету хвостом. Чувствуя вероятно, что я падаю, она крепко и ловко обвила хвост вокруг моего туловища и тут же, остановясь как вкопанная, стала опускаться на колена. Но природная тяжесть моя дала себя, вероятно, знать и оказалась не под силу тонкому хвосту доброго животного. Хотя Пери и не выронила меня, но зато быстро опустилась на землю и тут же тихо и жалобно замычала, вероятно размышляя, что чуть было не поплатилась за свое великодушие собственным хвостом. Так по крайней мере заявил соскочивший мигом с ее головы махут, бросившийся на помощь мне и принявшийся осматривать якобы «поврежденный» хвост слонихи. И тут произошла сцена, как нельзя лучше характеризующая грубое лукавство, хитрость, жадность к наживе и вместе с тем трусость низшего класса индусов, «бескастников» (outcastes), как их здесь называют.
Сперва хладнокровно осмотрев хвост и для вящей проверки крепко дернув его несколько раз, он уже собирался возвратиться на свое место, но, услыхав мое неосторожное соболезнование о хвосте Пери, он внезапно и самым неожиданным образом переменил тактику. Бросившись плашмя наземь, он вдруг стал кататься по ней, испуская все время ужасные, дикие вопли. Рыдая на всю долину, он стал приговаривать и причитать, как над покойником, стараясь уверить публику, будто «мам-сааб»[75] оторвала у его Пери хвост. «Пери навеки осрамлена (плакался он). Ее супруг, свидетель позора ее, гордый Айравати, прямой потомок любимого слона бога Индры, теперь отвергнет ее, и ей остается лишь умереть»…
Так голосил махут, невзирая на все увещания сбежавшихся наших товарищей. Напрасно было доказывать ему, что «гордый Айравати» не показывал ни малейшего поползновения поступить так жестоко со своею супругой, добродушной Чанчули-Пери, о бок которой он даже в эту критическую минуту преспокойно чесал свой хобот, и что у самой Пери хвост был цел и на месте. Ничего не помогало! Тогда, выведенный из терпения наш приятель Нараян, известный силач, прибег к весьма оригинальному средству. Бросив одною рукой на землю серебряную рупию, он приподнял другою тщедушную фигурку махута за его дотти[76] и преспокойно швырнул его прямо носом на монету. Невзирая на окровавленную физиономию и даже не обращая внимания на нее, махут бросился на рупию с жадностью дикого зверя на добычу. Много раз простершись во прах пред нами, с нескончаемыми «салаамами» в знак благодарности, он стал без малейшего перехода изъявлять такую же безумную радость, какое за минуту до того выказывал горе. В заключение спектакля и в знак того, что хвост был действительно цел «молитвами сааба», он повис на нем, как виснет звонарь на колокольной веревке, пока его силой не оторвали и не заставили вернуться на свое место.
– Неужели все это за одну несчастную рупию? – воскликнули мы в изумлении и дружным хором.
– Изумление ваше понятно, – объявили нам индусы. – Трудно, особенно нам, не чувствовать стыда и отвращения при виде подобного унижения и жадности. Но не забудьте, что этот несчастный махут, у которого есть жена и, вероятно, дети, получает от своего хозяина номинально 12 рупий в год без содержания, а фактически последний с ним чаще расплачивается пинками, чем деньгами. Вспомните также долгие века угнетения от своих же браминов, от фанатиков-мусульман, видящих в индусе лишь нечистую гадину, наконец, от наших нстоящих, высокообразованных, гуманных властителей-англичан, и вы, вместо отвращения, почувствуете, быть может, глубокое сожаление к этой карикатуре рода человеческого.
Но «карикатура» рода человеческого видимо считала себя счастливой, не чувствуя ни малейшего унижения. Сидя, поджав ноги на широкой макушке Пери, он ей рассказал про свое неожиданное богатство, и, напоминая ей, что она «божья» слониха, заставлял кланяться саабам хоботом. Пери, в превосходном расположении духа, вследствие пожертвованного ей мною целого стебля сахарного тростника, забрасывала хоботом назад и игриво дула нам через него в лицо…
XI
Из мира современных пигмеев житейских дрязг Индии, столь падшей и униженной, мы опять в мире глубокой древности, в мире Индии неведомой, великой и таинственной…
Пещеры Насика, очевидно, вырывались не одним поколением, как и не одною сектой. Первое, что в них поражает, – это грубость первоначальной работы, громадные размеры и дряхлость скульптуры на капитальных стенах, в то время как резьба и изваяния на шести колоссах, поддерживающих главную пещеру, во втором этаже, великолепно сохранились и чрезвычайно изящны. Это обстоятельство заставляет думать, что пещера была начата за много веков до своего окончания. Но когда же хоть приблизительно? Одна из приведенных санскритских надписей, находящихся на работах гораздо позднейшей эпохи (на подножии одного из колоссов) прямо указывает на 453 год до Р. Х., как на год этих пристроек, Так, по крайней мере, доказывают по астрономическим данным на этой надписи Гибсон, Бэрд, Стивенсон, Ривз и несколько ученых, воспитанных на Западе, стало быть не предубежденных, как туземные пандиты. Да, впрочем, дата, по соединению планет, очевидна; она обозначает или 453 год до Р. Х., или 1734 нашей эры, или же 2640 лет до Р. Х., что невозможно, так как в надписи говорится о Будде и буддистских монастырях. Привожу главные и самые интересные фразы из нее по переводу, сделанному сперва доктором Стивенсоном и переправленному в коллегии санскритских правительственных пандитов в Бенаресе:
«Совершеннейшему и высшему. Да окажется сие благоприятным ему! сыном царя Кшапараты, властелина племени кшатрий (то есть воинов) и покровителя людей, владыкой Диника, лучезарным как заря, приносится сей дар сто тысяч коров пасущихся на реке Баназа вместе с рекой, а также дар злата, им, строителем сего святого пристанища богов и места для укрощения страстей браминов. Нет более желанного места, нежели это место, и даже в Прабхазе, куда стекаются сотни тысяч браминов, повторяя священный стих; ни в святом граде Гай, ни на Крутой горе возле Дазатуры, ни на Змеином поле в Говардхане, ни во граде Пратисраи, где монастырь буддистов, ни даже и здании, воздвигнутом Депанакарой на берегу пресноводного моря (?). Это место доставляющее несравненные милости, приятное и во всех отношениях полезное для пятнистой оленьей шкуры (?) аскета.[77] Безопасная лодка, присланная в дар также им, строителем бесплатного парома, ежедневно перевозит к хорошо охраняемому берегу. Им также, строителем здания для путников и общедоступного резервуара воды, позолоченный лев был поставлен у постоянно осаждаемых толпою ворот этой Говардханы; также другой (лев) у перевоза, а еще другой у Раматирты. Для тощего стада найдется здесь разных родов корм; для такого стада более ста родов трав и тысячи горных кореньев припасены этим щедрым дарителем. В этой же самой Говардхане, в лучезарной горе, эта вторая пещера была вырыта по приказанию той самой благотворительной особы, в тот самый год, когда почитаемые людьми. Солнце, Сукра и Раху[78] были в полном ликовании своего восхода; в этот-то год и были дары поднесены. Лакшми, Индра и Яма,[79] освятив их, отправились назад с кликами торжества на свою колесницу, поддерживаемую заклинательными мантрами, на беспрепятственном пути;[80] когда все они (боги) уехали, то полил проливной дождь» и т. д.
Первые пещеры вырыты на конусообразном холме саженях в сорока от подножия. В главной, в 45 квадратных шагов, стоят три фигуры Будды; в боковых – лингам; затем два джайнские идола, а в верхней пещере находится идол или скорее статуя Дхармы Раджи, или Юдхиштхиры, старшего Панду, которого здесь обоготворили и которому поклоняются в собственном, в честь его воздвигнутом, храме. Затем целый лабиринт келий, очевидно, буддистских отшельников, громадная статуя Будды в лежачей позе; другая таких же колоссальных размеров и окруженная колоннами с капителями, украшенными фигурами различных зверей. Стили всех эпох, как и всех сект, перемешаны, и перепутаны как разнородные деревья в лесу.
Весьма замечательно то обстоятельство, что почти все без исключения пещерные храмы Индии вырыты в конусообразных скалах и горах, словно древние строители нарочно отыскивали такие природные пирамиды. О странной и необычайной, нигде не виданной мною, кроме Индии, форме уже замечено при описании поездки в Карли. Случай ли это, или же одно из правил религиозного зодчества тех далеких времен? И кто тут подражатель? Зодчие ли египетских пирамид, или же неизвестные строители подземных храмов Индии? Как в пирамидах, так и в храмах все кажется геометрически рассчитанным и, подобно пирамидам, вход во храмы находится не внизу, но на известном расстоянии от подножия горы. Природа, как известно, никогда не подражает искусству, а напротив, последнее всегда старается воспроизвести формы природы. И если даже в этом сходстве между символами Египта и Индии на найдется ничего, кроме случайности, то остается только сознаться, что игра случая бывает иногда необъяснима. Далее нам придется, быть может, представить более веские доказательства тому, что Египет заимствовал многое у Индии. Не забудем, чт начала царства фараонов совершенно неизвестны науке; а то малое, что мы успели узнать, не только не противоречит этой теории, но даже указывает на Индию, как на колыбель и первобытную родину египтян. Так в своей Истории Индии Каллука-Батта писал еще во дни глубокой древности следующее:
«Во время царствования Висвамитры, первого царя Сома-Вангской династии, вследствие пятидневного сражения, Ману-Вена, наследник древних царей, покинутый браминами, эмигрировал со всею армией и, пройдя страну Арии и Барии, дошел наконец до берегов Масры…»[81]
Лесли нам ответит, что «Каллука-Батта» – историк до того древний, что санскритологи до сей поры ссорятся из-за него, затрудняясь придать ему какую-либо правдоподобную эпоху и поэтому благоразумно колеблются между 2000 лет до Р. Х. и эпохой императора Акбара (т. е. как раз во времена Иоанна Грозного), то вот чт говорит историк более современный и всю жизнь свою изучавший Египет (не в Лондоне или Берлине, по примеру многих его коллег, а и самом Египте) прямо с надписей древнейших саркофагов и папирусов, словом Генрих Брюгш-бей.
«…Повторяю, это мое непоколебимое убеждение, что египтяне пришли из Азии задолго до исторического периода и, перейдя этот мост всех наций – Суэцкий перешеек, – нашли новое отечество на берегах Нила». Есть доказательства, что во времена одиннадцатой династии египтяне вели торговлю с Аравией и берегами Индийского Океана – кто знает, с каких незапамятных времен? А надпись, найденная на скале Хамавата, гласит, что Шанкара, последний царь одиннадцатой династии, послал вельможу Ханну в Пунт или Пёнт. «Я был послан везти корабли в страну Пунта, дабы привезть домой душистой камеди, собираемой принцами Красной Земли», сказано в надписи. Комментируя эту надпись, Брюгш-бей объясняет, что «под именем Пунта древние жители Кеми (Египта) подразумевали дальнюю страну, омываемую большим океаном, страну, полную гор и длин, изобилующую черным деревом и другим дорогим лесом, бальзамом, ладаном, драгоценными металлами и камнями; страну богатую, изобилующую дикими зверями, жирафами, леопардами, пантерами, большими обезьянами и длиннохвостыми макашками». Даже название обезьяны на древнеегипетском языке Каф, Кафи (у израильтян Коф) чисто санскритское – Капи.
Этому «Пунту» (очевидно, Индии) легендарные сказания уже весьма древнего Египта придавали весьма священный характер; ибо Пунт[82] (или Пент) был «первобытною обителью богов, которые именно оттуда, под предводительством А-Мона (Ману-Вена Каллуки-Батта?), Хора и Хатор отправились по направлению долины Нила и благополучно прибыли в Кеми».[83]
Недаром Хануман имеет такое родственное сходство с египетским священным киноцефалом (Cynocephalus), а эмблемы Озириса и Шивы одни и те же. Qui vivra verra!…[84]
Обратный путь в город на Пери оказался приятнее. Мы приноровились к ее шагу и, въезжая в Насик, почувствовали себя бесподобными наездниками. Зато в продолжение целой недели мы едва могли ходить от боли в пояснице.
XII
На вопрос – кто бы чт предпочел, если бы пришлось выбирать между слепотой и глухотой – девять из десяти всегда скорее помирятся с последней. А кому пришлось хоть раз заглянуть в один из волшебных уголков Индии, часто напоминающей вам самые фантастические и казалось бы в природе невозможные декорации Большой Парижской оперы, – этой страны мраморных кружевных дворцов и заколдованных садов, – тот вдобавок к глухоте решился бы скорее захромать на обе ноги, нежели лишиться подобных зрелищ.
Рассказывают, что великий поэт Саади раз горько жаловался на равнодушие друзей, которым будто бы надоедали его бесконечные, восторженные похвалы своей возлюбленной. «Если бы, замечал он им, вы получили хотя один раз возможность и счастье, подобно мне, увидать ее дивную красу, вы вполне поняли бы мои стихи, непрестанно воспевающие – увы! так слабо и так бледно – то чарующее душу чувство, которое она внушает всякому, хотя издали увидавшему ее!..» Я вполне понимаю положение влюбленного поэта, но не виню и друзей его, не видавших его возлюбленной. Поэтому я дрожу от боязни, как бы мои постоянные восторженные рапсодии об Индии не нагнали на читателей скуки друзей Саади. Но чт же делать бедному повествователю, если на каждом шагу он открывает в своей «милой» все новые и самые диковинные прелести! Самые темные ее стороны, отвратительные, безнравственные, а подчас и глубоко ужасающие черты – и те полны чего-то столь дико-поэтического, незаурядного, чего никогда не встретишь ни в какой другой стране. Нередко местные сцены заставляют непривычного европейца содрогаться; но в то же время, как ночной призрак, они притягивают его, приковывают к себе внимание, и от них невозможно глаз оторвать…
Всего этого мы насмотрелись вдоволь в продолжение многих дней нашей cole buissonire. Дни эти мы провели вдали от линии железной дороги, этого проблеска цивилизации, которая столь же к лицу Индии, как модная шляпка на голове полуголой перуанки, «девы солнца» Кортесовских времен.
Ежедневно бродили мы через реки и джунгли, по селам и развалинам старых крепостей, по проселочным дорогам, между Насиком и Джабалпуром; днем переезжая из одной деревни в другую, частью в арбах на волах, иногда на слонах, а не то так и в пальках (в паланкинах) и верхом, а ночью – обыкновенно разбивая палатку где ни попало. В эти дни мы имели случай убедиться, насколько человек, в силу одной привычки, может сделаться властелином, хоть и пассивным, над непобедимыми для всех других и смертельно опасными климатическими условиями. В то время как мы «белые», невзирая на толстейшие пробочные топи на головах и защиту навеса, чуть не падали в обморок и положительно тлели под нестерпимо палящими лучами солнца, и когда даже туземцы-спутники обвивали лишним куском кисеи голову, наш приятель, бенгальский бабу, проезжал верхом целые мили под вертикально стреляющим в него солнцем с обнаженною головой!.. У него даже не было с собой и простого пэгери, куска легкой материи для тюрбана, не только шляпы. Спокойно ехал он целые часы с непокрытою ничем, кроме собственных густых волос, макушкой, и над его бенгальским черепом солнце оказывалось совершенно бессильным. Этот народ никогда не покрывает головы, кроме торжественных случаев, когда тюрбан надевается лишь как принятое украшение, как цветы на бале, во время дурбара, свадьбы или пира.
Бенгальские бабу, занимающие почти все низшие гражданские и особенно писарские должности, наводняют все железнодорожные и телеграфные станции, канцелярии, почтамты и правительственные присутственные места. Закинув через плечо белые кисейные мантии наподобие римской тоги, с голыми от колен ногами и всегда простоволосые, они гордо расхаживают на платформах станций и пред дверьми своих контор, с презрением посматривая на женственные украшения махратов, с их кольцами на пальцах ног и рук и огромными серьгами в верхней части правого уха… Они не носят сектантских знаков на лбах, как прочие индусы, и позволяют себе лишь дорогие колье, да и то редко. И однако же, в то время как страстно преданные женоподобным украшениям махраты справедливо считаются одним из храбрейших народов Индии (не раз уже заявив себя очень неприятно с этой стороны англичанам) и долгими веками войн выказали себя превосходными и храбрейшими воинами, Бенгалия, испокон века, из шестидесяти пяти миллионов своих жителей не произвела еще на свет ни одного солдата: среди туземных войск английской армии никогда не было и нет ни одного бенгальца. Это странный, но тем не менее неопровержимый факт, которому мы долго не могли верить, но должны были наконец сдаться пред подтверждениями многих английских офицеров и самих бенгальцев. И со всем этим, однако, их нельзя назвать трусами. Если бабу и высшие классы раджей изнежены, то их земиндары (землевладельцы) и поселяне несомненно храбры. Обезоруженный правительством бенгалец идет на тигра своей родины, самого свирепого изо всех тигров Индии, так же спокойно с дубиной, как в прежние времена шел на него с винтовкой и ятаганом.
Много глухих тропинок, на которые, быть может, с начала мира не ступала нога белого, еще более чудом уцелевших рощ прошли и посетили мы в эти короткие дни. И всюду мы встречали привет, благодаря магическому влиянию Гулаб Лалл Синга, который за отсутствием своим послал провожать нас и руководить нами в дороге своего доверенного слугу. И если бедные, голые крестьяне дичились и часто запирали пред нами двери, зато все брамины являлись к нашим услугам.
Прелестны местоположения в окрестностях Кандеша, по дороге в Тхальнер и Мхау, но много украшена здесь природа и искусством человеческим, и это искусство проявляется более всего на мусульманских кладбищах. Теперь все они большею частью полуразрушены и заброшены вследствие изгнания из этих местностей мусульманских принцев и ханов и большинства индусского населения. Когда-то властелины почти всей Индии, мусульмане теперь в загоне и в тысячу раз более унижены, чем индусы. Но много они оставили по себе несокрушимых памятников, между прочим свои кладбища. Эта неискоренимая верность мусульманина своим покойникам – одна из самых трогательных черт в характере сынов Пророка. Их посмертная преданность, всегда горячее выказываемая ими, нежели их любовь к семейству при жизни, как бы вся сосредоточивается на последних жилищах тех, кто отошли до них в лучший мир. Насколько их понятия о рае, обещанном Магометом, грубы и материальны, настолько поэтична обстановка их кладбищ, особенно в Индии. В этих тенистых, прелестных садах, с рядами белых гробниц, увенчанных чалмами, покрытых сверху донизу розами и жасмином, с кипарисами вокруг, невольно можно засиживаться по целым часам. В них мы обыкновенно совершали привалы, обдали, часто и ночевали. Особенно прелестно кладбище возле городка Тхальнер. Из нескольких уцелевших исторических мавзолеев великолепен памятник семейства Киладара, повешенного на городской башне в 1818 году генералом Гислопом, который между прочим расстрелял в тот же день всех солдат сдавшегося гарнизона, под предлогом, будто те составили против него заговор. Кроме памятника этому повешенному злополучному Киладару, есть четыре другие мавзолея, из коих один славится на всю Индию. Восьмиугольной формы, весь из белого мрамора, он покрыт сверху донизу резьбой, какой не найти и на Pre Lachaise. Персидская надпись на подножии гласит, что он стоил 100000 рупий. Днем залитый горячим солнцем, этот высокий, минаретообразный мавзолей отделяется на синеве безоблачного неба, блестя как пирамидальная ледяная глыба; ночью, при том особенном фосфорическом свете луны в Индии, который приводит в восторг всех путешественников и артистов, он еще ослепительнее и поэтичнее. Будто вновь выпавшим легким снегом покрыты его вершины; возвышая над темною зеленью кустов свой тонкий профиль, он кажется каким-то полуночным чистым видением, витающим над этой безмолвной обителью разрушения и смерти и оплакивающим невозвратное прошлое…
А рядом с такими кладбищами, обыкновенно на берегу рек возвышаются гхоты индусов… Есть действительно нечто величественное в этом обряде сожжения мертвых, – а в очень недалеком прошлом и сожжения живых, – но только в теории, а не на практике. Следя за церемонией и видя, как в какой-нибудь час времени после смерти от покойника остается лишь несколько пригоршней пепла, который тут же рукой посвященного брамина, жреца смерти, и рассевается на все четыре стороны по ветру, над рекой, дабы пепел навеки смешался со священною водой, зритель невольно поражен глубокою философией основной мысли подобного обряда. Разбрасывая горсть того, что некогда жило и чувствовало, любило и ненавидело, радовалось и плакало, брамин поручает пепел всего этого четырем стихиям: земле, из которой оно мало-помалу развилось и сформировалось в человека и которая так долго питала его; огню, эмблеме чистоты, пожравшему его тело, дабы дух его также был очищен ото всего греховного и мог свободнее вращаться в той новой сфере загробного существования, где каждый грех является камнем преткновения на пути души человеческой к «Мокше» или вечному блаженству; воздуху, которым он дышал и тем самым жил, и воде, которая очищала его физически, как и духовно, поила его и теперь принимает его пепел в «чистое лоно свое…» (Мантра XII.)
«Чистое», как прилагательное, является здесь только в фигуральном смысле «мантры». Говоря вообще, реки в Индии, начиная с трижды священного Ганга, невообразимо грязны, особенно близ городов и селений. Двести миллионов человек круглым счетом омываются в них от тропического пота и грязи по несколько раз в день; а касты, недостойные сожжения, как шудры, парии, мэнги и пр., бросают в них вдобавок всех своих покойников. Далее все касты, до браминов включительно, бросают туда же детей, умерших ранее трехлетнего возраста.
Пройдемся вдоль берегов любой реки, но только поздно вечером, чтобы провести там ночь и дождаться рассвета. Вечером хоронят лишь богатых или принадлежавших к высшим кастам. Только для таковых зажигаются после заката солнечного высокие костры из сандалового дерева вдоль священных вод; для них одних произносятся мантры и заклинания богам, а для простых смертных, для бедных бескастников, нет не только костра, но и простой молитвы: шудра недостоин слышать даже после смерти божественные слова из священной книги откровения, продиктованного в начале мира четырьмя Риши Ведавьясе, великому богослову Арьяварты. Как не допускался он ближе семи шагов к ступеням храма при жизни, так не допустится он и в загробной жизни стать наряду с «дважды рожденными».
Ярко горят костры, протягиваясь по берегу реки длинной огненной змеей. Черные силуэты странных, дико-фантастических фигур тихо двигаются среди огней, то подымая тонкие руки к небу как бы в молитве, то подбавляя дров к костру, то мешая огонь длинными вилообразными кочергами, пока потухающее пламя не вспыхнет снова, треща и виясь и брызгая во все стороны растопленным человечьим жиром, да выпаливая под облака целый дождь золотых искорок, тотчас же исчезающих в густом облаке черной копоти. Это на правом берегу; перейдем на левый…
В тот самый предрассветный час, когда красные огни костров, черные облака миазмов и тощие фигуры факиров-прислужников, отразившись в последний раз в темном зеркале реки, одни потухают, другие расходятся, а миазмы с их запахом пригорелого мяса рассеваются утренним ветерком и все на гхотах погружается в тишину до следующего вечера, – в тот самый час, на противоположном берегу, начинается процессия другого рода…
Печальною, безмолвною вереницей, то короткою, то длинною, смотря по смертности в городе и окрестностях, тянутся индусы обоего пола. Они подходят к реке отдельными группами, без плача, безо всяких обрядов. Вот двое принесли на плечах что-то длинное, тонкое, завернутое в красную тряпку. Раскачав его за ноги и за голову, носильщики хладнокровно кидают ношу в желто-грязные воды реки. При падении, красная тряпка слетает в сторону, и темно-зеленое лицо молодой женщины показывается на один лишь миг, чтобы тотчас же исчезнуть в мутных волнах. Далее другая группа. Старик и две молодые женщины; одна из них, девочка лет десяти, низенькая, худая, далеко еще не развитая, рыдает с причитаньем: то мать мертвого ребенка, которого она тотчас же бросит в холодные воды грязной реки. Слабый голос ее монотонно раздается по берегу, а дрожащие руки словно не находят силы кинуть бедную, маленькую фигурку, скорее похожую на темно-коричневого котенка, нежели на младенца. Старик ее уговаривает, затем берет мертвое тело из ее рук и, войдя в воду по пояс, кидает его на средину реки. За ним входят обе женщины, в чем стоят, то есть одетые или скорее полунагие, по обыкновению, и, погрузившись семь раз сряду в воду, для очищения после мертвого тела, выходят на берег и даже не отряхнувшись идут домой. Между тем коршуны, вороны и другие хищные птицы, целый день кружащиеся над рекой в ожидании добычи, собираются черною тучей над телами и долго задерживают их путь вниз по течению. Иногда такое обглоданное тело, зацепясь за прибрежный тростник или попав меж двух камней, беспомощно торчит из-под мелкой воды, пока наконец один из прибрежных мэнгов, несчастное бескастное существо, доля которого всю жизнь со дня рождения до последнего вздоха возиться за подобной нечистой работой, не придет вооруженный своим длинным шестом и, зацепив застрявший скелет между ребер, не выковырнет его из-под камней или тростника, чтобы снова толкнуть по течению – по дороге к синему Океану…
Но встанем теперь с песчаного и, несмотря на раннюю пору, уже накаленного берега. Простимся с водяным кладбищем бедных. Встанем и пойдем далее… Тяжелы и омерзительны для европейца подобные картины, и невольно при этом переносишься быстрокрылою мечтой туда, на далекий север, на те мирные сельские кладбища, где вместо резных мраморных с высокими чалмами гробниц, костров из сандалового дерева, да грязной реки вместо последнего ложа, стоять кресты, осененные старыми березами. Как мирно спят под высокой сочной травой наши покойнички. Не видал никто из них, сердечных, плывя вниз по течению, ни гигантских пальм, ни дворцов мраморных, ни пагод, крытых чистым золотом. Но зато над их бедными курганами цветут и фиалки, и белые ландыши, да весной заливается соловей на старой березе…
Для нас соловьи уже давно не поют ни в соседних рощах, ни на душе. Этого-то уж тут всего менее. Но пойдем вдоль высокой стены из красного песчаника, ведущей к крепости, когда-то знаменитой и залитой кровью, теперь же безвредной и полуразрушенной, как и прочие. Стаи зеленых попугаев, испуганные нашим приближением, выпархивают из каждой полуразваленной ниши стены, сверкая на солнце крыльями, словно летающие изумруды. Мы на «проклятой» англичанами территории, и стране Чандвада, где во время сипйского мятежа бхили, ринувшиеся из своих засад как неудержимый горный поток в долины, перерезали несколько дюжин своих властелинов.
XIII
В двенадцати милях на юго-восточной стороне Чандвада находится целый город пещерных храмов, известных под именем Енкай-Тэнкай. Опять, как и в прочих пещерах, храмы на высоте ста футов над подножием, а холм пирамидальный. Описывать их здесь в подробности невозможно, так как предмет этот требует совершенно иной разработки. Поэтому лишь бегло замечу, что и в этом случае все статуи, идолы и работа на колоннах приписываются буддистским аскетам первых веков по смерти Будды. На том бы и можно покончить, если бы здесь неожиданно не являлось для гг. археологов новое и гораздо более серьезное затруднение, нежели все затруднения, вместе взятые, касательно других спорных пунктов. В этих пещерах находится более идолов, называемых буддами, нежели где-либо в другом месте. Они покрывают главные входные двери, густо посажены вдоль каменных балконов, занимают задние стены всех келий, стоят на часах, как чудовища-великаны у входов, и наконец две такие фигуры сидят в главном танке (бассейне), где столетие за столетием ключевая вода омывает их по пояс без малейшего видимого ущерба для их гранитных тел. Между этими буддами есть прилично одетые, с пирамидальными, многоярусными пагодами на головах, есть и голые: некоторые в сидячем положении, другие представлены стоя; есть между ними колоссальной величины идолы, есть и маленькие, найдутся и средние. Все бы это еще ничего, хотя мы знаем, что реформа, затеянная Гаутамой или Сидхартой-Буддой, именно в том и состояла, чтобы вести ожесточенную войну против браминов и искоренить навеки идолопоклонство. Эта религия сохранялась чистой, без малейшей примеси идолопоклонства целые века, пока, наконец, попав в руки тибетских лам, китайцев, бирманцев и сиамцев, она не совратилась и не исказилась ересями. Затем, изгоняемая из Индии, преследуемая ожесточенными и, в свою очередь, торжествующими браминами, она нашла последнее убежище на острове Цейлоне. Там теперь она и процветает подобно тому легендарному алоэ, что цветет будто бы лишь один раз в жизни и цвет коего убивает главный корень, а семена цветов, пуская, в свою очередь, отпрыски, производят сорную траву. Но главное затруднение для археологов состоит не в идолах, приписываемых буддистам, а в физиономиях, в типе всех этих Енкай-тэнкайских будд. Все они до единого, от малого до большего – негры: приплюснутые носы, толстейшие губы, профили под углом 45° и курчавые волосы! Ни малейшего сходства между этою физиономией чистокровных негров и каким-либо из будд даже в Сиаме или в Тибете, где, при монгольских лицах с широкими скулами и такими же широкими носами, у всех этих идолов, однако, гладкие, совершенно прямые волосы. Этот неожиданный и нигде не находимый в Индии африканский тип приводит антиквариев в полное смущение. Недаром археологи избегают говорить об этих замечательных пещерах, так как после насикских пещеры енкай-тэнкайские для современных антиквариев настоящие Фермопилы.
Мы проехали Малеганв и Чикалвал, где осматривали чрезвычайно любопытный и весьма древний храм джайнов, снаружи построенный без малейшего цемента из сложенных квадратных, так аккуратно и тесно прилаженных камней, что даже тонкое лезвие ножа не проходит между ними; внутри храм украшен великолепной резьбой. Вернувшись в Тхальнер, мы отправились прямо в Гхару. Там, для того чтобы посетить великолепные развалины старинного, когда-то укрепленного города Мнду, находящиеся в двадцати милях к северо-востоку, нам пришлось опять нанимать слонов. На этот раз мы доехали благополучно и скоро. Упоминаю об этом месте, так как оно связано в моих воспоминаниях с одним из самых замечательных когда-либо виденных мною зрелищ, относящихся к той ветви многочисленных сект Индии, что обыкновенно называют «чертопоклонством».
Мнду расположен на хребте гор Виндии около 2000 футов над уровнем моря. По уверению Малькольма, этот город был построен в IV веке по Р. Х. (в 313 году) и долго был столицей индусских раджей Дхары. Историк Фириштах указывает на Мнду как на резиденцию Диливара хана Гхури, первого царя Мальвы, процветавшего от 1387 до 1405 года. В 1526 году город был взят приступом Багадур-шахом, царем Гуджератским, и затем снова взят обратно в 1570 году Акбаром, имя коего и год его посещения вырезаны на мраморной доске над главными воротами.
Странное чувство, должно быть схожее с тем, которое овладевает иными особами при их первом посещении Помпеи, охватило нас при самом входе в этот огромный, пустынный, называемый туземцами «мертвым» город. По всему видно, что некогда Мнду был одним из самых обширных городов Индии. Городская стена – тридцать семь миль в окружности, по измерению, сделанному в 1852 году. В этом бесконечном пространстве тянутся улицы на целые мили; по обеим сторонам стоят разрушенные дворцы, валяются мраморные колонны. Из-за развалившихся гранитных стен зияют провалы подземных покоев, в прохладном полумраке которых проводили жаркие дни султанши. Далее разбитые ступени, засохшие танки, безводные резервуары, бесконечно длинные дворы, мрамором выложенные помосты и поломанные арки величественных портиков. Все это заросло вьющимися растениями и кустами, ныне скрывающими берлоги диких зверей. Высоко над развалинами торчат там и сям полууцелевшие стены мраморных и гранитных дворцов, пустые окна которых, широко тараща безглазые впадины под густою бахромой вековых чужеядных растений, как бы хмурятся на назойливых, нарушивших их покой пришлецов. А еще далее, там, в самом центре развалин, из разбитого сердца опочившего города, из широкой богатырской груди, в которой когда-то бушевало столько страстей, столько жизни, выросла целая кипарисовая роща…
Казалось просто невероятным, чтобы город, который еще в 1570 году назывался Шадиабад, «обителью счастья», и в несчетный раз описанный и упоминаемый францисканскими миссионерами Адольфом Акуавива, Антарио де Монсеротти, Энрикесом и другими лицами посольства, отправленного с тот самый год из Гоа к Могульскому правительству за разными привилегиями, один из величайших городов того времени в целом свете, с великолепными улицами и роскошью, удивлявшею даже самые роскошные дворцы того периода в Индии, – чтобы тот город был этими самыми развалинами, на которых мы насилу могли отыскать чистое место для палатки. Наконец, из опасения диких зверей, мы решились разбить ее в единственном, почти неповрежденном здании Джами-Масжид, или «Соборной мечети», возвышающемся на гранитной платформе, ступеней на двадцать пять выше площади. Ведущая сюда лестница, мраморная, как и все прочее, широка и мало повреждена временем; но зато крыша совершенно исчезла, и над нами сиял бы целую ночь небесный свод, если бы не случилось одного обстоятельства, о котором ниже. Кругом главного строения, стоящего на квадратной площадке, с четырех сторон идет низкая галерея, поддерживаемая несколькими рядами огромных столбов. Издали, невзирая на свою немного неуклюжую непропорциональную величину, это здание очень напоминает Акрополь в Афинах. Со ступеней, где мы расположились, видится мавзолей Гушанга-Гури, царя Мальвы, доведшего город до высшей степени блеска и роскоши. Массивное, величественное строение из цельного белого мрамора, с крытою галереей на превосходно украшенных резьбой колоннах, когда-то ведшей прямо в один из его дворцов, теперь же обрамляющей глубокий овраг, который завален камнями и зарос кактусом. Внутри мавзолея пространная комната с потолком и стенами из широких квадратных плит, покрытых сверху донизу изречениями из Корана, писанными золотыми буквами, а посреди комнаты саркофаг самого султана. Неподалеку от этого жилища смерти дворец Баз-Бахадура – в мелких кусках, в пыли и заросший деревьями…
Усталые и изнемогая от жажды и голода, проходив весь день по развалинам, и с тремя убитыми змями, перекинутыми через палки как военный трофей, мы вернулись за несколько времени до солнечного заката и уселись пить чай и ужинать у входа нашей палатки, уже расположенной внутри мечети. Мы нашли у себя нежданных гостей: патель – официальное лицо, нечто среднее между сборщиком податей и мировым судьей – соседней деревни и два землевладельца (земиндары) приехали верхом засвидетельствовать нам свое почтение и умолять как нас самих, так и наших спутников-индусов, с которыми были давно знакомы, принять их приглашение и ехать с ними. Услыхав, что мы намерены ночевать в «мертвом городе», они горячо восстали против этого плана. По их уверениям, мы затеяли опасное и совершенно неслыханное дело. Через два часа развалины оживятся и из-под каждого куста, из подземных комнат каждого дома начнут вылезать для ночного разбоя гиены, читты и тигры, не говоря о нескольких тысячах шакалов и диких кошек. Наши слоны или убегут, или же будут обессилены и съедены. Следует, не теряя времени, собраться в путь и, оставив как можно скорее за собою развалины, ехать в их деревню, которая отсюда всего на полчаса расстояния. Там у них уже все приготовлено, и наш бабу ожидает нас.
Только в эту минуту заметили мы, что наш простоволосый и осторожный друг блещет своим отсутствием. Как видно, еще за три часа до того он спустился в долину к своим знакомым и послал их за нами.
Вечер был так хорош и мы так было славно устроились, что мысль перевернуть все наши планы на утро вовсе не улыбалась нам. К тому же казалось просто смешным, чтобы развалины, где мы спокойно проходили целый день, не встретив ничего опаснее трех убитых нами змей, были наполнены дикими зверями. Мы продолжали благодарить и отнекиваться.
– Но вам положительно невозможно оставаться здесь, – настаивал толстый патель. – Если случится несчастье, то я один должен буду отвечать перед правительством. Неужели вам приятно будет провести ночь без сна и в рукопашной схватке с шакалами, если не хуже того?… Вы не верите, что окружены дикими зверями, невидимыми до заката солнца, но тем не менее опасными? Так поверьте же инстинкту слонов, которые не трусливее нас, но, пожалуй, умнее. Взгляните, что они проделывают!..
Действительно, с нашими важными, напоминающими философов слонами происходило в эту минуту нечто необыкновенное. Высоко задрав вопросительным знаком хобот кверху, они сопели и с беспокойством топтались на одном месте. Еще минута, и один из них, перервав толстую, привязывавшую его к сломанной колонне веревку как гнилую нитку, повернулся в один прием всем тяжелым телом и стал напротив ветра. Крепко тянул он хоботом воздух, подняв правую ногу и как бы собираясь бежать… Он, очевидно, чуял опасного зверя.
Полковник поглядел на него через очки и продолжительно свистнул.
– Дело действительно выходит серьезное, – заметил он. – Ну, а как в самом деле на нас нападут тигры…
Да, подумалось мне, а такура-то Гулаб Лалл Синга с нами и нет!..
Оба наши индуса, поджав ноги, сидели на ковре и спокойно жевали бетель. На вопрос об их мнении они хладнокровно отвечали, что это до них не касается: что мы решим, тому они и последуют. Но остальные наши спутники, англичане, уже перепугались и поспешно собирались уезжать. Через пять минут мы все сидели на слонах, а через четверть часа, и в тот самый момент, как солнце заходило за гору и мигом распространились сумерки, мы выезжали из Акбаровских ворот и начинали спускаться в долину.
Но не отъехали мы и десяти шагов, как позади нас, не более как в полуверсте расстояния и как бы из только что оставленной нами кипарисовой рощи, поднялся вой и лай шакалов, а вслед за этим, как рев обманутого ожидания, послышалось такое продолжительное, громкое, вдруг потрясшее воздух рычание, что нас всех бросило в холодный пот. Наш слон рванулся вперед и чуть было не сбил с ног ехавших впереди верховых. Но на этот раз собственно мы, наездники, находились в безопасности: мы сидели в крепкой хауде, – в плотно запертой, как карета, башне.
– Вовремя же мы убрались, – заметил полковник, рассматривая из окна, как верховые, человек двадцать приведенной пателем прислуги, зажигали факелы.
Через час мы остановились у ворот довольно большего бунгало и нас встречал, улыбаясь, наш простоволосый спутник бенгалец. Введя всю нашу компанию во двор и под веранду, он объяснил нам, что, зная наперед, что наше «американское» упрямство восстанет против всякого предостережения, он пошел на хитрость, которая, к счастью, и удалась.
– А теперь отправимся умыться и за ужин…
И он добавил, наклонясь ко мне:
– Вы давно желали присутствовать на чисто индусском обеде или ужине. Ваше желание теперь исполняется. Наш хозяин брамин, и вы первые европейцы, переступающие порог его семейного жилого дома…
XIV
Кому когда-либо приходило в Европе в голову, что есть на белом свете такая страна, где каждый шаг в жизни человека, малейший его поступок, особенно в домашнем быту, самое незначительное действие связаны с религиозными постановлениями и не могут быть иначе совершены, как по известной программе? В этой стране не только все крупные эпизоды жизни, все главные выдающиеся черты ее, как-то: зачатие, рождение, переход из одного периода жизни в другой, женитьба, родительское звание, старость и, наконец, смерть, но даже все ежедневные отправления, функции физические и физиологические, как, например, утренние омовения, туалет, еда et tout ce qui s'en suit,[85] со дня рождения до последнего вздоха, – все это должно быть исполнено по установленному браминами шаблону, под опасением отлучения от касты. Браминов можно уподобить музыкантам оркестра, в котором разнохарактерные инструменты представляют бесчисленные секты этой страны. Все они различной формы, разнятся и в звуках; тем не менее все подчинены одному и тому же капельмейстеру.
Насколько бы эти секты ни отличались одна от другой в толковании своих священных текстов и как бы враждебно ни относились они друг к другу, стараясь выставить вперед и возвысить над прочими каждая свое божество, но все они и каждая из них, слепо повинуясь веками установленным обычаям, обязаны следовать, как музыканты, одному дирижерскому жезлу – законам Мну. На одном этом пункте они сходятся и составляют единодушную, единомыслящую общину, крепко, неразрывно связанную массу. И горе тому, кто в этой общей симфонии произвольно или даже нечаянно сфальшивит! Старшины (должность у индусов наследственная) и выбираемый пожизненно верховный совет каждой касты или даже субкасты (коих множество) держат членов своей общины, что называется, в «ежовых рукавицах». Их решения безапелляционны, и поэтому-то исключение или, по принятому выражению, «отлучение» от касты является, одним из самых страшных наказаний, влекущих за собою ужасные последствия. «Отлученный» хуже прокаженного, так как солидарность между кастами, особенно в этом отношении, нечто феноменальное и может сравниться разве лишь с солидарностью сынов Лойолы. Если, при самом строгом соблюдении всех требований, члены двух разных каст, хотя бы и связанные самыми горячими чувствами взаимного уважения и дружбы, не могут не только вступать между собою в брак или вместе обедать, но даже и выпить, принять стакан воды друг у друга, или же выкурить вместе кальян, то понятно, насколько строже соблюдаются подобные запрещения касательно «отлученного». Несчастный в полном смысле слова умирает для всех: для своих столько же, как и для чужих. Даже собственное семейство: отец, мать, жена, дети обязаны или отвернуться от него, или же быть, в свою очередь, отлученными. Нет надежды на замужество его дочерей, на женитьбу сыновей, как бы ни были дети неповинны в наказуемом грехе…
С минуты «отлучения» индус как бы исчезает для всех любивших и знавших его. Его мать, жена, дети не смеют накормить его, ни даже позволить напиться из домашнего колодца. Никто из прежней касты, тем менее из других, ни за какие деньги не осмелится ни продать ему, ни приготовить для него пищу. Ему буквально приходится или умерть с голоду, или же еще более осквернить себя, покупая необходимое у бескастников или у европейцев.
Понятно, что против такой силы – она тем страшнее в своей пассивности, что против последней закон совершенно бессилен – не помогут ни западное воспитание, ни английское влияние. Остается одно: каяться и подчиняться всевозможным унижениям, а благодаря алчности браминов иногда и полному разорению. Я знаю лично несколько браминов, кончивших самым блестящим образом курс в английских университетах, которые, вернувшись на родину, вынуждены были подвергнуться всем отвратительным требованиям «очищения», а именно: сбривать половину усов и бровей, ползать голыми на животе вокруг пагод, держаться по часам за хвост священной коровы, читая молитвы, и, наконец, есть испражнения этой коровы![86] Путешествие за море (калапани, т. е. за «черную воду») считается самым тяжким из грехов и требует вследствие этого самых строгих очищений. На совершившего такой поступок взирают как на человека, который от самой минуты отъезда на корабле беллати (иностранцев) до минуты возвращения осквернялся постоянно… Всего несколько дней тому назад один наш знакомый, доктор юриспруденции, блистательно окончивший курс в Англии, вынужден был пройти через подобное «чистилище» и чуть с ума не сошел. На наше замечание, для чего же ему подчиняться всему этому, если, по собственному сознанию, он давно перестал верить в брахманизм и сделался ярым «материалистом», он нам привел причины, против которых возражать было невозможно. «У меня в доме две дочери (говорит он), одна пяти, другая шести лет; если я их не выдам замуж, особенно старшую, в продолжение этого года, то их станут считать перезрелыми и на них уже никто не женится. Допустив, чтобы меня отлучили, я их этим обесчещу, поставлю в невозможность найти мужей и сделаю их навеки несчастными. Затем старуха-мать до того суеверна, что, вследствие такого семейного позора, непременно покончит с собою: она уже не раз грозила мне самоубийством»… Но, быть может, заметят нам: почему бы ему, человеку образованному, разом не разорвать всякую связь с брахманизмом и кастой? Почему бы не соединиться с другими товарищами в подобном ему положении? Забрав семейство и всех ему близких – не перейти целою колонией на сторону цивилизации, присоединиться к европейцам?
Вопрос весьма естественный, но и ответ на него далеко не затруднителен. Как в знаменитом ответе одного маршала Наполеону, из тридцати двух приведенных им причин, почему нельзя было атаковать некоей крепости, первою причиной являлось отсутствие пороха, так что о других причинах и спрашивать было нечего, так и из многих причин, почему для индуса немыслимо объевропеиться, – первая должна оказаться совершенно достаточною и, конечно, не потребует указания остальных. Разрубив Гордиев узел, индус не только не помог бы горю, но попал бы прямо из огня да в полымя. Будь у него семь пядей во лбу, будь он в науке соперником какого-нибудь Тиндаля, в политике равен Дизраэли и Бисмарку, принадлежи он к знатнейшему роду, – как только он отрекается от своей касты и соотчичей, так разом становится в положение гроба Магомета: говоря метафорически, он повиснет между небом и землей!..
Мудрая поговорка: «от своих отстал, а к чужим не пристал», кажется, сложена нарочно для этого злополучного народа. Напрасно воображают, будто отстранение как индийцев-магометан, так и индусов[87] от гражданской службы есть лишь результата несправедливой, трусливой политики, боящейся привлечения своих заклятых врагов к управлению страной. Общественный остракизм и совершенно откровенно высказываемое со стороны англичан враждебно-презрительное чувство «высшей» к «низшей» (по английским понятиям) расе играет в этом вопросе гораздо более серьезную роль, нежели предполагают даже в Англии. Это незаслуженное презрение, высказываемое при всяком случае туземцам (включая тут и мусульман), с каждым годом расширяет между двумя нациями пропасть, которой им веками не засыпать. Приведу два примера.
Мы гостили у одного весьма влиятельного здесь лица, редактора английской газеты, и имели случай познакомиться с одним чрезвычайно замечательным мусульманином, молодым человеком из высшей туземной аристократии Сеидом М. Что туземец принят в доме, посещаемом всем местным английским beau monde,[88] объясняется двумя причинами: во-первых, мистер С*** далеко не заурядный англичанин, а джентльмен в полном смысле этого слова; во-вторых, этот курьез, как нам кажется, можно отчасти объяснить тем, что Сеид М., не в пример прочим, носит европейское платье, воспитывался в Англии и человек не только талантливый, но вдобавок сумевший заставить даже англичан уважать его. Горячий патриот, он бросил адвокатуру, обещавшую ему громкое имя и еще большее состояние, и перешел в гражданскую службу, приняв место судьи в незначительном округе, из-за одной надежды, по его словам, «хоть сколько-нибудь улучшить политическое и общественное положение туземцев». Единственный, быть может, пример между индийскими мусульманами: он не делает разницы между могулами и индусами и одинаково горячо защищает интересы обеих рас. Его любовь к индусам даже чуть ли не горячее привязанности к единоверцам: мать Сеида была перешедшею в мусульманство браминкой…
– Все мы, туземцы, дети одной и той же несчастной матери нашей, Индии, – говорил он нам недавно, выражаясь привычным ему восточным и весьма поэтическим слогом. – Сыны одной горькой участи, мы должны дружно нести ее, а не растравлять наболевшие язвы распрями между двумя фанатическими религиями.
Это говорилось вследствие только что происшедшего публичного в Бенаресе побоища между могулами и индусами во время и по случаю религиозных празднеств у первых.
Сеид М. заезжал к нам каждый день и обыкновенно тотчас же заводил беседу о «болячках» Индии, как он их называл, и по целым часам бывало спорили – С. отстаивая англичан, М. доказывая угнетенное положение туземцев, несправедливость к ним англо-индийского общества и невыносимое высокомерие британцев в Индии. Раз у них зашел спор горячее обыкновенного по поводу только что вышедших в Калькутте новых гражданских служебных постановлений. М. спрашивал, почему, например, из двух чиновников, англичанина и туземца, и совершенно равных чинах и занимающих совершенно одинаковые должности (окружного судьи, например), англичанин получает на 35, а иногда с разными натяжками и на 60 процентов более годового оклада, нежели полагается на той же должности туземцу? Первому выдаются для летней кочевки экстренные суммы, так называемые «лагерные», каждый год «вспомогательные», а туземцу ничего, кроме жалованья? «И ведь все это из денег Индии (добавил он), т. е. из кровавого пота несчастной дойной коровы англичан, коровы, уже до того передоенной, что следует только удивляться, как у нее до сих пор не отвалилось вымя»…
Припертый таким образом к стене, С., блестящий писатель и такой же оратор, знакомый с политическим направлением калькуттского кабинета как с собственным карманом, не нашелся чт на это ответить и сказал парадоксальную глупость: «Не забудем (пробормотал он), что мы в этой стране изгнанники; что вы, индийцы, по вашему же собственному сознанию, нуждаетесь в нас, и что было бы несправедливо заставлять нас служить вашей стране без хорошего вознаграждения. Вы, туземцы, обязаны платить нам: наши нужды, наконец, более ваших»…
У М. от изумления даже опустились руки.
– «Изгнанники»?… – воскликнул он наконец. – Вы изгнанники? Да кто же вас просил приезжать сюда из-за морей спасать нас! Неужели…
Но он не докончил!.. Под перекрестным огнем наших изумленных взглядов, при этой комической выходке, сам С. расхохотался над самим собою… Он видимо старался замять этот щекотливо-политический разговор. Но М. не унимался; очевидно, у него сильно накипело на сердце, и он через несколько минут снова повел атаку.
– Вот, – заметил он, – мы с вами старые друзья, и вы принимаете меня как равного. Но ведь это не потом, что мои прадеды были в продолжение стольких веков первыми сановниками могульской империи, или что мы ведем свой род от дочери Магомета… А просто оттого, что я в Англии сделался более или менее похожим на джентльмена, что я ношу черный фрак и, при случае, даже палевые перчатки. Иначе и в туземном костюме, хотя он красивее ваших черных мешков, вы стыдились бы принимать меня, тем более сажать за свой стол.
И на горячий протест хозяев он прибавил:
– Не спорьте, С.; а главное не отвечайте за других, так как я вам сейчас же докажу, что вы неправы и что есть между вами лица, в глазах которых даже мой черный фрак не спасает меня. Вчера, например, леди К. не приняла моего визита. Это бы еще ничего. Но знаете ли, что она приказала сказать мне через секретаря ее супруга? Фраза знаменательная, уже облетевшая весь город и обрисовывающая в нескольких штрихах наше политическое и социальное положение. Она приказала мне передать свое «удивление»… Я должен был знать, что лорд К., ее высокородный супруг и мой начальник, три дня тому назад уехал из города, а что «жены» сановников ни в Англии, ни в Индии не имеют обыкновения принимать визиты «по службе». Иными словами, что ей и в голову не могло придти, чтобы туземец «осмелился» сделать английскому семейству визит наравне с другими смертными, кроме разве по служебным обязанностям.
– Леди К. этим показала только свою природную глупость, – вспыхнула мистрис С. – Никто, кроме нее, не сделал бы вам подобной дерзости.
– Совсем нет, – отвечал, по-видимому, спокойно мусульманин. – Делали мне весьма часто и другие ваши дамы, и даже их мужья, мои собственные сослуживцы, такие же ничем не вызванные дерзости. – И он назвал несколько имен. – А если я, в моем исключительном для туземца положении, подвержен таковым, то чего же приходится ожидать другим, менее фаворизованным судьбой и правительством туземцам?
Он сидел, нагнувшись над чашкой, и говорил тихо, по-видимому, сохраняя полное хладнокровие. Только ложечка, которою он машинально постукивал о блюдечко, слегка дрожала в его руке, да черные глаза налились кровью и пылали…
– За Англию, которая меня воспитала, – продолжал он тем же тоном, – за правительство, которому я присягал в верности и которому служу, я готов отдать, ради моей же возлюбленной Индии, жизнь. Мы, как народ, неспособны теперь управлять страной без чужой помощи, это я знаю, хотя худо ли, хорошо ли, а управляли ею веками, и страна была богаче и счастливее. Но я сознаю, что теперь, за последнее столетие, мы выродились и что помощь Англии нам необходима. Но если я присягал в верности правительству, то не делал еще ничего подобного в отношении к обществу и частным лицам… и я ненавижу их!.. Попомните мои слова: если Англии когда-нибудь снова придется бороться с мятежом, то этому виной будет единственно английское же общество; и случится это вследствие до бешенства доводящего туземцев презрительного высокомерия посылаемых сюда ваших чиновников. Нам все твердят о тирании и деспотизме России, нас пугают жестокостью ее правительства. Да знаете ли вы, чт на это отвечают хоть бы наши мусульмане, потомки султанов, сердарей, героев и величайших государственных людей прошлых веков? Они говорят следующее: да, быть может, администраторы России и жестоки и ее правительству не сравниться с «благодушным» правительством ее величества императрицы Индии. Но когда мы читаем и слышим со всех сторон, что в России такой-то генерал – мусульманин, другой – армянин и, несмотря на это, главнокомандующий целой армией, между тем как у нас последний английский солдат скорее дезертирует, нежели согласится повиноваться и признать начальником туземца, будь последний хоть принц крови, то, сравнивая нашу горькую участь с судьбой и надеждами каждого верного России иноверца и иноплеменника, у нас невольно шевелится на душе вопрос: чем же это мы одни заслужили подобные унижения? Почему это только нас одних держат в черном теле? И, в безмолвном отчаянии, сознавая всю безвыходность нашего положения, нельзя нам подчас и не позавидовать положению нашего брата мусульманина – в так называемой вами деспотической России!..
Второй пример. Семейство одного известного и очень ученого доктора медицины в Бомбее, уроженца Гоа, по фамилии португальца. Уже более трех поколений они христиане католики, но прадеды как мужа, так и жены были чистокровными высокорожденными браминами. И муж, и жена воспитывались за границей и получили превосходное образование. Муж – кавалер нескольких почетных орденов, член многих ученых обществ и находится на хорошем счету в Азиатском Королевском Обществе. Жена – молодая двадцатилетняя женщина, превосходно образованная, обладает восхитительным голосом. Ни тот, ни другая в обществе не приняты. На их музыкальных вечерах по вторникам, кроме нескольких журналистов из европейской богемы, не найдется ни одного лавочника-англичанина; из дам положительно ни одной. «Помилуйте», завопят либеральные барыни и барышни, юность которых, быть может, протекла в какой-нибудь задней лавке Оксфордской улицы, «помилуйте! Кто же водит знакомство с подобными неграми?»…
Чем-то странным, чудовищно невероятным покажется все это нашим русским читателям.
Ради яснейшего понятия о туземцах Индии, мы здесь распространились об этом вопросе, быть может, более, нежели следовало; как бы то ни было, но злополучные индусы, ввиду всего этого, предпочитают временное унижение и все страдания «очищения», как физические, так и нравственные, подобной перспективе общего презрения до самой смерти.
Множество подобных вопросов занимало нас в продолжение тех двух часов, которые нам пришлось высидеть до обеда с браминами. Это, как казалось с первого взгляда, опасное, почти невозможное отступление от предписаний Ману – обед с иностранцами и людьми других каст – объяснялось на этот раз просто. Во-первых, толстый патель был главою своей касты, поэтому не боялся отлучения; во-вторых, он заранее принял все предосторожности и предписанные законом меры, дабы не оскверниться нашим присутствием; а в-третьих, либерал в душе и приятель Гулаб Лалл Синга, он обещал ему показать нашему обществу на деле, сколько софизма и тонких уловок придумано хитрыми браминами, дабы, сохраняя на вид мертвую букву закона, в то же время ловко вывертываться при экстренных случаях из-под его железной руки.
Таковы были, во всяком случае, объяснения нашего бабу в ответ на выраженное нами удивление. Нам оставалось, стало быть, только возрадоваться редкому случаю и не упустить оного. Кто раз был допущен не только разделить, но даже присутствовать при обеде брамина, тот становится как бы священным в его глазах. Не только сам хозяин, но даже все члены касты его взирают на такого счастливца как бы на принадлежащего по крайней мере de jure к их касте. Но зато как редки, почти невозможны такие случаи!..
XV
Индусы едят всего два раза и день (мы говорим о богатых), утром в десять и вечером в девять часов; оба раза трапеза сопровождается сложными обрядами и церемониями. В остальное время дня никто, даже дети не едят ничего, так как есть без предписываемых религий заклинаний считается грехом. Тысячи образованных индусов давно перестали верить в эти суеверные обряды – остатки глубокой старины, но, невзирая на это, обязаны подчиняться им.
Наш хозяин Шамра Бахунатджи принадлежал к древней касте «Патарских Прабху» (Ptres Prabbhus) и весьма гордился своим происхождением. Прабху (т. е. лорды, господа) – потомки кшатриев (воинов), родоначальником коих был Ашвапати (700 лет до Р. Х.), происходивший по прямой линии от Рамы и Притту, которые, по местной хронологии, управляли Индией в двапара и трета югах.[89] Для них одних брамины обязаны исполнять чисто-ведические обряды, известные под названием «обрядов кшатриев» Теперь их зовут патанами вместо патаров (т. е. «падшие»), и этим несчастием они также обязаны родоначальнику своему царю Ашвапати. Раз, раздавая милостыню святым отшельникам, он нечаянно обошел великого Бригу. Оскорбленный этим, пророк и ясновидец проклял его, пригрозив, что его царствованию скоро придет конец, а все потомство погибнет. Тогда царь, бросившись к его ногам, стал умолять о прощении. Бригу наконец согласился простить его, но проклятие святого уже пустило корни, и все, что он сам мог сделать для поправления дела, было не допустить его род до окончательной погибели. Вследствие этого патары вскоре потеряли престол и даже всякую власть. С тех пор им приходилось жить «пером» и службой разным правительствам, переменить имя патаров на патанов (падших) и жить беднее, нежели многие из миллионов бывших их подданных. К счастью, еще прадеды нашего словоохотливого амфитриона перешли в брахманство, т. е. пролезли через золотую корову…
Выражение «жить пером», как мы узнали, относилось к тому, что со времени английского владычества почти все должности писарей и мелких чиновников в бомбейском президентстве заняты патанами, как в северо-западных провинциях их занимают бенгалийские бабу. В одном Бомбее их насчитывают до 5000. Они смуглее конканских браминов, но зато и гораздо красивее и умнее. А таинственное выражение «пролезать через золотую корову» означало следующее: в исключительных случаях и при готовности затратить большую сумму денег, не только кшатрии, но даже презренные шудры могут преобразоваться, так сказать, в «побочных» браминов. Настоящие брамины, от которых исключительно зависит эта метаморфоза, заставляют их покупать это право за несколько сот, а иногда и тысяч коров. Затем, вылив из чистого золота корову, которая освящается при разных мистических церемониях, кандидата заставляют пролезать три раза через ее пустое отверстие, и тогда подвергшийся такому искусу тотчас же перерождается в брамина. Нынешний траванкорский махараджа и даже великий, недавно умерший махараджа Бенареса – оба шудры и некогда купили себе подобным образом желаемое право.
Все эти сведения как исторически-легендарная хроника о патарах были переданы нам с большою любезностью нашим хозяином. Попросив нас готовиться к ужину и обещав вернуться за вами через полчаса, почтенный Шамрао исчез, уводя с собою и наших кавалеров. Оставшись одни и пользуясь отсутствием мужчин, мисс Б*** и я отправились рассматривать пустой, как нам казалось, дом, захватив с собою одного лишь простоволосого бабу для объяснений. Бабу, как истый, современный бенгалиец, презирал религиозные приготовления к столу и поэтому находил лишним «готовиться». Он пошел с нами.
«Прабху», если их несколько братьев, все живут в одном бунгало, и у каждого женатого брата непременно своя особенная комната (если не отдельное помещение во дворе) и свой слуга. Дом нашего хозяина был обширный, окруженный меньшими пристройками, занимаемыми его братьями, тогда как главное здание служило для гостей и заключало в себе общую столовую, молельню или кумирню, комнату для родильниц, другую для покойников и т. д. Как и все туземные бунгало, весь нижний этаж был окружен верандой (крытою галереей), с которой входы с арками и без дверей вели в большую, занимавшую весь нижний этаж залу. Вокруг этой комнаты, со всех ее четырех сторон шли деревянные с великолепной резьбой колонны, поддерживавшие потолок верхнего этажа и заменявшие в этом случае стены. Мне почему-то показалось, что эти колонны когда-то должны были украшать один из дворцов «мертвого города». Резьба была совсем не индусского характера, и вместо богов, баснословных чудовищ и зверей, колонны были покрыты арабесками с изящно вырезанными цветами и листьями. Колонны постановлены вблизи одна от другой, но рельефная работа не дозволяла им, однако, составлять одну сплошную стену, вследствие чего вентиляция оказывалась немного форсированною: во время нашего сидения посреди столовой нас продувал из-за каждой колонны сильный сквозной ветер и со всех четырех сторон жужжали миниатюрные ураганы, будя все уснувшие было в климате Индии ревматизмы и зубную боль. Весь фасад дома был покрыт прибитыми к стенам и над окнами железными подковами – вернейшее средство против злых духов и от глазу. К правой стороне фасада была прилеплена пристройка – высокая комната, называемая «озри»; из этой «озри» во всех туземных домах ведет наверх (резной работы, как и все прочее) лестница, у подножия которой на большой висячей без ножек кровати, спускающейся с потолка на железных цепях, лежал в натуральную величину идол, которого я сперва приняли за спящего индуса и даже приготовилась было ретироваться. Узнав, однако, нашего старого друга Ханумана, я расхрабрилась и стала его рассматривать… Увы! от когда-то целого бога оставалась одна лишь голова; остальное, долженствовавшее представлять тело, оказалось старыми тряпками… Налево от веранды находился еще ряд пристроенных комнат; каждая из них имела особенное назначение. Комната для прекрасного пола, который хотя и не обязан прятаться под вуалью, как мусульманки, и проводить жизнь в гаремах, имеет однако весьма мало общения с мужчинами и держится совершенно особняком. Здесь женщины только приготовляют пищу для мужчин, но не обедают вместе с ними; они часто пользуются уважением и даже иногда робкою почтительностью со стороны мужа, но тем не менее не осмелятся с ним заговорить не только при постороннем лице, но даже при его сестрах и матери. Что же касается вдовы в Индии, то это самое несчастное существо в мире. Как только умирает муж, ей сбривают волосы и брови навсегда. Все ее украшения снимаются: и серьги из ушей, и кольца из носу, браслеты с рук и ног, и перстни со всех двадцати пальцев. Она буквально умирает для своего семейства как и для света, и даже «мэнг» не женится на ней, так как самое легкое к ней прикосновение оскверняет мужчину и он должен тут же бежать «очищаться». На ее долю выпадает самая черная работа в доме, и ей не позволяется есть вместе с замужними женщинами или детьми. Самосожжение вдов («сутти») запрещено, но брамины взяли свое: все вдовы жалеют о костре.
Наконец, осмотрев последнюю комнату – святилище индусов – «кумирню», наполненную идолами, перед которыми стояли цветы, горели лампады, свечи и курился фимиам в богатой бронзовой вазе, а пол был густо усеян тульси и другими ароматическими травами, мы отправились одеваться. После умывания нас заставили снять обувь: таков обычай, и нам оставалось лишь подчиниться или отказаться от браминского ужина. Но нас ожидал еще более неожиданный сюрприз. Войдя в столовую, мы просто остолбенели: оба наши европейские кавалера были одеты – или скорее раздеты – индусами!
Из приличия на них оставили нечто вроде безрукавных фуфаек; они были босы, с обмотанными вокруг бедер снежной белизны дотти и представляли нечто среднее между белыми индусами и константинопольскими garons de bains.[90] Оба были невыразимо смешны, и я не знаю ничего уморительнее европейца в подобном костюме. К великому смущению мужчин и, как полагаю, скандалу серьезных хозяек, я расхохоталась на весь дом. Сорокапятилетняя мисс Б*** старалась покраснеть, но тут же последовала моему примеру. Худшее совершилось; посмотрим, что далее…
Церемонии и обряды, о которых только что шла речь, достигают у индусов полного апогея пред каждым обедом и ужином. За четверть часа до того как садиться за еду, каждый индус от мала до велика обязан совершить пуджу пред богами. Он не переменяет белья, но снимает даже то малое, чем прикрывается во время дня. Выкупавшись у колодца, то есть умыв себе руки, ноги и лицо, он распускает длинную прядь волос на макушке бритой головы и остается простоволосым;[91] обедать одетым или с покрытою головой считается у индусов грехом. Обмотав бедра белой шелковой дотти (шелк обладает свойством отгонять злых духов, обитающих в магнетических токах атмосферы, говорит Мантра, книга V, стих 23), они идут поклониться идолам и затем уже садятся за трапезу.
Засим, позволю себе еще раз сделать маленько отступление, хотя бы ради невольно являющегося вопроса: не таится ли за этим кажущимся суеверием о духах и шелке чего-либо более глубокого. Уже давно, хотя изредка и с видимым нежеланием расстаться с излюбленной учеными идеей, что все обычаи древности и язычества основаны де на одном лишь невежестве и грубом суеверии, – уже давно, говорю я, стали открывать, что некоторые из этих обычаев, казавшихся столь нелепыми с первого взгляда, возникли из чисто научного принципа. Почему же не предположить скорее, что древние ввели подобный обычай, хорошо зная свойства и благодетельное влияние электричества в соприкосновении с голым телом человека на органы пищеварения? Те, которые изучали древнюю философию Индии с твердым намерением проникнуть в тайный смысл ее афоризмов, в большинстве случаев убедились, что с самых древних времен свойства электричества были в значительной доле известны таким философам, как, например, Патанжали. Чарака и Шушрут изложили систему Гиппократа еще за несколько веков до того, кого на Западе так долго называли «отцом медицины». Исчисления Сурьи-Сидхенты, доказывающие, что он знал и исчислил силу паров, века тому назад, неизгладимо начертаны на камне, что хранится в Бадринатском храме Вишну. Древние индусы первые вычислили скорость света и определили законы, которым он следует в своем отражении; а Пифагорова таблица и его знаменитая теорема о свойстве квадрата гипотенузы находятся в древних книгах Джиотиши (Geotish). Еще недавно западные математики указывали на Гиппарха Никейского как на отца тригонометрии, хотя все, чт они когда-либо могли узнать о нем, почерпнуто ими со слов его же ученика Птоломея; а теперь здесь найдена древняя рукопись, доказывающая, что «уравнение центра» (quation du centre) было известно индусам задолго до Р. Х.
Все это дозволяет нам предполагать, что древние арийцы, устанавливая этот странный обычай носить во время еды шелковые «дотти», имели в виду нечто серьезнее, нежели отвод от «демонов». Хотя странно, что даже в наш просвещенный век есть ученые доктора-спиритуалисты, которые (как д-р Евгений Кроуэл, в Нью-Йорке) пишут целые ученые диссертации, доказывая, что так называемым «медиумам» одно спасение от злых духов-кикимор – носить на голове и груди плотно завязанные шелковые платки, и хотя почтенный Кроуэл еще не совсем ясно доказал ученому миру, что кикиморы вообще (американские в особенности) дрожат пред произведением шелковичных червей, зато он совершенно ясно и логично объясняет роль шелковой материи в отношении к электричеству. А поэтому…
За нами явился хозяин, и мы отправились в столовую.
Войдя в «трапезную», мы тотчас же увидали, в чем состоят предохранительные меры индусов от осквернения. Каменный пол залы был разделен на две равные половины чертой, нарисованной мелом со странными кабалистическими знаками по концам. Одна половина предназначалась для хозяев и однокастников, другая – для нас. В стороне находился еще третий квадрат для наших туземных спутников другой касты. За исключением этого легкого барьера, обе половины были одинаковы. Вдоль двух противоположных стен узкие ковры с подушками и низенькими скамеечками для сидений, по числу ужинавших; а пред каждым сидением на голом полу продолговатый квадрат, разделенный как шахматная доска на меньшие квадратики, – тоже мелом, – предназначаемые для различных блюд и тарелок. Последние заменялись толстыми и крепкими листьями ост-индского дерева «тика» (Butea frondosa): большие блюда – из нескольких листьев, сколотых вместе шипами, блюдечки – из одного закругленного по бокам листа. Весь ужин был налицо и стоял пред каждою скамейкой; мы сосчитали сорок восемь таких блюдечек из малых листьев, на которых лежало по глотку яств – сорока восьми сортов! Все эти кушанья являлись нам материалом из terra incognita, некоторые оказались чрезвычайно вкусными, а ужин состоял из строго растительной пищи; говядина, птицы, яйца, рыба были изгнаны из этого menu. Тут были и чатни, маринованные в меду и уксусе, фрукты и овощи; и панчамрит – смесь из пампелло (ягоды), тамаринда, кокосового молока, патоки и прованского масла; и кушмер из редисок, меда и муки; и прожигающие насквозь рот пикули, и пряности, и т. д. Все это довершалось горою великолепно изготовленного риса и другою горой чапати – лепешек вроде грузинских «чуреков». Блюдца стояли в четыре ряда, по 12 в ряд, а между каждым рядом дымилось по три курительных ароматных палочки, величиной с копеечную церковную свечу. Вдоль всего нашего отделения ярко горели красные и зеленые свечи в семи огромных, странной формы канделябрах, представляющих каждый семиглавую кобру, обвившую хвостом древесный пень и поднимающую во все стороны головы. Из семи ртов ее подымались семь тонких, завитых штопором красных и зеленых восковых свечей. Дующий из-за всех колонн сквозной ветер развевал во все стороны желтое пламя, наполняя нашу высокую трапезную фантастически прыгающими тенями и заставляя сильно чихать наших «легко одетых» господ. Оставляя темные силуэты индусов еще более в тени, этот неверный свет тем резче выбрасывал ярким белым пятном этих двух европейцев, как бы дразня и глумясь над ними…
Один за другим входили родственники и однокастники хозяев. Все они были нагими до пояса, со священным «тройным» шнурком браминов через плечо, босые, с распущенными волосами и все в белых шелковых «дотти». За каждым «саабом» шел слуга, несший его чашку, два серебряные или даже золотые рукомойника и полотенце. Все они, поклонившись хозяину, подходили к нам поочередно и, сложив вместе ладони, прикладывали руки ко лбу, к груди и наконец, нагибаясь, дотрагивались ими до земли, проговорив: Рам-Рам и намасте.[92] Затем они, поджав ноги, молча садились на свои места, напоминая мне, что этот древний обычай приветствовать друг друга вдвойне произносимым именем прародителя существует с доисторических времен.
Когда мы все разместились, индусы, спокойные и величавые, как бы собираясь совершать таинство, мы, чувствуя себя не совсем ловко, не зная чт делать с собою далее и боясь совершить, в невинности души, какую-нибудь глупость и тем оскорбить хозяев, вдруг раздалось из темного угла тихое пение нескольких женских голосов. Полдюжины «научей» (певиц и танцовщиц пагод) затянули в унисон гимны и восхваления богам. Тогда под этот шумок, проголодавшиеся и усталые, мы принялись за рис, который, по научению и благодаря бабу, мы принялись есть правою рукой, так как иначе, если бы мы стали есть его левою, то разом привлекли бы на пир целую стаю ракшасов (демонов) и выгнали бы в ужасе всех туземцев. О ножах, вилках и ложках не было, конечно, и помину. Страшась провиниться невольно и по рассеянности, я всунула левую руку в карман, крепко держась во все остальное время пиршества за носовой платок…
За исключением тихого пения, продолжавшегося всего несколько минут, пиршество оказалось из самых молчаливых. Был понедельник – день постный, и правило гробового молчания за пищей соблюдалось у них в тот день еще строже. Обыкновенно, когда при случаях неизбежной необходимости случится кому проговорить хоть одно слово, то он спешит, омочив средний палец дотоле спрятанной за спиною левой руки в воду, увлажнить себе оным оба века. Но действительно набожный человек не удовольствуется таким очищением: прервав молчание, он обязан тотчас же встать, умыться и уже в тот день не дотрагиваться до пищи.
Благодаря подобному гробовому молчанию, мне представлялась возможность наблюдать за всем происходившим с величайшим вниманием. Несколько раз, впрочем, взглянув на полковника и мистера У***, уплетавших рис пригоршнями, мне стоило величайших усилий, чтоб опять не расхохотаться. Мной невольно овладевал неудержимый смех. Оба сидели с невозмутимою важностью и неловко работали и локтями и руками. Но я счастливо удержалась и устремила все свое внимание на необычайную процедуру индусов. Постараюсь описать любопытные детали их манеры обедать и ужинать.
Каждый из них, усевшись с поджатыми под себя ногами и держа в левой руке принесенный слугою кувшин, налвал себе из него воды сперва в чашку, а затем в горсть правой руки. Потом он медленно и долго кропил из нее вокруг стоявшего отдельно от других кушаний листа с яствами (как мы узнали, для богов и духов) и во все время этой церемонии напевал «мантру» из Вед. Набрав после этого в правую пригоршню рису, он повторял несколько других двустиший с припевом и, отложив пять щепоток на правую сторону своей тарелки, снова умывал руки (от глазу), снова кропил водой вокруг этой тарелки и, налив окончательно несколько капель в горсть правой руки, выпивал ее. Потом проглатывал другие шесть щепоток рису, одну за другою, бормоча все время молитвы и, обмакнув в чашку с водой средней палец левой руки, дотрагивался им до обоих глаз. В заключении он прятал левую руку за спину и тогда только начинал свой ужин правой. Все это совершалось в несколько секунд, но с большою торжественностью. Ели индусы, наклонясь всем туловищем вперед и подбрасывая рукой пищу в рот с ловкостью японских жонглеров, не проронив ни одного зернышка, не пролив ни единой капельки из разных жидкостей. Из уважения к хозяевам и, вероятно, желая оказать этим честь Индии, наш полковник видимо старался подражать им в каждом движении. Он также было наклонился далеко вперед всем туловищем, но, увы! – почтенное брюшко оказалось серьезною помехой. Потеряв равновесие, он чуть было не повалился со своей скамеечки лицом прямо в яства, счастливо отделавшись на этот раз одними очками, которые полетели в кислое молоко с чесноком. После такого несчастного опыта храбрый американец разом отказался от дальнейших попыток «индуизироваться» и успокоился.
Все кончили ужин по обыкновению рисом, приправленным сахаром, толченым горохом, оливковым маслом, чесноком и гранатами. Это последнее лакомое блюдо они едят поспешно, нервно, поглядывая на соседей и как бы вперегонки. Каждый из них смертельно боится опоздать и кончить после другого, так как это чрезвычайно дурная примета. Пред самым концом они снова забирают воды в горсть и, пошептав над нею заклинания, проглатывают ее залпом. Горе тому, кто поперхнется при этом! Ему залез в горло бхут (демон, дух умершего) и он должен бежать очищаться пред алтарем. Эти злые духи людей, умерших с неудовлетворенными желаниями и земными страстями в полном их разгаре (других беспокойных покойников они не признают), сильно тревожат бедных индусов. Индийские духи, если верить показаниям всех и каждого, толкутся вокруг смертных. Их боятся и проклинают на всю Индию, не пренебрегая никакими средствами, дабы отвязаться от них и успокоить расходившихся бхутов. Понятия, идеи и выводы индусов диаметрально противоречат аспирациям[93] и надеждам западных спиритов. «Добрый и чистый дух, говорят они, на землю уж душу свою не пустит, коли та душа была также чиста. Он рад умереть и соединить свой дух (атма) с Брахмой, жить на сварге (небесах) жизнью вечной и брататься с прелестными гандхарвами (поющие ангелы или херувимы), под небесную песнь коих он дремлет целые вечности, в то время как душа (джива) продолжает очищаться от земной грязи в теле более чистом и более совершенном, чем только что оставленное ею».[94] Но не то ждет злые души. Душа, не успевшая до смерти тела совершенно очиститься от земных помышлений, невольно отяжелеет под бременем грехов и вместо того, чтобы, следуя законам метемпсихоза, тотчас же воплотиться в другую форму, она остается бесплотною, осужденная бродить на земле. Она делается бхутом и, страдая сама, причиняет иногда невыразимые мучения своим же родственникам. Вот почему индус боится более всего на свете остаться бесплотным после смерти.
– Лучше перейти по смерти в тело тигра, собаки, даже желтоногого ястреба, – говорил мне недавно один старый индус, – нежели сделаться бхутом! Каждый зверь, какой бы он ни был, имеет свое собственное законное тело и право честно им пользоваться. А бхуты навек обреченные дакоиты, разбойники, воры, вечно настороже, как бы поживиться чужим добром. Это самое ужасное, невообразимо страшное состояние; это и есть ад по нашим понятиям. Что это за спиритизм такой на Западе? Неужели умные и образованные англичане и американцы сошли совершенно с ума?
И он так и не поверил, чтобы могли быть довольно безумные люди, чтобы любить бхутов и даже приглашать их к себе на землю.
После ужина мужчины все отправились во двор, к колодцу, и, умывшись, снова оделись. Обыкновенно они к ночи надевают чистые малмалы, род узких, длинных блуз, из тонкого жаконета, тюрбаны и деревянные сандалии с пуговкой, которую они захватывают между пальцами ноги, но оставляют обувь всегда у дверей дома. Вернувшись в приемную, они рассаживаются возле стены на коврах и подушках, жуют бетель, курят трубки или индийские сигары и слушают священное чтение или смотрят на танцы «научей».
Это в обыкновенные дни. В этот же вечер (вероятно, в нашу честь) все оделись очень богато. На многих были дарии – из богатой атласной полосатой материи, и по несколько золотых браслетов, золотые, украшенные бриллиантами и изумрудами колье, золотые часы, цепочки и белые, тонкие, как дымки, с золотыми полосами джанви – браминские шарфы через плечо. Толстые пальцы нашего хозяина и правое ухо так и сияли бриллиантами.
Прислуживавшие нам женщины – хозяйки, исчезнувшие тотчас после ужина, вернулись к нам через полчаса разодетые и были теперь формально нам представлены. Их было пять: хозяйка, жена толстяка, женщина лет двадцати шести или семи; две женщины помоложе, из которых одна, к нашему удивлению, оказалась ее дочерью, с ребенком на руках; старуха – мать хозяина, наконец, жена брата его, семилетняя девочка. Таким образом хозяйка оказалась бабушкой, а девочка, которая должна была поступить в полное владение мужа года через два, много три, могла, в свою очередь, сделаться матерью задолго до двенадцати лет. Все они были босые, с перстнями на пальцах ног, и все, кроме старухи, носили гирлянды на шее и венки из натуральных цветов вокруг черных, как вороново крыло, кос. Их костюмы состояли из плотно облегающих шею и грудь вышитых золотом коротких корсажей (чали). Надетые на голое тело, они не доходили на целую четверть до сари – юбки-покрывала (если можно назвать юбкой эти короткие штаны, верхняя часть которых служит покрывалом для головы и вместе мантильей) и храбро открывали смуглый, блестящий при огне, словно вылитый из бронзы, стан красивых женщин. Их прекрасные руки были покрыты выше локтей дорогими браслетами, также как и щиколотки ног. При малейшем движении они звякали, а маленькая невестка, похожая на большую куклу на пружинах, еле могла двигаться под их тяжестью. У молодой хозяйки, «бабушки», носовое кольцо, продернутое через левую ноздрю, опускалось ниже подбородка и оттягивало нос. Только когда она сняла его, чтоб удобнее пить чай, мы рассмотрели всю ее удивительную красоту.
Начались танцы «научей», из коих две были очень красивы. Пляска состояла из более или менее выразительной мимики. Ноги же семенили на одном месте, почти не двигаясь, или же двигаясь так быстро, что исчезали в тумане…
Я заснула сном праведных.
XVI
Приятно после стольких проведенных на голом полу палатки ночей выспаться на кровати, хотя бы и висячей, – особенно когда это сопровождается сознанием, что спишь на ложе «бога». Последнее обстоятельство, впрочем, было мною открыто только поутру, когда, сходя с лестницы, я нашла, что божественного генерал-аншефа (Ханумана) лишили висячего трона, а его самого, вместе с тряпичным телом, бросили под лестницу… Положительно, индусы XIX столетия вырождаются и кощунствуют!
Оказалось, что, за исключением старого дивана, это была единственная кровать в доме. Наши два кавалера провели ночь хуже нас: они оба спали в старой пустой башне, бывшей гопаром (алтарь) древней разрушенной пагоды за домом, куда их положили с благим намерением спасти от шакалов, забирающихся по ночам во все нижние этажи, где вместо окон и дверей существуют одни отверстия. Кроме неизменного ночного концерта, шакалы на этот раз не беспокоили их своим присутствием. Зато мистеру У*** и полковнику пришлось воевать целую ночь с неотвязным вампиром, который оказался не только летучею мышью, но и «духом», как они это позднее узнали к своему горю. Вот как это случилось:
Безо всякого шума влетал в башню вампир и, помахав своими холодными, липкими крыльями, садился то на одного, то на другого из спящих, очевидно, решившись полакомиться европейскою кровью. Раз десять они просыпались и прогоняли его, но каждый раз безуспешно; только что они было соберутся задремать, как снова почувствуют его легкое, почти неслышное прикосновение на плечах, ногах, груди. Наконец У*** изловчился: он поймал его за крыло и свернул ему шею…
К утру, похвалясь в невинности души этим подвигом пред хозяином дома, они, казалось, навлекли на себя все громы небесные. Двор был полон народа, а пред дверьми башни стояли, понурив голову, все домашние: старуха-мать рвала на себе волосы и запевала, приговаривая и причитывая что-то на всех языцех Индии. Что же такое случилось? Происшествие ужасное, узнав о котором мы пришли в величайшее смущение: по особенным известным только одному домашнему брамину приметам, в этого кровожадного вампира, со дня своей смерти, переселился старший брат хозяина, а неистовствовавшей старухи – сын. Уж девять лет как покойник жил под этим новым видом, отбывая все повинности метемпсихоза. Днем, зацепясь когтями за ветку старого пипала, чт пред башней (испокон века жилище духов), и, повиснув головою вниз, он проводил в глубоком сне часы между восходом и заходом солнца; ночью посещал старую башню, где ловил забравшихся туда на ночной покой насекомых. И так жил этот вампир, отмаливая потихоньку старые грехи, совершенные им, когда он был еще прабхуским «патаном». А теперь? Его бездыханное тело валялось у входа в башню, и одно крыло уже отгрызли крысы… Старуха заливалась слезами, бросая яростные взгляды из-под покрывала своей бритой головы на У***, который, в качестве убийцы, имел вид отвратительно равнодушный.
Но дело запутывалось и становилось трагическим. Весь комизм его исчезал пред искренностью ее неподдельного горя. Толпа стояла вокруг; молчаливая и серьезная, очевидно, не смея высказать свои настоящие чувства английским «саабам», но поглядывая на нас не особенно приветливо исподлобья. Возле старухи стоял семейный жрец и астролог, с книгой Шастр под мышкой и с жезлом в руке, приготовляясь начать над башней церемонию очищения. Он уже распорядился покрыть куском новой холстины полуобъеденный, облепленный муравьями труп отвратительного вампира, лежавшего пред ним с широко распростертыми крыльями…
У*** по-прежнему стоял, хладнокровно посвистывая и с заложенными в оба кармана руками. Подошедшая мисс Б***, не стесняясь присутствием хорошо говорившего по-английски хозяина, громко ораторствовала (совершенно l'anglaise[95]) о грубом, невежественном суеверии этой «падшей расы». У*** не отвечал, но весьма презрительно улыбался. Тогда наш хозяин с низким «саламом» подошел к полковнику и учтиво попросил его вместе со мною на «несколько минут разговора»…
«Ну, подумалось мне, выгонят!..»
Но мы, как видно, не измерили еще сердца индусов до полной их метафизической глубины.
Он начал с того, что сочинил экспромтом весьма кудрявое вступление. В нем напоминалось, что он, хозяин, человек образованный, получивший западное воспитание. Вследствие этого он-де не совершенно еще уверен в том, что в теле вампира действительно обретался дух покойного брата. Дарвин и другие великие натуралисты Запада, однако, как бы сами верят в переселение душ, но, как он понимает, в обратном смысле; то есть родись у него в минуту несчастной смерти вампира сын, то, по самым последним научным соображениям, в этом сыне, вследствие разлагающихся по близости атомов вампира, явилось бы, по всей вероятности, много вампировского. «Так ли он понял Дарвина и его школу?» спрашивал он нас.
Мы скромно отвечали, что вследствие беспрерывных путешествий за последний год мы немного отстали от современной науки и о таковом ее последнем заключении еще не слыхивали.
– А я следил за нею, – немного напыщенно произнес добродушный Шамра, – и поэтому полагаю, что вполне понял и оценил ее последние выводы. Я даже только что кончил превосходную «Антропогению» Геккеля и много думал над его логическим, научным объяснением об образовании человека из более низших животных форм путем трансформации. А чт такое трансформация как не трансмиграция древних и современных индусов – метемпсихоз греков?
Мы ничего не нашли сказать против тождества и даже заметили, что по Геккелю оно действительно как бы выходит так.
– Ну вот видите ли! – воскликнул он обрадовавшись. – Стало быть, наши воззрения не так глупы и суеверны, как об этом пишут и говорят некоторые противники Ману. Великий Ману, между тем, предупредил и Дарвина, и Геккеля. Судите сами: последний ведет генеалогию или генезис человека от группы «пластидов», от слизистого монера; этот «монер» через амебу, а затем зинамебия, асцидии и, наконец, безголового и бессердечного амфиокса, на восьмой стадии трансмигрирует в миногу – превращается, наконец, в позвоночного амниота, в промамалии, сумчатое животное, а к отделу позвоночных принадлежит и вампир… Вы, конечно, как люди образованные, против этого спорить не станете?
Мы и не спорили.
– Так прошу вас, следите за мной…
Мы, без сомнения, следили с большим вниманием, только уж решительно не понимали, куда он нас заводит.
– Дарвин, – продолжал он, – ведет свое учение о происхождении видов, следуя почти слово в слово «палингенетическому» учению нашего Ману. В этом я вполне убедился и готов это доказать с книгами в руках. Древний законодатель говорит, например, вкратце следующее: «Великий Парабрахма повелел, дабы от зародившегося в тине глубоких морей червя земного, пройдя через все стадии животного творения, явился в мире, наконец, человек. Червь сделался змием, змий рыбой, рыба преобразовалась во млекопитающее и т. д.». Не эта ли самая основная идея заключается в дарвиновской теории происхождения органических форм посредством постепенного перехода из простейших видов в более сложные, из бесструктурной протоплазмы в тине силурийского и лаврентийского периода (тина морей Ману) в антропоида, а затем в человека?…
Мы согласились, что действительно представлялось такое сходство.
– Но, несмотря на все мое искреннее уважение к Дарвину и его последователю Геккелю, я не могу с ними согласиться в их окончательных заключениях, особенно с выводами последнего, – продолжал ораторствовать Шамра. – Этот вспыльчивый и желчный немец, так верно копирующий эмбриологию нашего Ману и все метаморфозы наших предков, теряет из вида эволюцию души человеческой, которая, по учению Ману, следует рука об руку с эволюцией материи во всех ее изменениях… Сын Сваямбхувы («несотворенного») говорит так: «Каждое творение в ряду своих переселений приобретает, в дополнение к качествам всех предыдущих форм, новые таким образом, что чем ближе оно подходит к высшему земному типу, человеку, тем ярче в нем разгорается божественная искра» и добавляет: «Но, раз сделавшись Брахмой на земле (то есть достигнув в образе человека верхней точки цикла трансмиграций), человек вступает в ряд трансмиграций сознательных». Другими словами, его будущие превращения будут зависеть не от слепого закона постепенного развития, но от поступков его на земле, за малейший из коих он будет или награжден, или наказан. Поэтому в воле человека и от него самого зависит, пойдет ли он выше по дороге к мокше (вечному блаженству), переходя из локи в локу,[96] пока не дойдет до Брахмалоки, или же, вследствие грехов, снова не оттолкнется законом возмездия назад. В таком случае он будет обязан возвратитья к прежним, уже раз бессознательно пройденным животным формам. Но если и Дарвин и Геккель, как физики, оба теряют из вида этот, так сказать, второй том их неполной теории, так остроумно «дополненной» в учении Ману, то все же они нигде в своих сочинениях и не отвергают его. Не так ли?…
– Кажется, что не отвергают.
– Так почему же, – вдруг неожиданно накинулся он на нас, – почему же меня, вполне изучившего самые современные и последние идеи западной науки, меня, верующего в ее представителей, которые, в свою очередь, буквально подтверждают научными выводами по крайней мере первую половину (эволюцию физического мира) учения Ману… почему меня, спрашиваю я, почтенная мисс Б*** причисляет к невежественным и грубым индусам, называя наши дополненные научные теории «суеверием», а нас самих сынами «павшей низшей расы»)…
И у бедного Шамра даже навернулись на глазах слезы при воспоминании о незаслуженном оскорблении со стороны бестактной англичанки. А мы стояли сконфуженные, не зная что сказать.
– Ведь я же не возвожу всех этих наших народных верований в «непреложные догматы». Я взираю на них пока как на простые теории, стараясь слить в одно, заставить древнюю науку гармонировать с современною; я просто «гипотезирую», как и Дарвин и Геккель. К тому же, как я слыхал, мисс Б*** спиритка: она верит в духов, в бхуту. А если «бхут», по ее понятиям, в состоянии влезать в тела медиумов и овладевать на долгие часы и даже дни их организмами, то почему же невозможно не только бхуту, но и менее грешной душе войти в тело вампира?…
На подобную, чересчур уже «сжатую» логику мы, признаюсь, не нашлись что ответить, а предпочли, не затрагивая этого деликатного метафизического вопроса, извиниться пред ним за грубость мисс Б***:
«Она англичанка (говорили мы), и ее не переделаешь: она не желала никого оскорблять, а просто высказала необдуманно клевету о суевериях» и т. д.
Хозяин мало-помалу успокоился. Он еще с бльшим рвением принялся было доказывать нам, почему, вследствие глубоко обдуманного им закона «атавизма», или наследственной передачи свойств прыжками чрез пятого на десятого (как говорится) предка, он дошел до настоящей необходимости полууверовать в тождество покойного брата его с покойным вампиром… Но вдруг У*** чуть было не испортил всего дела:
– Старуха совсем рехнулась!.. – закричал он нам через весь двор. – Она проклинает нас, утверждая, что убийство вампира лишь начало целого ряда несчастий, навлеченных сыном на их дом – вами, Шамрао… – грубо продолжал он, обращаясь к последователю Геккеля. – Она говорит, что вы осквернили вашу браминскую святость, пригласив нас, беллати, ужинать с вами и провести ночь в вашем доме… Посылайте, за слонами, полковник, не то нас выгонят.
– Но, помилуйте! – говорит в свою очередь растерянный брамин. – Чт же мне делать? Она старая женщина, быть может с предрассудками, но она мать моя… Вы люди образованные, люди ученые; скажите же мне и научите, как помочь всему этому несчастью? Чт бы вы сделали на моем месте?…
– Чт бы я сделал, сэр? – воскликнул рассерженный глупостью положения У***. – Будь я на вашем месте и верь я в то, во что вы верите, я бы не задумался ни на минуту, а взяв револьвер, перестрелял бы: во-первых, всех соседних вампиров, хотя бы для того, чтобы разом освободить всех моих родственников от отвратительных тел этих животных; затем я прикладом револьвера разбил бы голову вон тому мошеннику брамину, который сочинил подобную глупость. Вот что бы я сделал, сэр!..
Но этот совет не удовлетворил бедного потомка Рамы, и долго бы он бегал в недоумении от одного к другому, колеблясь между священным чувством гостеприимства, врожденным страхом к брамину и собственным суеверием, если бы всех нас не выручил находчивый бабу. Услыхав, что мы, в свою очередь, рассердились и посылаем в деревню за слонами, чтобы тотчас же уехать, бабу уговорил нас подождать хоть один час, заявив нам, что подобный поступок был бы величайшим оскорблением хозяину, который отнюдь неповинен во всей этой истории. А что касается глупой старухи, то он обещал ее угомонить очень скоро; у него уже и план де готов.
С этою целью он попросил нас отправиться на большую дорогу осмотреть развалины старой крепости и ждать там его прихода. Мы повиновались, но, чрезвычайно заинтересованные его «планом», шли тихо и нехотя. Мужчины злились, мисс Б*** ораторствовала, а Нараян, невозмутимо хладнокровный, как и всегда, поддразнивал англичанку «духами», в которых она веровала. Проходя за домом, мы увидали бабу, шедшего вдоль стены с фамильным жрецом и горячо о чем-то с ним спорившего. Бритая голова жреца кивала на все стороны, длинное желтое платье развевалось, а руки высоко воздымались к небу, как бы призывая богов во свидетели его слов…
– Ничего он не поделает с этим фанатиком, – заметил полковник, закуривая трубку.
Не успели мы после этого замечания отойти и на сто шагов, как увидали бабу, бежавшего за нами и делавшего нам знак остановиться.
– Все благополучно кончилось, – кричал он нам еще издали, размахивая руками и от смеха насилу выговаривая слова. – Вам предстоят благодарения. Вы являетесь спасителями и благотворителями покойного бхута… Вы…
И он упал на камень, держась обеими руками за узкую, запыхавшуюся грудь, и хохотал до того, что заразил своим смехом всех нас, еще даже не понимавших, в чем дело.
– Подумайте только, – рассказывал он, – ведь всего десять рупий стоило; предлагал пять, но он заупрямился, а десять взял.
И он опять катался со смеху.
Наконец он объяснил нам следующую, дающую отчетливое понятие о святости браминов, придуманную им хитрость. Он знал, что вообще все метемпсихозы шаивов (поклонников Шивы) зависят от воображения фамильных «гуру», которые и получают за эти наставления от каждого семейства от 100 до 150 рупий в год. Такие брамины в то же время и астрологи, и распорядители всех установленных религиозных в семействе обычаев. Все обряды сопряжены с расходами, которые поступают в карманы ненасытных домашних браминов, причем обряды в честь какого-нибудь счастливого события оплачиваются гораздо лучше, чем те, которые совершаются вследствие несчастия. Зная все это, бабу прямо приступил к делу: он предложил брамину пять рупий, если тот разыграет фальшивую самадхи, то есть притворится вдохновенным и, заговорив как бы от умершего сына, – объявить матери, что тот сам искал смерти в теле вампира; что он, с целью отвязаться от этой трансмиграции и перейти в высшую, – нарочно искал смерти; что ему теперь лучше и что он благодарить «сааба», освободившего его от отвратительного образа. К тому же он, бабу, слышал, что брамин желает продать ожидаемый на днях плод своей буйволицы, а Шамра отказывался от покупки. Чего же лучше? Пусть только преподобный отец гуру объявит (под влиянием той же самадхи), что освобожденный дух намерен теперь поселиться в теле будущего буйволенка, и мать, конечно, заставить Шамрао купить это новое воплощение ее старшего сына. Пойдут увеселения, новые обряды, и почтенному брамину выпадет изрядная, по этому случаю, доля рупий.
Сначала, боясь быть изобличенным, гуру отказывался и призывал небо и богов во свидетели, что в вампире действительно проживал сын дома; но потом, когда бабу (сам глубоко изучивший все штуки браминов) доказал ему, что его выдумка не в состоянии была выдержать критики, так как подобной трансмиграции в Шастрах не находится, – он поддался, потребовав только 10 рупий и молчания… Таким образом дело было слажено, и старуха успокоилась.
Когда мы подходили к высоким воротам дома, Шамрао вышел к нам на встречу с сияющим лицом… Боясь насмешек, или же не находя ни в современных положительных науках вообще, ни в Геккеле, в частности, чего-либо положительного, на чт бы сослаться в вопросе об этой новой трансмиграции, он нам не объяснил, почему вдруг все переменилось к лучшему. Он тлько довольно неловко заметал, что старуха-мать, вследствие ей одной известных таинственных и новых соображений, успокоилась за судьбу сына, а затем не намекал более на эту маленькую неприятность. Зато он сделался еще приветливее и веселее и умолял нас «из чистой любви к науке» отправиться с ним в этот вечер на религиозную тамашу. Известная на весь околоток джадувалла (заклинательница, колдунья) находилась в то время под влиянием семи богинь, семи сестер, которые все поочередно овладевали ею и пророчествовали ее устами…
Мы с радостью согласились и стали с нетерпением ожидать вечера.
XVII
Чтобы рассеять неприятное впечатление утренней истории, Шамра предложил нам, между тем, сидеть у открытой двери молельни и взирать, как он будет совершать свои утренние обряды, поклонение богам. Для нашей любознательности ничего не могло быть приятнее этого, и мы, усевшись на веранде, стали наблюдать за ним в широкое, заменяющее дверь, отверстие…
Было девять часов утра, обыкновенный час утренней молитвы туземцев. Шамра пошел к колодцу приготовиться и «одеться» как он выражался, тогда как злые языки сказали бы: «раздеться». Через несколько минут, вернувшись в одном дотти, как за столом, и с непокрытою головой, он направился прямо к кумирне. В то самое время, как он входил туда, раздался громкий удар привязанного к потолку молельни колокола, который и не переставал звонить во все время обрядов. Звонарь оставался невидимым; но бабу сообщил нам, что то звонит мальчик с крыши…
Шамра вошел правою ногой и очень медленно. Затем он подошел к алтарю и сел, поджав и скрестив ноги на низенькую, стоявшую перед ним скамеечку. В глубине комнаты на алтаре, похожем на модную этажерку, стояли расположенные на покрытых красным бархатом полукруглых полках домашние боги. Идолы были из золота, серебра, меди и мрамора, смотря по достоинству и заслугам. Сам алтарь находился под куполообразной беседкой из сандалового с великолепною резьбой дерева; а по ночам эти боги и приношения покрывались огромным стеклянным колпаком от крыс.
Пока мы с любопытством рассматривали все это, Шамра, бормоча все время молитвы, наполнил золой горсть левой руки и, закрыв ее на минуту правой, налил в нее воды и, растерев золу между ладонями, стал проводить большим пальцем правой руки линию от кончика носа до средины лба, а отсюда к углу правого виска, а потом назад – от правого к левому. Совершив эту разрисовку своей физиономии, он стал по порядку натирать той же мокрой золой горло, живот, левую руку, грудь, правую руку, плечи, спину, уши, глаза и голову; после этого, направясь в угол комнаты к освященному фонтану, он трижды окунулся с головой, как был в дотти, в огромной полной водою бронзовой купели, откуда и вынырнул, изображая собою неуспевшего высохнуть на солнце толстого тритона. Эта операция завершила первое действие.
Действие второе началось молитвами сандля – религиозной медитацией – и мантрами, которые набожные люди повторяют по три раза в день, утром с восходом солнечным, в полдень и на закате солнца. Он громко произносил имена 24 богов, и каждое имя сопровождалось ударом колокола. Кончив, он сперва закрыл глаза, заложил уши ватой, а двумя пальцами правой руки левую ноздрю и, шумно вытянув воздух правой, захватил большим пальцем и другую ноздрю, крепко сжав губы, чтобы не дышать. В этом положении всякий благочестивый индус должен мысленно повторить некий стих с метром Гайатри: то священные и непроизносимые слова, которые ни один индус не осмелится повторить громко, и, даже читая их мысленно, удерживает насильственным образом дыхание, чтобы не вдохнуть в это время чего-либо нечистого. Дав честное слово не повторять всего стиха, я могу однако, привести отрывочные фразы; молитва начинается так:
«Ом!.. Земля!.. Небо! да осенит меня обожаемый свет… (этого имени нельзя произносить)… Твое солнце, о Единый, да осенит меня, недостойного… я закрываю глаза, затыкаю уши, не дышу… дабы видеть, слышать, дышать одним тобою… Да озарит наши мысли (снова тайное имя)».
Любопытно сравнить с этой молитвой индусов Декартовскую молитву, «Mditation III» в его «L'Existence de Dieu» (1.641). Если читатели помнят, в ней говорится следующее: «Я теперь закрою глаза, заложу уши, отгоню все пять чувств от себя… и остановлюсь над одною мыслию о Боге, задумаюсь над Его качеством и стану взирать на красоту этой чудной светозарности».
Кончив эту молитву и держа между двумя пальцами священный браминский шнурок, индус читает тихо и про себя другие молитвы. Потом, смешав немного рису и сандалового порошка, он берет стоящий на алтаре кувшин с водой и, отмыв старые пятна, налепляет на него свежие из только что сфабрикованного им теста. За этим следует церемония «умовение богов».
Снимая их одного за другим, по чину, он опускает их сперва в купель с водой, а затем купает в молоке, в другой бронзовой купели у алтаря. Молоко перемешано с простоквашей, маслом, медом и сахаром, так что вместо купанья выходит пачкотня. Но все это смывается в третий раз в первой купели и вытирается досуха чистым полотенцем. Поставив идолов на место, индус рисует на них кольцом с левой руки сектантские знаки, употребляя для Линги белый сандал, а для Гэнпати и Сурьи – красный. Потом он их окропляет разными душистыми маслами, посыпает цветами, принося каждый день свежие, и оканчивает длинную церемонию звоном изо всей силы идолам под нос посредством маленького колокольчика – «дабы разбудить их», говорят брамины, вероятно полагая не без основания, что боги в это время все со скуки уснули. Заметив или же воображая (что иногда одно и то же), что боги проснулись, он начинает им подносить свои жертвы: зажигает курительные свечи, лампады и раскуривает им кадильницей фимиам, по временам щелкая пред их физиономиями пальцами, чтобы, как надо полагать, они «смотрели в оба». Покурив во все стороны ладаном и камфарой и набрав в руки цветов,[97] он осыпает их снова, становится за скамейку и, произнося последние молитвы, проводит ладони обеих рук над пламенем свечей и ламп, трет себе руками лицо и, обойдя три раза вокруг алтаря, кладет трижды земной поклон и удаляется, лицом к алтарю и идя задом.
В то время как хозяин кончает свой утренний обряд, в молельню входят женщины и, сев на низенькие принесенные ими скамейки, начинают перебирать четки и молиться. Четки здесь играют немалую роль, как и у буддистов. У каждого бога свои особенные четки, и факиры покрываются ими.[98]
Оставив женщин молиться на свободе, мы последовали за Шамрао в коровье стойло. В лице этого животного поклоняются «кормилице-земле», природе. Отперев дверь, он сел возле коровы и стал обмывать ей ноги, сперва ее же молоком, затем водой. Потом он покормил ее рисом и сахаром из горсти, выпачкал ей голову сандаловым и другими порошками, украсив рога и все четыре ноги гирляндами из цветов; покадив под морду ладаном и покрутив над головой зажженною лампой, он обошел ее трижды и сел отдохнуть. Есть такие индусы, что обходят вокруг священной коровы до ста восьми раз с четками в руках. Но наш Шамрао был человек с маленькою тенденций повольнодумничать и слишком начитался Геккеля. Отдохнув, он наполнил кружку водой, обмакнул в нее хвост коровы и – выпил!..
Таким же образом он исполнил обряд поклонения священному растению тульси[99] (жене Кришны) и Солнцу, с тою только разницей, что так как он не мог исполнить над этим божеством обряда омовения, то, став пред светилом дня на одной ноге и набрав в рот воды, он прыснул на Сурью три раза, обрызгав, вместо Солнца, всех нас.
Причина странного поклонения растению тульси до сих пор еще остается для нас загадкой. Знаю только одно, что хотя в сентябре каждого года совершается брачная церемония этого растения с богом Вишну, но тульси называется женой Кришны, быть может, потому, что Кришнавоплощение Вишну.
Но вот настал вечер, и мы опять на слонах, и снова собираемся в путь; но это ненадолго. До логовища старой колдуньи (пифии Индостана) всего пять миль, и дорога хотя и пролегает через густые джунгли, но гладкая и ровная. Даже и джунгли с их свирепыми обитателями уж не пугают нас. Прежние трусливые слоны отосланы домой, и мы сидим на других, присланных нам соседним раджей. Они не раз охотились за тиграми, и рев всех зверей в околотке не испугает этих старых патриархов лесов; словно два темных холма стали они пред верандой… Итак, в дорогу!.. Красноватое пламя факелов ослепляет глаза, усугубляя мрак окружающего нас со всех сторон леса. От этого яркого освещения он кажется еще чернее, еще таинственнее…
Есть что-то невыразимо заманчивое, почти торжественное в подобных ночных путешествиях по Индии. Тихо и глухо всюду: все спит кругом, внизу и над головами. Один тяжелый мерный звук гигантских шагов слона глухо раздается в тиши ночной, словно удары молота по наковальне в подземной кузнице Вулкана. По временам разносятся по лесу странные голоса и звуки, будто кто-то тихо воет меж разбросанными скалами руин. «То ветер завывает», говорим мы: «удивительный феномен акустики»… – «Бхута! бхута!» – шепчут испуганные факельщики, трижды потрясают вокруг себя зажженными факелами, и быстро крутятся на одной ноги, щелкая пальцами, чтоб отогнать расходившихся духов. Жалобный вой замолк, и снова слышится одно металлическое трещанье ночных сверчков, заунывное кваканье древесной лягушки, да мелко выбиваемая дробь кузнечика. Временами все это умолкает, чтобы через минуту снова наполнить лес стройным хором… Боже мой! сколько бытия, сколько жизненной силы скрывается под каждым листиком, под малейшей травкой этих тропических лесов! Мириадами горят звезды на темной синеве неба, и, словно бледное отражение далеких светил, такими же мириадами светятся фосфорические искры светляков и огненных мушек, со всех сторон мигая нам на еще темнейшей зелени кустов, точно указывая и освещая наш путь…
XVIII
Выехав из темного бора, мы очутились на довольно ровном месте, в котловине, окруженной с трех сторон стеной того же непроходимого леса, где, вероятно, и в полдень лежат ночные тени. Мы находились теперь на высоте около 2000 футов над подошвой Виндийской цепи, так как прямо над нашими головами виднелись высокие развалины стен Мнду.
Неожиданно подул довольно холодный ветер и чуть не погасил все наши факелы. Пойманный в лабиринте скал и кустарника, он вдруг завыл, яростно потряс зелеными перьями цветущей моринги, вырвался и, пронесшись вихрем кругом котловины, полетел по ущелью, вопя и заливаясь, точно все лесные духи выли похоронные песни по ведьмам гор…
– Мы приехали! – объявил Шамра, слезая с лошади: – Вот деревня, а дальше ехать нельзя.
– Куда приехали?… И где же деревня… здесь один лес!
– Деревни и домов вы ночью не увидите. Землянки все скрыты меж кустарников, а многие, вырубленные в скалах, мало отличаются от них и днем. Огня же никто здесь не зажигает после заката солнца… боятся духов, – пояснил он.
– А где же ваша ведьма? Неужели нам придется глядеть на нее в темноте?
Шамрао пугливо оглянулся кругом, и голос его заметно дрожал во время ответа нам:
– Прошу вас и умоляю, не называйте ее дакини (ведьмой)… Она может услышать вас… Теперь нам недалеко до нее, хотя вам и придется идти пешком… с полмили. Туда к ней и лошадь, не только что слон, не пройдет. У нее мы найдем огонь…
Сюрприз выходил довольно неприятный. Идти ночью полмили в Индии, пролезая сквозь чащи кактусов в дремучем лесу, полном зверей! Мисс Б*** решительно протестовала и объявила, что не пойдет, а останется ожидать нас, не слезая со слона, в хауде, где может преспокойно заснуть. Она так и сделала.
Нараян, протестовавший против этой partie de plaisir[100] с самого начала, хотя и не объясняя нам почему, заметил ей, что она очень благоразумно поступает в этом случае.
– Вы ничего не потеряете, отказавшись от свидания с дакини… И я очень бы желал, чтобы вашему примеру последовали и другие…
– Но какой же вред может выйти от этого? – настаивал Шамра, немного огорченным тоном, так как он первый затеял эту поездку. – Не говоря уж о том, что наши гости будут иметь случай увидеть чрезвычайно любопытное зрелище «воплощения богов», зрелище редкое и которое не всякому европейцу удается видеть, Кангалимм – женщина святая… Она пророчица, и ее благословение, хотя она и язычница, не может никому повредить… Я настаивал на этой поездке из чистого патриотизма…
– Если ваш патриотизм, сааб, состоит в том, чтобы хвастаться пред иностранцами мерзейшими язвами нашей без того униженной, почти задохшейся в грязи родины, то почему же вам скорее не пришло в голову собрать властью пателя всех прокаженных в вашем околотке и похвастаться перед вашими гостями ими? – отвечал со странною горечью Нараян.
Боясь ссоры между индусами, полковник заметил, что теперь уж поздно каяться. К тому же, хотя он сам в «воплощения богов» не очень верит, но знает, что так называемое на Западе беснование есть факт. Суд, недавно свершившийся в России над тихвинскими крестьянами, которые сожгли Аграфену-ведьму, – доказательство существования странной и таинственной болезни, называемой на Западе «медиумством», а в России «кликушеством». Полковник желал изучать всякие такие психические явления, где бы и под каким бы видом они ни являлись, с научной точки зрения…
Странное зрелище представилось бы глазам наших американских и европейских друзей, если б они могли увидеть нас среди этого ночного шествия! Дорога шла узкою тропой в гору, и по ней нельзя было пройти более чем по два в ряд, а нас было тридцать человек с факельщиками.
Нельзя сказать, чтоб явившееся полчаса позднее в берлогу пророчицы Мнду общество отличалось особенною свежестью или изяществом туалетов. У полковника и У*** дорожные блузы были в лохмотьях, как и мое платье. Кактусы собрали с нас посильную дань по дороге; а во взъерошенных волосах бабу копошилась целая колония светляков и длинноногих трещеток-сверчков, неотразимо привлекаемых к его голове, вероятнее всего, запахом кокосового масла. Толстый Шамра пыхтел, как паровая машина. Один Нараян, высказав свое мнение, вернулся к своему невозмутимому хладнокровию, походя во всякое время дня и ночи, а теперь в особенности, на бронзовую статую Геркулеса с палицей.
При последнем повороте, где нам пришлось лезть вверх по огромным обломкам скал, мы очутились на тропинке, которая вела далее по ровной окраине густого леска. Когда это последнее препятствие было побеждено, наши глаза были неожиданно и несмотря на наши факелы ослеплены необычайным светом, а слух поражен самыми непривычными звуками.
Пред нами открылась другая котловина, вход в которую, через пройденное нами ущелье, маскировался только что обойденным лесом. Как мы потом сообразили, можно было ходить вокруг этого заколдованного леска неделю и даже не подозревать о котловине, в глубине которой мы увидели жилище знаменитой Кангалиммы – колдуньи и оракула всего околотка.
«Логовище» оказалось довольно хорошо сохранившейся развалиной древнего индусского храма, и сквозь его четыре толстые колонны чернело бы, если бы не мешала дверь, глубокое отверстие, прорытое под горой. Чт было за дверью, – никто не знал. По уверению Шамра, еще ни одна нога живого существа, из трех последних поколений, не переступала за эту толстую, обитую железом дверь, ведущую во внутренность подгорного храма. Кангалимм жила там одна, и в памяти старейших обитателей всегда жила там. Говорили, что ей 300 лет.
Мы, видно, приехали рано, и пифия еще не выходила. Но площадка пред храмом была полна людей, и весьма дикую, хотя и живописную картину представлял этот народ. Громадный костер пылал на средине двора, и вокруг него копошились, словно черные гномы, голые дикари, подбрасывая в него целые ветви посвященных «семи сестрам-богиням» дерев. Медленно и мерно перескакивали они с одной ноги на другую, поторяя хором монотонную фразу, все одну и ту же, и на тот же напев, под аккомпанемент нескольких туземных бубнов и барабана. Глухо раздавалась однообразная трель последнего, и ей вторило лишь лесное эхо да истерические всхлипыванья двух девочек, лежавших под кучей листьев возле костра. Их принесли матери, надеясь, что «богини» сжалятся над ними и выгонять овладевших ими злых духов. Обе они, еще молодые женщины, сидели над детьми на корточках, подгорюнившись, и тупо смотрели на огонь. При нашем появлении никто из присутствовавших даже не шевельнулся. Да и во все время пребывания нашего с ними все они действовали, как бы не видя нас.
– Это они все чувствуют приближение богов… Вся атмосфера полна их эманациями, – таинственно объяснял нам Шамра, благоговейно озираясь.
– Они просто под влиянием тодди и опиума, – срезал его непочтительный бабу.
И, действительно, как сонные тени двигались те из них, которые не принимали прямого участия в «представлении», а принимавшие напоминали нам одержимых пляскою св. Витта, в группе Пэджа. Один из них, длинный, белый, как лунь, и худой, как скелет, старик, отделившись, при нашем приближении, из толпы, распустив руки крыльями, стал вдруг крутиться на одной ноге, громко скрежеща желтыми и длинными, как у старого волка, зубами. На него было страшно, отвратительно смотреть! Он скоро упал, и безмолвно, почти механически его откатили ногами (!) в сторону, к больным девочкам. Но то ли еще ожидало нас! Ведь сказка наша впереди…
В ожидании «примадонны» этой лесной оперы, мы уселись, как могли, на пне старого упавшего дуба, у самого портика храма, приготовляясь забросать нашего снисходительного хозяина вопросами. Но не успели мы сесть, как с нервным чувством неподдельного изумления и даже отчасти ужаса я быстро откинулась назад…
Предо мною стоял остов чудовищной головы зверя, подобного которому я ничего не находила в моих зоологических воспоминаниях.
Эта голова была гораздо более головы слоновьего скелета… То был однако слон, если судить по искусно приделанному хоботу, конец которого изгибался гигантскою черною пиявкой почти у моих ног. Но у слона нет рогов, а у этого целых четыре! Передняя пара, на плоском лбу, торчала, слегка закручиваясь вперед и раздаваясь в обе стороны, как рога быка, а за ними другие два, массивные, с широкою, как у оленя, перепонкой у корня, которая постепенно суживалась почти до середины рога, откуда они разветвлялись в обе стороны, на такую гигантскую вышину, что могли бы, кажется, украсить головы десяти обыкновенных оленей. В пустых впадинах черепа были вделаны два подобия глаз, из выделанной желтой и прозрачной, как янтарь, кожи носорога;[101] а за этим подобием глаз горели две зажженные плошки, что придавало голове еще более ужасный, просто дьявольский вид.
– Да что ж это такое, наконец! – послышалось общее восклицание. Даже полковник не встречал ничего подобного и не мог узнать зверя.
– Сиватерий,[102] – отвечал Нараян. – Разве вы не видали остовов этих допотопных зверей в европейских музеях?… Странно: в Гималайских горах их находят в большом количестве, хотя и в раздробленном состоянии… Они так названы в честь бога Шивы.
Признаюсь, мне в первый раз доводилось видеть это страшилище, которое Сенковский позабыл представить нам в своем допотопном романе, наряду со спасающим влюбленную чету мамонтом. Но лучше поздно, чем никогда. И вот, мы теперь стояли лицом к лицу с этим интересным чудовищем.
– Если коллектор (collector) когда узнает о существовании этого остова у вашей ведьмы, – вставил словцо бабу, – то недолго он станет украшать сие святилище…
Возле остова и рассыпанные на полу портика лежали кучи белых цветов, если не совсем допотопных, то, по крайней мере, неизвестной нам, профанам в ботанике, породы. Они были величиной с большую розу и посыпаны красным порошком «лал» – неизменной принадлежностью всех религиозных церемоний сей страны. Далее валялись кокосовые орехи, стояли медные блюда с рисом, в которых горели воткнутые в рис разных цветов свечи, а посреди портика курилась, окруженная высокими в больших медных канделябрах свечами, странной формы жаровня, на которую мальчик в белом одеянии и такой же белой пэгери на голове то и дело подбрасывать ладан и другие порошки.






