Письма из пещер и дебрей Индостана Блаватская Елена
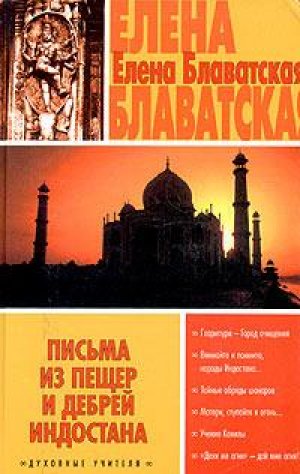
– Потому что или он, признанный всеми авторитет, знает, о чем он говорит, или же он шарлатан, рассуждающий о том, чего не понимает…
– Гексли, – сказала я, – как натуралиста, физиолога и ученого не только признаю, но и преклоняюсь пред его знанием, уважая в нем один из величайших авторитетов нашего времени, то есть во всем касающемся чисто физических наук; но как о философе имею о нем весьма невысокое мнение.
– Но ведь против логических выводов, основанных на фактах, трудно идти… Вы читали его статью в «Fortnightly Review» об «автоматизме человека»?
– Кажется, читала… и кой-что запомнила из его удивительных софизмов… Но чт ж о ней?
– Вот чт. Профессор в ней неоспоримо доказал, что человек не более как сознательный и сознающий себя автомат,[149] добавляя к этому в своих «Lay Sermons», что человек – «хитрейший из часовых приборов природы»,[150] но не более.
Мне немного начинал надоедать этот спор; я взглянула на Гулаб Лалл Синга. Тот сидел, нахмурив брови, не мешаясь до этого времени в разговор. Зная его презрение к современному материализму, мне захотелось втянуть и его в спор. Как бы поняв мою мысль, он тут же поспешил мне на помощь.
– Позвольте мне ответить вам за нашу гостью, пандит саиб. Я прочел упоминаемую вами статью очень недавно, и у меня, может быть, сохранились свежее в памяти ученые софизмы Гексли; я готов привести вам самые резкие из них. Действительно, Гексли называет человека «автоматом» и «часовым прибором природы»… Но дело не в самом выражении, а в том, успел ли он доказать то, что говорит? Я говорю и докажу, что не только не успел, но что он самым ребяческим образом противоречит своим словам…
«Pince-nez» просто подскочил при таком кощунстве против науки.
– Как? где?… великий Гексли противоречит себе?… Укажите и объясните…
– Если позволите, объясню и укажу, и, право, это не будет стоить большого труда. Вы забываете, что, сокрушив достоинство человека эпитетом «автомата», быть может из сожаления к недозревшей до его великих идей публике, к маленьким слабостям меньшей и неученой братии, то есть тех, которые (говоря языком Герберта Спенсера) «не поспевают за современным быстрым движением завоевателей на почве естественной истории и поэтому отстают от физических наук», – Гексли тут же снисходительно добавляет нечто весьма странное. Называя человека «автоматом», он между тем великодушно допускает, что эта машина «одарена до известной степени свободной волей, так как во многих случаях человек способен поступать согласно с собственными желаниями…».[151] Не так ли, если помните?
– Кажется, так… – смущенно заявляет pince-nez.
– А если так, то мы должны думать, что эта оговорка является лишь ради общего предрассудка и подносится профессором публике в виде сахара на горькой пилюле; потому что ведь иначе выходит, что наш Гексли, величайший из современных ученых, просто противоречит сам себе… И однако даже и вы должны согласиться, что человек одарен свободною волей?…
– Конечно. Но в чем же вы видите тут такое великое противоречие?
– Неужели же вам не совершенно ясно, что этим добавлением, этой, по-видимому, простой оговоркой Гексли, вроде японского самоубийцы, сам накладывает на себя, как и на свою теорию, руки, и что так ловко придуманное им выражение «автомат» является через эту несчастную для него оговорку чистой нелепостью?… Сперва, по его уверению, человек в буквальном смысле, и не менее лягушки и кролика, есть не чт иное, как условие, влияющее на течение дел (Phisycal Basis of Life). В итоге получается то, что человек остается, после этого ученого объяснения, тем же, чем всегда был, то есть мыслящим и одаренным свободной волей существом. Этот одаренный свободной волей «автомат» является интересной и, конечно, неожиданной новостью в области физических наук, как заметил его оппонент д-р Элам. Потому что ведь ни скептику, ни верующему никогда не может придти в голову, что свободная воля есть что-либо иное, кроме простого свойства поступать по собственной воле!.. Таким образом «автомат» рассыпается в прах, и мы видим, что Гексли недурно было бы поучиться логике у нашего Кнады и других философов, которых вы так презираете.
– Прекрасно… положим, что в этом вы правы… – бормотал огорошенный магистр. – Но вот возьмем другой пример… Тиндаля, который говорит существенно то же самое: «Материя и только одна материя содержит в себе все обещания, все могущество земного бытия!», объявлял он в 1874 г. перед отборнейшей и ученейшей публикой в мире, на Белфастском собрании. Это счастливое выражение: «In matter I discern the promise and potency of all terrestrial life», вызвав на Тиндаля злобу всех отсталых фантазеров, облетело теперь весь свет… оно сделалось настоящим лозунгом физики!..
– Но совершенно напрасно привело в трепет ужаса весь верующий мир, – можете добавить. Подобно Гексли, Тиндаль в другой лекции сам опровергает свое «счастливое выражение». Не угодно ли вам заглянуть в его Scientific Materialism, ответ на критику (д-р Мартино) этого самого, поднявшего мир на дыбы, выражения. Там он совершенно ясно сознается в том, что наше внутреннее «сознание» (consciousness) принадлежит «совершенно к другому классу явлений, соотношение коего с физической наукой немыслимо», и тут же, разделяя явления природы уже на два, а не на один класс, почтенный материалист начинает рассуждать о той (между обоими классами) бездне, перешагнуть которую невозможно и которая так и «останется навеки непроходимой в умственном смысле (intellectually impossible)…» Где же оно теперь? Куда девалось это пресловутое всемогущество его материи?…
Пандиты переглядывались. Видно было, что нашла коса на камень. Слышать, как двух таких патриархов науки, каковы Гексли и Тиндаль, обвиняют в том, что они сами еще не знают, чему желают учить других, и не быть в состоянии заступиться за этих пророков положительных наук, и грустно и обидно. Наша партия торжествовала…
– А теперь, – продолжал такур, – позвольте и мне, в свою очередь, цитировать слова другого не менее ученого и столь же известного, как и те два ученые, натуралиста, – в подтверждение шаткости их теорий. Вспомните, что говорит Дюбуа-Реймон о явлении сознания: «Совершенно и навеки остается непостижимым, чтобы данное количество атомов углерода, водорода, азота и кислорода могли являться науке инае, как безусловно пассивными (indifferent) к своему положению и движениям и это – в прошлом, настоящем, как и в будущем». Эти слова, вдобавок, цитируются самим же Тиндалем.[152] И к ним уже в собственных словах он добавляет следующее: «Непрерывность (continuity) между молекулярными процессами и явлениями сознания… скала, на которой материализму суждено неминуемо разбиваться при каждой его претензии считаться полной философией человеческого мышления»… И несмотря на такое полное сознание в одной статье, он в другой статье «О научном материализме» (стр. 419), не запинаясь, рассуждает об «отношениях физики к сознанию», как о чем-то «неизменном» и положительном…
– В этом его поддерживают все другие авторитеты науки… – уже робко ввернули слово пандиты, – и Вирхов тоже…
– Далеко не все, – перебил полковник спорщиков, – а только некоторые, да и те в умеренном числе.
– И, право, требуется не более самого поверхностного знакомства с физиологией и патологией, – добавил Гулаб Лалл Синг, – чтобы придти к убеждению, что не только «неизменного», но даже и исключительного отношения очень мало найдется между чистой физикой и даже физиологией, а не только между чисто психическими явлениями… Что же касается Вирхова, то он, отделав «Антропогению» Геккеля, в то же время (хотя и косвенно) отделал и тех, кто так горячо поддерживал это сочинение при его появлении.
– Очень жаль, – буркнул пандит в pince-nez, – потому что в таком случае Вирхов идет против авторитета одного из величайших мыслителей своей родины, именно против Бюхнера. А ведь сам же Бюхнер говорит в «Kraft und Stoff» (стр. XXVII. Предисловие): «натуралисты все давно доказали, что за исключением сил физической, химической и механической, нет других сил в природе».
– Не сомневаюсь, что Бюхнер это говорит, как и в том, что у вас отличная память, – насмешливо ответил такур. – Да то ли еще он говорит! Вот, например, он как бы повторяет слова нашего Ману: «Материя – начало всего существующего; все естественные и умственные силы природы присущи ей (стр. 32). Природа всезарождающая и всепожирающая есть собственное начало и конец, рождение и смерть. Она произвела человека собственным могуществом и берет его к себе назад…» (стр. 88). Но Ману, говоря то же самое,[153] одним простым заявлением, что все видимое зарождается от невидимой, но сознательной силы, стоит в отношении логики, как и философии, стократ выше всех Бюхнеров прошлых и будущих. Что некоторые естественники и так называемые философы уверяют нас, будто кроме этой тройной материальной силы нет других сил в природе, то это всякому известно. Но чтоб они когда-либо доказали свои гипотезы прямым подтверждением науки, это я положительно отвергаю…
– Но неужели же нам в XIX столетии предпочитать Бюхнеру и Гексли – Ману?
– Если Ману в сущности учит тому же, что и западные современные ученые, так почему бы и нет? Вы не можете не согласиться, что Ману предупреждает в своем учении почти все то, что проповедуют теперь свету гг. эволюционисты – «апостолы разума», выдавая свои теории за нечто совершенно новое. Если же Ману успевает еще и в том, на чем обрываются эти апостолы материи, и поэтому отрицают оное, то есть если он логически доказывает необходимость связи между духом и материей и устами Патанджали[154] подтверждает эту связь экспериментальными демонстрациями над самой двоякой природой человека – этого высшего тайника духа и материи – то я положительно утверждаю, что Ману стоит несравненно выше современной науки, по крайней мере во всем касающемся как чисто духовной природы, так и физиологии человека.
– Вы нам, кажется, советуете вернуться к идолопоклонству? – последовал иронически вопрос.
– Нисколько. Наши древние философы никогда не учили нас поклоняться идолам. К тому же и советовать вам это было бы напрасно, когда вы и без того воздаете честь Вишну и Шиве и другим богам, до сих пор еще не стерев их знаков с вашего лица… Если раз уж вы решили откинуть все обычаи старины, то почему же вы не расстаетесь и с этими языческими знаками?
– Это… это обычай касты… и не имеет ничего общего с верой в идолов, – бормотали переконфуженные пандиты.
– Как не имеет? Неужели вы забыли или никогда и не знали, что касты, по учению браминов, основаны самими богами; что боги первые подчиняются касте, и лица идолов украшаются ежедневно каждое знаками своей особенной секты? – неумолимо преследовал их такур.
– Но ведь и наши лучшие философы, – спорили пандиты, – вероятно, носили эти знаки… Если мы верим Дарвину и Геккелю, то, быть может, лишь потому, что эти ученые дополняют и окончательно развивают материалистические воззрения Капилы и Ману. Санкья Капилы, например, не менее атеистическая философия, нежели Геккелевская Антропогения.
– Вы, вероятно, забыли учение Капилы… Там, где Геккель видит силу и творчество в одной материи, Капила считает немыслимым что-либо приписывать пракрити[155] без содействия пуруши.[156] Он сравнивает их: «пракрити» с человеком со здоровыми ногами, но безглазого и безголового, а «пурушу» – с существом с глазами и мозгом, но без ног и движения. Для того чтобы мир мог развиваться и произвести наконец человека, пуруша (дух) должен был сесть на шею безголовой пракрити (материи), и только тогда она стала одарена сознанием жизни и помысла, а пуруша получил способность двигаться ее ногами и заявить о своем существовании. Если пуруша бессилен в своих заявлениях и есть как бы одна не существующая абстракция без помощи объективной формы пракрити, то последняя и того хуже. Без содействия духа и его оживотворяющего влияния она лишь куча безжизненного навоза…
Пандиты наконец ушли, унося с собой полное убеждение в том, что мы невежественные ретрограды.
– Ну, хороша же наша ученая «юная Индия»! – говорил полковник. – У меня положительно разболелась голова от их бредней…
– За это благодарите англичан, – отвечал такур, – а с нас несправедливо взыскивать за чужие грехи.
XXVI
Мы снова в темных, душных вагонах. Чрез пять минут поезд с оглушающим грохотом промчит нас чрез длинный мост на Джумне, а чрез шесть часов мы будем в Канпуре, где Англо-Индия перевернула самую кровавую страницу своей истории. Нас провожают наши голоногие друзья пандиты в шитых золотом шалях; к ним присоединились несколько бенгальских бабу, в белоснежных кисейных тогах и все до одного простоволосые. Такур уехал с Нараяном накануне приготовит для нас такое место, куда еще «никогда не ступала нога англичанина – и не ступит» (говорил он).
Все окна вагона с темно-зелеными стеклами, иначе пассажиры могли бы ослепнуть. Когда их спускают, то на их место подымаются подвижные ставни из кускуса на шарнирах. Вделанные по обе стороны оконных рам в стенах вагона гидравлические машины при каждом повороте колес поезда обливают ставни водой, отчего они вертятся как вентиляторы в форточках и якобы пропускают рассекаемый поездом прохладный воздух. Но, увы! не отъехали мы и двух миль, как, пощупав ставень рукой, я чуть было не обожгла себе пальцы: вода на солнце сделалась совершенно горячей.
Накануне отъезда такур принес нам пучок свежих листьев и предложил попробовать их. Вкусом они напоминали щавель, оставляя во рту прохладное, как после мяты, ощущение. Он взял с нас формальное обещание держать по маленькому кусочку этих листьев во рту во все время переезда до Канпура и вообще днем во время жары. «Пока вы их будете жевать, как бетель, жара не будет иметь на вас вредного влияния (сказал он нам), и вам подчас даже будет слишком прохладно». И действительно, мы с тех пор будто не чувствовали зноя. Но нам не удалось уговорить У*** держать эту траву во рту, а мисс Б*** постоянно ее выплевывала, и оба чуть было не заболели. Искренно сожалею, что не имею права ни описать этого растения, ни послать его в Россию для исследования: индусы странный народ, и даже сам такур, лучший и благороднейший изо всех нам известных индусов и наш преданнейший друг, не свободен от этих странностей. Он как будто скрывает познания своей родины, особенно такие, на которые современная наука взирает как на нечто сказочное. На наши вопросы: почему бы ему не обогатить и западную науку лишним открытием, столь полезным в этой знойной стране, он как-то загадочно улыбнулся, заметив, что эта трава растет только в Индии, да и то встречается весьма редко, и что всех де не спасешь. «Наука на Западе богата и без наших крох, и вы, которые у нас все взяли, оставьте нам хоть эти крохи», добавил он.
Канпур – место безо всякой истории и, пока англичане не избрали его в 1777 году передовым постом для своих гарнизонов в Индии, оно оставалось в полной неизвестности. Станция железной дороги находится за городом, и мы уже собирались взять две раззолоченные гари на волах, когда слуга такура объявил нам, что его маха сааб (великий господин) выслал нам европейский экипаж. Это был обитый ярко-пунцовым бархатом четырехместный ландо, с двумя висевшими позади, как две крупные капли крови, саисами, в красных с золотом кафтанах и таких же тюрбанах, и с четырьмя такими же саисами в ливреях, долговязыми и быстроногими скороходами, бежавшими впереди ландо. Прибавьте к этому четырех конных раджпутов, телохранителей Гулаб Лалл Синга, и вы поймете, почему народ, встречаясь с нами, чуть не бросался на землю пред таким ярким величием.
Первое бросившееся нам в глаза строение была пустая, из темно-красного кирпича, огромная церковь без окон и дверей, с высокой остроконечной колокольней. Это здание в продолжение с лишком трех недель служило слабой крепостью перерезанному впоследствии гарнизону, засевшему в нем по открытии мятежа 6 июня 1857 года.
Что было первой причиной этого кровавого мятежа? Европа читает реляции англичан и воображает, что читает историю. Ей даже и в голову не приходит спросить, есть ли между многими историями бунта хоть одна написанная верно и беспристрастно. Индусов никогда и никто не спрашивал, сколько в показаниях их завоевателей истины, которая из двух сторон виновна в больших преступлениях и кто совершил более зверских жестокостей: образованный ли, гуманный европеец, или дикий, доведенный до исступления азиат? По этому поводу мы собирали факты не от одного, а от многих, отнюдь не сговорившихся между собой людей. Их показания в главных чертах согласуются вполне, поэтому мы и верим им более, нежели всем «историям» мятежа 1857 года, взятым вместе. «Смазанные свиным салом патроны», причина бунта мусульман, и «ремни из коровьей кожи», возмутившие индусов, – не что иное как последняя, переполнившая сосуд горечи капля…
За несколько времени до мятежа, в Битхпуре, большом местечке на правом берегу Ганга, в 12 милях от Канпура, проживал индус из старинного и гордого рода, по имени Дундху Пунт, более известный под прозвищем Нана-Саиба. Он был усыновленным наследником последнего «пейшв» (царственного главы Махратской конфедерации) Баджи Рао и по смерти последнего получил в наследство все его поместья, сокровища и имения. Некоторые англичане, подобросовестнее, сознаются в том, что этот молодой человек, двоюродный брат махараджи Синдии, имел полное право ненавидеть правительство. Усыновленный в 1832 году, еще ребенком, Нана-Саиб вырос в полной уверенности, что он наследует титул и положение «пейшвы» – честь, в сущности, благодаря англичанам, более номинальная, чем действительная, но все же льстившая самолюбию того, кто имел на нее право. За пять лет до бунта старый Баджи Рао умер, а вслед за его смертью тогдашнее правительство лорда Дальгузи тотчас же и безо всякого повода объявило, что звание «пейшвы» упразднено и что принц Дунхду наследует лишь частные поместья и собственность отца. Вследствие этого получаемый старым раджей пенсион был прекращен; армии приказано не отдавать чести наследнику, и даже несколько старых, давно негодных артиллерийских орудий, великодушно оставленных свергнутому с престола принцу, которыми бедный узник тешился на старости лет, отняты у Нана-Саиба. В продолжение четырех с лишком лет юный принц разорялся в напрасных усилиях заставить директоров Компании отменить несправедливое решение. Вместо того чтобы твердо, но ласково обратить его внимание на тщетность его хлопот, дирекция показала ему на дверь, грозя отнять у него даже его частное наследие. Между тем у Нана-Саиба были две сестры, двенадцати и тринадцати лет, старшая красавица, и обе замужем. Поехав однажды с кормилицей и слугами на богомолье, они подверглись нападению пьяных офицеров, которые ворвались в передний двор пещерного храма, когда те только что сошли, раздетые, в священный танк, и… обесчестили обеих. Единогласное показание уверяет, будто Нана-Саиб убил обеих девочек собственною рукой и по их же неотступной просьбе; а убив, выпил по капле крови каждой и поклялся на ней отметить женам и дочерям англичан, или же умереть самому.
Можно наверное сказать, что Нана-Саибом, как и всеми главными заговорщиками, гораздо более руководило чувство мести и ненависти к англичанам, чем надежда на политический переворот. Конечно, если бы планы Нана-Саиба удались, то в Индии снова водворилась бы Могульская и Махратская империя. Но чувство ненасытной мести, страстное желание обесчестить Англию в лице ее знатнейших жен и дочерей, обесчестить так, чтобы (по словам передававшего нам эти подробности) «бесчестие это сделалось историческим, и предание страны воспевало бы справедливую месть Махратского принца до будущей пралайи», было главным и первым его побуждением.
Девизом Нана-Саиба сделалось изречение побежденной богини Виргилия. И действительно, он, по выражению его биографов, «выдвинул весь ад», созвав вдобавок всех демонов восточной мести к своим услугам…
Насолив ему со всех сторон, лишив его сначала сестер, а затем звания, почестей, пенсии, англичане с доверчивостью невинности и чистой совести, вследствие нескольких ловко придуманных и заданных им Нана-Саибом пиров, вообразили себе, что наследник «пейшвы» их величайший друг. Ежедневно ожидая, что сипаи его полка последуют примеру своих товарищей и взбунтуются, генерал Уиллер еще 26 мая вызвал Нана-Саиба из Битхпура «помочь ему успокоить сипаев и предупредить мятеж». Нана явился немедленно и привел с собою двести из своих пятисот вооруженных телохранителей и три или четыре оставшиеся у него пушки. Его назначили охранять казначейство, и он поселился в собственном доме в Навабгундже. Ему были известны все переговоры между гражданскими и военными властями, и он вместе с англичанами приготовлял «убежище» женщинам и детям…
Когда 6 июня взбунтовались сипаи и вместо того, чтобы, по обыкновению своему, перерезать офицеров, разграбили полковую кассу, а затем отправились по дорога к Дельхи, желая присоединиться к корпусу главных мятежников, то англичане, укрепившись в церкви и провиантских бараках, великодушно передали в руки клявшегося им в «вечной дружбе» Нана-Саиба арсенал, пороховой магазин, парк и все, что оставалось от казны, поручая своему «верному союзнику» защищать их от народа. Тогда Нана, сбросив наконец маску, вернул сипаев с дороги, и на другой же день, то есть 7 июня, открыл было по своим «друзьям» огонь, но тотчас же опять прекратил его: адская мысль озарила махрата. Смерть мгновенная и не дающая времени страдать – не наказание. Как кошка с мышью, принялся он играть со своими пленниками: он знал, сколько было в бараках провизии, и начал их морить голодом… Чрез две недели из 250 человек, вошедших в укрепление гарнизона, оставалось только 150, а из 380 женщин и детей наполовину менее. Трупы гнили почти на поверхности земли, пред глазами переживших. То была долгая страшная агония…
Вероятно, если бы Нана-Саибу посчастливилось, он не казнил бы женщин, ни детей, которых, как известно, он оставил в живых до последней минты своей власти. Но 15 июля, при Андуне, он проиграл сражение и должен был скрыться. В минуту безумного бешенства, в последнюю ночь своей власти и пребывания в Канпуре, он отмстил, говорят, за своих сестер: он впустил толпу опоенных опиумом и багом сипаев (мусульман и индусов) в дом, где содержались европейские женщины, за несколько часов до их смертной казни. Рассказывают также, что четверо мужчин, судья Торнгилл, полковник Смит и двое других, были нарочно оставлены в живых, дабы сделать их свидетелями этого национального бесчестия. На заре мужчин вытащили на улицу и зарезали, а также 250 женщин и детей. Тела их бросили в глубокий и знаменитый с тех пор «колодезь».
Продолжать повествование напрасно, ибо вся Европа знает остальное. Добавлю лишь некоторые подробности, о которых она никогда не слыхала. Когда Канпуром снова овладели англичане и в нем водворилась тишина, Нана-Саиба уже там не было: он исчез бесследно. Как известно, англичане долго показывали в железной клетке узника, которого, за неимением оригинала, хотели выдать за принца Дундху, но принуждены были, наконец, выпустить этого человека, так как вся Индия хохотала над этим. Между тем Нана-Саиб, говорят, жив, и до сих пор есть люди, еще не потерявшие надежды увидеть его в Индии. О пленниках же коллектор, полковник Шерер, рассказывает следующее:
«Подъехав к дому убийства и резни, мы нашли в нем на шесть вершков глубины запекшейся крови… Мы заглянули в колодезь, и пред нами мелькнула вся ужасная истина: спасать было уже некого. Пред нашими глазами открылась та ужасающая картина, при одной мысли о которой еще теперь в далекой Англии осиротевшие сердца обливаются кровью… Колодезь был глубок, но узок; заглянув в него, мы нашли его наполненным до краев мертвыми и совершенно нагими телами. Всех трупов насчитали 253».
Вот что рассказывает англичанин и очевидец. Но он умалчивает о том, как на другое утро сгоняли жителей Канпура и расстреливали каждого десятого человека; умалчивает о том, что, схватив между ними несколько сотен людей (вероятно, большей частью невинных), их заставляли слизывать запекшуюся в комнатах кровь; умалчивает о том, что эту кровь слизывали, не вставая, человек до пятисот в продолжение сорока восьми часов, что две трети из них умерли от рвоты, а остальную треть англичане добили прикладами; умалчивает, наконец, о том, что не несколькими десятками мятежников заряжали пушки (как уверяют английские рассказы), а что такою смертью погибло их несколько тысяч.
Лорд Каннинг приказал все белые трупы, не трогая их, оставить в колодце и засыпать землей и известью. Площадь превратили в сад, а над колодцем построили знаменитый «Memorial monument», памятник 1857 года.
Прямо с железной дороги мы поехали в этот сад. Сад тенист, наполнен кипарисами, плакучими ивами и другими превосходными растениями и цветами; но ни архитектура часовни, ни стены сада, ни самый памятник над колодцем не соответствуют ни великому трагическому событию, ни суммам, пожертвованным на исполнение задуманной Каннингом идеи. Статуя работы барона Марокетти и по его идее представляет «Ангела милосердия». Но почему это поза именно милосердия, а не чего-либо другого, определить трудно. По розовому полю, белыми рельефными буквами красуется вокруг всего подножия легенда мятежа. Легенда эта – чистый курьез. Она есть как бы соединение всех отборнейших, непечатных ругательств и проклятий язычников… Ограбленный, выгнанный из своих наследственных владений принц Дундху-Пунт (Нана-Саиб) предается в ней «огню вечному», как «раб презренный и мятежный, осмелившийся взбунтоваться против законных властелинов избранного Богом народа». Англичане – «избранный Богом народ»! Вся симпатия, все глубокое сожаление к столь незаслуженному страданию, к этим погибшим мученическою смертью несчастным детям и матерям, – все это исчезает при чтении непристойно ругательной, до приторности высокомерной, напыщенной эпитафии. Мученический прах, покоящийся под нею, забывается; остается пред глазами лишь высокомерная надпись, из которой так и бьет в нос фарисейство гордых и жестоких отцов, братьев, сыновей! Во всем саду между многими десятками надгробных надписей ни одной, положительно ни одной из Нового Завета. Дух древне-израильской нетерпимости, мстительности, дух заповеди: «око за око, зуб за зуб» деспотически царствует в этом саду смерти и пуританства. Но уж если так, то, соболезнуя о неповинных мертвых, нельзя в этой ужасной трагедии не видеть справедливого «закона возмездия»: «что посеешь, то и пожнешь», слышалось мне в шелесте каждой плакучей ивы над каждою могилой, в далеком журчанье ручья. Велики и ужасны прегрешения Нана-Саиба. Но кто осмелится утверждать, что его поступками не руководили кровавые слезы и стоны двухсотмиллионного населения, народа, попираемого ногами завоевателя, народа оплеванного, издыхающего с голоду сотнями тысяч в продолжение последнего долгого века? И поверят ли христиане-читатели, что чья-то рука начертила на множестве надгробных памятников следующее столь подходящее к святыне места размышление: «Оправдана гордость расы, кричащей вослед каждому азиату: Hic niger est, hunc tu Romane, caveto».
XXVII
Милях в четырех от Канпура, на скалистом правом берегу Ганга, в темном и почти дремучем лесу, находятся замечательные руины. То остатки нескольких огромных древних городов, построенных один на развалинах другого. От последнего остались одни лишь колоссальные куски стен, бойниц, храмов, да развалины когда-то величественных дворцов, от которых там и сям уцелело по одной, много по две комнаты, скорее стены бывших покоев. Над этими стенами бедные поселяне начали устраивать крыши из листвы и селиться в них, пока мало-помалу не превратили древний город Джаджмоу в деревню. Но развалины тянутся на много миль, а новое поселение скучилось кое-как, оставив прочие руины в полное владение обезьянам. Об этих городах история (англичан) умалчивает, отвергая предания летописей Индии, что Джаджмоу стоит на месте родной сестры и соперницы своей Асгарты – города солнца. Асгарта, по словам древней летописи в Пуранах, построена сынами солнца, два века спустя по взятию царем Рамою острова Ланки, то есть за 5000 лет до Р. Х. по летосчислению браминов. А прошлое Джаджмоу, несколько раз разоренного набегами из-за Гималайских гор, совершенно неизвестно европейским историкам. Раз только упоминается этот таинственный, ныне «не помнящий родства», город, – это в автобиографии Бабура (Загир Эддин Магомета), могульского императора, жившего в начале XVI века.[157] В одной из его многочисленных кампаний против афганцев, последние искали убежища и пожелали укрепиться в древнем городе Джаджмоу, – пишет султан. Но Хумайюн, его сын, разбил их. Таким образом, эти развалины одно из многих мест, совершенно неизвестных англичанам ни в прошлом своем, ни, добавим, в настоящем.
Дорога к Джаджмоу – ужасная. Мы ехали на слонах, и только благодаря твердой поступи этих умных животных не полетели несколько раз в глубокие овраги, как и не повисли новыми Авессаломами за волоса на ветках. Тихо и осторожно ступали слоны по карнизам обрывов, останавливаясь пред каждым низко висящим сучком и раздробив его на щепки хоботом, прежде чем сделать хоть шаг далее. Собственно им, слонам, ветки и не мешали: но они уже так приучены и относятся к ездокам необычайно понятливо. Мы ехали мили три по скалам и лесу, прежде чем доехали до первых развалин, и почти все время по узким тропинкам, по которым не проехать на быках даже и туземной скорлупе, называемой «эккой». Наконец, мы стали проходить пред жилыми зданиями, из одного оврага в другой, из ямы в провалы, и окончательно попав на что-то вроде широкой тропы, оглянулись вокруг. И оглянувшись – онемели! Ни одного человеческого существа кругом, но зато не было той развалины, куска стены или повалившейся колонны, на которой бы не восседало несколько десятков обезьян. Их было без преувеличения несколько тысяч. Жители жалуются, что они воруют у них последнюю провизию; что, как далеко ни припрятать просо или кукурузу, или какую-либо зелень, – эти лесные «дакоиты» непременно украдут ее ночью. И однако же ни в одну из них туземец не осмелится бросить камнем: то священные, как и всюду, обезьяны, «дэва-саабы», или в буквальном переводе «господа-боги». Жители умирают с голоду, зато мартышки жиреют.
У самой опушки леса протекает Ганг, и на правом его берегу еще доселе виднеются гигантские остатки мраморных ступеней, ширина коих как бы предназначалась, во времена оны, для великанов. Весь песчаный берег на протяжение многих миль, весь лес покрыты глубоко осевшими в землю обломками колонн, разбитыми резной работы пьедесталами, идолами и барельефами. Рисунок резьбы, архитектурные остатки, самый размер развалин представляют нечто грандиозное, неожиданное даже для тех, кто побывал в Пальмире и в египетском Мемфисе. Непонятно, почему эти развалины никем еще не описаны, тем более что они под самыми стенами Канпура. В пространном сочинении «О территориях, приобретенных Ост-Индской компанией» сказано о них всего два слова. «Джаджмоу – бывший город, ныне деревня с пустым развалившимся базаром. Как говорят местные летописи, он построен на развалинах двух городов. Расстояние от Калькутты 620 миль, шир. 26° 26, долг. 80° 28». Вот и все! И однако же, под Джаджмоу похоронен древнейший город древней Индии… Для прямого доказательства его древности достаточно следующего примера. Немного лет тому назад, во время сильного урагана, несколько толстых и старых баньянов были сломлены грозой, а некоторые так и совсем вырваны с корнями. На концах последних были найдены куски изваянного мрамора, в которые корни совсем вросли. Стали копать глубже, и ярда на четыре под землей найдены вершины развалин громадных зданий. Но дело теперь не столько в этих зданиях, как в том, сколько веков потребовалось, во-первых, для такого наноса на берегах Ганга, чтоб уровень земли пришелся наконец не только в уровень зданий (некоторые из них в 300 ф. высоты), но даже покрыл их на четыре ярда землей; а во-вторых, сколько промежуточного времени прошло между этим событием и временем, когда ныне 1200-летние баньяны стали пускать корни в эту наносную землю? По концентрическим кругам стволов[158] было доказано, что этим баньянам не менее двенадцати веков, а есть в лесу деревья старее и этих. Особенно одна группа этих Ficus indica поразила нас своим ростом, разве немногим менее знаменитого баньяна на берегу Нербудды, возле Броча и называемого в народе «Капир-Бар». Это последнее дерево – историческое. Ему было 700 лет уже тогда, когда Александр Македонский отдыхал под тенью его со всею своею армией. Теперь оно состоит из 356 толстых стволов и около 3000 меньших.
Мы кочевали в лесу целые три дня. Такуру были известны все закоулки и тропинки, и он сдержал свое слово. Он повел нас туда, куда действительно не заходила еще нога англичанина: в темное подземелье на глубине 110 с лишком футов под землей. Мы отправились туда до зари, когда еще все спали. Такур кроме нас взял с собою лишь одного Нараяна, да доверенного слугу, старого, седого раджпута, который сопровождал нас от самого Бомбея. У*** и мисс Б*** оставались в Джаджмоу с бабу и Мульджи, и даже не знали, когда и куда мы ушли. Это подземное путешествие осталось для меня, как и для полковника, самым интересным событием нашего путешествия – вероятно, вследствие его необычайной таинственности…
Более часу нам пришлось идти лесною чащей. Наконец мы вступили в узкое, заросшее кустарниками ущелье – не то природное, не то искусственное, разбирать было некогда. Впереди шел такур, за ним я, за мною Нараян, потом полковник со слугой раджпутом в замке. Пробираясь гуськом, мы шли в глубоком молчании, так как путь становился труден и было не до разговоров. Наконец мы стали спускаться по крутым извилистым ступенькам, у подошвы коих вышли на маленькую поляну. Направо у одинокой скалы стояла лачуга, в которую мы и вошли. Если не светло было в лесу, так как не совсем еще рассвело, то в этой мазанке, осененной густыми баньянами и прислоненной в упор к скале, которая таким образом служила ей задней стеной, царила полная темнота. Раджпут высек огня и зажег глухой фонарь, который и подал такуру. Тогда, взяв в одну руку фонарь, а другой мою руку, последний прошел со мной, как мне показалось, в этой египетской темноте прямо сквозь стену. Новость ли необычайного положения или просто следствие постоянно возбужденных нервов, но, признаюсь, при вступлении в эту неизвестную остальному миру подземную область меня стало сильно коробить; однако любопытство и стыд превозмогли, и я молча последовала за ним. Фонарь слабо освещал наш путь, бросая резкую полосу света лишь под самые ноги; кругом царила непроницаемая мгла, а меня неудержимо увлекала вперед мощная, одетая вся в белое фигура гиганта, лицо которого мне казалось теперь темнее самой ночи… Он быстро и не колеблясь шел вперед. Все молчали, и даже наши шаги беззвучно падали на ровный, мягкий грунт прохода, словно мы ступали по толстому ковру.
Вдруг такур остановился, крепко сжав мне руку.
– Чт это?… Неужели вы в самом деле и серьезно… трусите? – неожиданно спросил от меня, презрительно подчеркивая последнее слово. – Рука ваша дрожит как в лихорадке!..
Я почувствовала, как вся кровь хлынула мне в лицо при этой заслуженной обиде; но сделала то, что всякий другой сделал бы на моем месте: внутренне «поднялась на дыбы» и попробовала оправдаться.
– Я не трушу… да и бояться мне нечего… – пробормотала я, чувствуя в темноте вперенный в меня взгляд Гулаб Синга. – Я просто устала…
– Жен-щи-на… – тихо и как бы про себя прошептал с какой-то снисходительною горечью в голосе такур, но пошел тише.
Не имея в руках достаточно веских доказательств противного и не отрицая этого нового как мне самой, так и моему полу оскорбления, я проглотила его и смолчала. Так шли мы четверть часа, если не долее, по ровной, немного покатой и мягкой дороге и, как мне казалось, необыкновенно высокому проходу; мой старый приятель не выпускал моей руки, полковник уже начинал громко пыхтеть, а я внутренне злилась на собственную слабость и посрамление. Но вот наконец такур снова остановился и, высоко подняв фонарь, разом открыл все его глухие стенки. Пред нами явилась гладкая и ровная стена из скалы. Ни одной трещины не было видно на ней.
– Вот взгляните, – обратился Гулаб Синг к полковнику, – и убедитесь, какие чудеса совершали наши механики-предки, незнакомые, по мнению европейцев, с науками. Держу пари на чт угодно, что явись сюда все лучшие механики Запада, им никогда не открыть секрета этой… двери! Я вам теперь хочу доказать, что это – дверь, а не скала.
Наш любознательный президент, получивший когда-то медаль за лучшее сочинение о механике в Ранселаровском (Rensselaer) Технологическом Институте Трои (Нью-Йорк), стал зорко исследовать стену. Его старания увенчались полным фиаско. Ни постукиванье, ни ощупывание впадин ни к чему не привели. Между тем, пользуясь полным светом открытого фонаря, я разглядела местность. Род полукруглой комнаты, со скалистыми стенами и теряющимся на огромной высоте потолком; грунт словно усыпан черным порошком.
– Если верите мне на слово, – заметил наконец такур, терпеливо следивший за исследованиями полковника, – то я могу вас уверить, что этот ход прорыт и устроен много тысяч лет тому назад. Как видите, – добавил он, дотрагиваясь и напирая плечом на угол скалы, – «сыны Солнца» были хорошо знакомы с законом рычага и подъема, а также и с правилами центра тяжести еще до Архимеда. Иначе как бы они могли придумать вот это?…
И когда он напер сильнее и повернул какой-то незаметный в стене штифт, пред ним неслышно и тихо образовалось отверстие фута в два шириной и во весь его рост в высоту, – точно одна из новомодных дверей в американских домах, вся до замка ускользающая в стену. Но здесь дверной ручки не было; не видно было и продолбленной дверной стены…
Мы все вошли, и такур снова неуловимым движением и давлением на что-то задвинул стену. Невзирая на любопытство полковника и его бесконечные расспросы, н отказался выдать секрет прохода.
– Довольно того, что я доказываю вам, что эти тайные подземные ходы существуют уже много тысяч лет в Индии, – говорил он нам, – и еще более тысяч народа нашли здесь в разные времена спасение через тех, кто посвящен в тайну их существования. Теперь таких уже немного осталось, – добавил он, как мае послышалось, с нотой грусти в голосе. – И не успели они спасти против ее воли одну из храбрейших, благороднейших женщин Индии, последнюю из великих героинь нашей «матери!»…[159] Чрез несколько минут мы сядем отдохнуть, и тогда я вам расскажу эпизод из последнего мятежа. В Европе он почти, если не совсем, неизвестен…
Теперь мы шли по широкому, высокому коридору со сводом. По всей вероятности, последний сообщался, так или иначе, с поверхностью земли, ибо воздух в подземелье, хотя и немного сырой, был однако же чистый, невзирая на его 140 футов глубины под землей. Впрочем, дорога шла все время покато, немного под гору, и только к концу третьего коридора из пещеры, которую тотчас опишу, шла незаметно в гору. Очевидно, часть этих проходов была уже подземельем в то время, когда Асгарта еще находилась в числе других городов, процветая на земной поверхности. По обеим сторонам коридора нам попадались бездверные отверстия, продолговатые квадраты, ведущие в другие боковые ходы; но такур нас туда не водил, заметив только, что они ведут в жилья, т. е. иногда занимаемые покои. Что подземелье посещалось еще весьма недавно, в этом мне служила порукой находка старого измятого конверта, с какими-то иероглифическими знаками, но совершенно современного покроя и с клеем под запечатанною стороной. Весь этот проход, то есть коридоры, насколько мы могли судить, длиной верст в пять или шесть. Пройдя мили три, считая от потаенной двери, т. е. почти на середине между двумя ходами, мы очутились в природной и огромной пещере, с небольшим озером в центре и искусственными вырубленными из скал скамьями кругом бассейна. В воде, посреди озерка, стоял высокий гранитный столб, с пирамидальною верхушкой и толстой заржавленной цепью, обмотанной вокруг него. Уже идя по коридору, мы замечали, что временами темнота почти рассеивалась и слабый, словно сумеречный свет озарял нас в такие минуты сверху; в пещере же – вероятно самая низкая местность подземелья – было темно, как в Гизехской пирамиде. Но тут такур приготовил нам сюрприз. Он дал старому раджпуту приказание на непонятном для нас диалекте, и тот, словно снабженный глазами кошки, тотчас отправился куда-то в темноте, пошарил в углу и тут же начал зажигать один за другим факелы, вставляя их в приделанные к стенам железные кольца. Скоро вся пещера осветилась ярким блеском. Тогда, уставшие и крепко проголодавшиеся, мы разместились на окраине озера и принялись за корзину с провизией.
А теперь постараюсь вкратце рассказать историю как пещеры, так и обещанный такуром эпизод из мятежа 1857 года. Последний принадлежит прямо к истории, хотя англичане и старались исказить его, как исказили и даже скрыли многие из фактов этой позорной для них эпохи. Услыхав о нем впервые от Гулаб Лалл Синга, мы впоследствии узнали касающиеся этого случая интересные подробности от многих старых индусов, из коих некоторые были даже очевидцами в этом деле; а в одном случае и от англичанина, старого англо-индусского офицера.
О древнем городе Асгарте и его печальном конце Пураны рассказывают следующую легенду. Судаса-риши был священным главой духовенства «брахматмой»,[160] а его брат Агасти – махан-кшатрией (великим царем-воином) Асгарты. В отсутствие обоих, царством управляла махарани (великая царица), бывшая некогда кумарикой (Девой Солнца) во храме Сурья-Нари (Солнца-Природы). Ее красота пленила царя; и вот в самый момент ее приношения себя в жертву на алтаре огня (то есть религиозного самосожжения), он, воспользовавшись древним обычаем, дававшим право царям спасать индийских весталок от смерти, потребовал ее к себе в жены. До него уже раз явился другой претендент на ее руку, царь Гимавата, но она отказалась от предложения, предпочитая смерть в пламенных объятиях супруга-бога, священного огня. Оскорбленный за-гималайский царь поклялся отомстить. Много лет спустя, когда Агасти-царь был на войне в Ланке (Цейлоне), его побежденный соперник, воспользовавшись его отсутствием с войсками, сделал набег на Асгарту. Царица защищала свой город с храбростью отчаяния; но наконец он был взять приступом. Тогда, собрав всех «дев Сурьи» из храмов, жен и дочерей своих подданных и собственных детей, всего 69000 женщин, включая кумарик, царица заперлась в громадных подземельях храма Сурьи-Нари и, приказав построить священные костры вдоль всего подземелья, сожглась на них вместе с другими женщинами и всеми сокровищами города, предоставляя в распоряжение победителей лишь пустые здания.
Вернулся царь и, найдя на месте дворца, царицы и детей лишь пепел, бросился догонять победоносную армию. Настигнув ее, он разбил ее совершенно и, захватив вместе с царем ее 11000 пленных, вернулся к развалинам Асгарты. Здесь он заставил пленных выстроить на пепелище погибшего новый и еще более богатый город, и затем, когда он был окончен, соорудить посреди города, пред храмом Нари, костер, способный вместить в себе 11000 человек. На нем и гимаватский царь, и его воины, среди проклятий и поруганий со стороны всего народа Асгарты, были сожжены живыми в отмщение за погибшую царицу.
По преданию и древним летописям, уже пройденное нами подземелье, как и то, которое нам оставалось пройти, по другую сторону пещер, есть то самое подземелье храма, в котором сожглась царица. Этот мягкий грунт, принятый мною за черный и мельчайший песок, есть пепел 69000 женщин и кумарик, то есть девственниц!
Мы вышли из пещеры другим коридором, и этот узкий проход повел нас в гору. Дорога шла отлого; ноги также утопали, как и в первом, словно в мягком ковре. Наконец, круто повернув вправо, она привела нас к такой же глухой стене, как и первая. Единственная между двумя разница состояла в том, что запиравшая отверстие скала, вместо того чтоб уходить в боковую стену, при открытии опускалась вниз, оставляя низкую, фута в полтора, стенку, которую нам и пришлось перешагнуть. За этой стеной в небольшой пещере находится глубокий колодезь. Здесь кругом нас, на 16 миль в квадрате, погребены развалины давно усопшего города Асгарты.
Чтобы выбраться снова на землю, нам пришлось всходить три раза сряду по бесчисленным ступеням. Еще нечто вроде двери – камень между двумя скалами, поворачивающийся на чем-то неизвестном мне, – и мы снова в какой-то пещере; свет, хотя и слабый, ослепляет нас после восьми часов темноты. Выйдя на чистый воздух, мы почувствовали, как должен чувствовать себя человек, вышедший из прохладного погреба и залезший в духовую печь. Жара стояла невыносимая. Все спало в лесу и, кроме неумолкаемой трескотни кузнечиков, не слышно было ни шороха. Даже обезьяны дремали в листве… Был полдень, и нам приходилось, под страхом апоплексии, выжидать в тени, пока не спадет полуденный зной. Шагах в десяти стоял старый разрушенный храм, от которого остался один гопарам, ворота с комнатой или двумя внутри здания. Там мы скрылись от этого ужасного, невыносимого зноя, спугнув по дороге сотни разноцветных попугаев, сверкавших словно подвижная радуга пред нами своими блестящими крыльями на солнце…
Мы вернулись на кочевку к вечернему чаю.
Говорить подробнее о подземном путешествии не приходится по многим причинам, из коих главная та, что эта местность совершенно никому неизвестна; да и многое из виденного и слышанного нами так странно, что, вероятно, у меня не достало бы и слов для более точного описания. Есть и другие подземелья, например в Амбере, возле Джайпура, в которых не был еще, кроме нас, ни один европеец, также подземный, ведущий далеко под море ход из Элефанты, где, забравшись мили на две в его глубину, мы чуть было не задохлись, вместе с сопровождавшими нас парсами. Но про эти ходы известно и англичанам, хотя никто из последних еще не посещал их. Про подземелья же в Джаджмоу, к удивлению своему, сколько я ни расспрашивала англичан, никто ничего не знает. Недаром наш друг такур, взявший с нас честное слово никогда не намекать о дороге, ведущей к ним, так спокоен насчет их открытия англичанами. Индусы – народ скрытный и загадочный вообще;[161] а изо всех индусов такур загадочнее всех их, взятых вместе. Недавно, собираясь описывать эту поездку, спрашиваю его:
– Вы ничего не имеете против моего описания для русской публики вашего подземелья в Джаджмоу?
– Ровно ничего, – говорит, – коли надеетесь на свою память.
– В памяти я уверена. Но вы говорили, что англичанам самое даже существование этого места неизвестно? A если они, которые с жадностью читают все русские газеты, немедленно переводя все сколько-нибудь касающееся Индии и вообще Азии, прочтут мое описание да примут к сведению?
– Что ж из этого? Пусть принимают.
– А если пойдут искать, да и отыщут его?
Гулаб Синг как-то странно прищурился и посмотрел на меня не то пытливо, не то немного презрительно.
– Что же в моих словах такого странного? Кажется, предположение весьма естественное?
– Весьма… – подчеркнул такур, – только с точки зрения европейцев, а не с нашей. Извиняясь заранее в смелости, осмеливаюсь предположить, что я, быть может, немного более вас изучил не только англичан, но и человеческую природу вообще. А, изучив ее, скажу вам наперед следующее: девять шансов из десяти, что, прочитав это описание, всякий англичанин примет ваш рассказ за сочиненную вами сказку. Они народ слишком гордый и чванный, чтобы допустить, что есть такие места в их владениях, о которых они еще никогда не слыхали и куда не ставили еще своих часовых…
– Ну, а если билет вынется, как нарочно, с десятым нумером… что тогда?
– Тогда они пойдут на поиски и – ничего не отыщут.
– Да как же вы можете так наверное ручаться?… Ведь подземелье существует… Не исчезло же оно с лица земли?…
– Именно потому, что оно существует в действительности, они и не найдут его. Вот если бы вы выдумали его, то они нашли бы его непременно, если бы даже им пришлось для того прорыть его самим… Они бы сделали это, хоть бы для того, чтобы задать нам, туземцам, острастку и вместе показать дома – вот какие мы в Индии тонкие молодцы: ничто не ускользает от нашего всевидящего ока!.. Ведь сочиняли же они подложные политические корреспонденции и ловили мнимых политических преступников, подкупая для этого воров из острога; и все это только для того, чтоб оправдать ими же сочиненные и посланные самим себе доносы…
– Последнее предположение. Они, то есть все власти и их шпионы, знают, что вы были с нами в Канпуре и Джаджмоу… Ведь я опишу дело, как оно было… Если они пристанут к вам показать им, где это подземелье, – извините меня, – если они вздумают заставить вас открыть им эту тайну… что вы тогда станете делать?…
Такур засмеялся тем тихим, неслышным смехом, от которого меня всегда бросало и в жар и в холод.
– Успокойтесь, этого никогда быть не может. Но в случае, если б они вздумали «приставать», то предупреждаю вас наперед, что вы, а не я увидите себя в фальшивом положении. Поверьте, что я даже и слова не вымолвлю в таком случае, а предоставлю защиту коллектору моего округа и всем знающим меня жителям. А коллектор мистер В. донесет, что с 15 марта по 3 мая 1879 я не выезжал из своего «раджа» и что он посещал меня два раза в неделю, а жители, между прочим все англичане, подтвердят это…
С этими словами он встал и, сев на свою лошадь, простился и уехал, бросив мне на прощание следующее немного насмешливое замечание.
– Почем вы знаете… быть может, у меня есть брат близнец, о котором миру так же мало известно, как и о подземелье?… Вот запишите и это; не то и ваши земляки примут вас, вместе со всем нашим Теософическим Обществом, за дополненное издание барона Мюнхгаузена.
И наверное примут.
Подобное событие уже раз случилось с такуром. Его все видели в Пуне, где он открыто показывался в продолжение целого месяца. Когда же его захотели замешать в одно политическое дело, коллектор, магистрат и два миссионера показали, что Гулаб Лалл Синг не выезжал из своего поместья более шести месяцев. Заявляю факт, отказываясь, как и всегда, объяснить его. Еще не прошло и года, как оно случилось.
XXVIII
И вот мы в Дели – великом граде могулов. Если другие города и места Индии держали нас, словно очарованных, под влиянием волшебного сна с его мимолетными грезами о всем, что когда-либо являлось прелестного в архитектуре, то Дели остался навеки запечатленным в наших воспоминаниях как воплощение на вид несокрушимого и все же побежденного гиганта, уснувшего Самсона, оставившего свои густые пряди в руках предательской Далилы. Нигде во всей разоренной Индии не найдете вы стольких свидетельств о могуществе мусульманской империи, нигде не почувствуете себя столь вынужденными с благоговением преклониться пред памятью великих мастеров, создавших «Надир-Шах Моск», башню Кутаб, дворец Делийский, а главное, Тадж-Махал в Агре.
Дели вынырнул перед нами из-за пригорка, за несколько минут до солнечного заката, и мигом вызвал во мне воспоминание о золото-жемчужной столице Магометова рая, по рассказам Пророка. Во время одной из своих духовных экскурсий в эту вновь открытую им небесную область поэт-пророк имел случай видеть и подробно описать нам одного ангела, нижняя половина тела коего состояла из пламени, а верхняя из прозрачного льда: оба враждебные друг другу элемента превосходно уживались, нисколько не вредя друг другу. При первом взгляде на древнюю столицу Шах-Джагана мне припомнился образ этого ангела. Предположив, что Магомет пророчески узрел Дели в далеком будущем и при таком солнечном закате, его «огне-ледяной» ангел является лишь восточной и весьма верной метафорой этого города. Залитая багрово-золотистым пламенем заходящего солнца, вся нижняя часть дворцов, мечетей, минаретов Дели, построенная без исключения из красного песчаника, казалась громадным горящим костром, из недр которого высоко воздымалась, теряясь в прозрачной и уже потухающей синеве вечернего воздуха, верхняя часть строений – глыбы ослепительной белизны мраморных куполов, минаретов, башен… А надо всем этим, словно туловище и голова «ангела», водруженная на скалистом пригорке, столь высоком, что платформа, на которой она построена, стоит на 30 с лишком футов над уровнем самых высоких крыш Дели – возвышалась Джумма-Мусжид, главная мечеть города. С ее лесом башен, стенных зубцов и минаретов, над полосатою из черного и белого мрамора головой о трех куполах, эта мечеть – самая замечательная по своей оригинальности, если не по красоте, в Индии.[162] Зрелище было величественное и вырвало у всех нас единодушный крик удивления.
Древний город, на развалинах коего Шах-Джаган выстроил в XVII столетии Дели, назывался в истории Индии Индрапрештой, а затем Индерпутом. Основателем его был царь Юдхиштхира, смерть которого по древним летописям браминов последовала в 3101 году до Рождества Христова. До христианской эры история этой столицы покрыта непроницаемым мраком, среди которого изредка являются беглые проблески событий, историческая верность коих подтверждается историей других народов. Летопись Индерпута от самого его основания и до конца существует, конечно; но она в руках браминов и скрывается ими, как и многое другое, под тем предлогом, что пока будет продолжаться калиюга (черный период), арийцы не должны открывать своей истории «белым» врагам. А так как до конца этой и до начала будущей сатья-юги остается ждать 42721 год, то до тех пор наши ученые ориенталисты успеют и состариться, и не нашему поколению будут открыты великие тайны древней истории Индии. Европейские ученые мстят за это браминам, отвергая их показания и историческую достоверность даже того немногого, что туземные историографы соглашаются им поведать… А что помимо их известно и принято всеми – может быть рассказано в нескольких словах. Даже это представляет необычайный интерес, благодаря словно сказочным событиям…
Ничто не может сравниться с прелестью не только заветных уголков и исторических памятников полуразрушенного Дели, но и вообще окрестностей и даже городского вала. Эти еще грозные на вид стены, осеняемые густою бахромой акаций и финиковых пальм, красноречиво напоминают туристу о прежнем их величии и о тех славных рыцарских временах, когда на укрепленных валах прохаживались часовые непобедимых султанов – Акбара и Аурангзеба. Теперь, обрамленные траурною тенью темной сальвадоры, остались одни разбросанные по гласису минареты могил, гробницы да одинокие памятники навеки уснувших героев… И долго не забыть нам унылой, таинственной долины Кутаба! По этой долине, растягиваясь беспрерывной полосой в семь миль ширины и более чем на тридцать миль в длину, вдоль берега Джумны, разбросаны развалины не одного, а нескольких древних и новейших городов. Это целая эпопея из гранита и мрамора, эпическая поэма славного прошлого бессчетных поколений героев!.. От самого сада Шахлимара, у городских ворот, почти до полдороги к Агре, вся долина усеяна развалинами циклопических построек и разрушающимися зданиями более современной эпохи: когда-то грозных крепостей царей раджпутских; дворцов, мраморные стены коих точно изваяны руками фей; изразцовых башен, гранитных бастионов и странной, невиданной формы зданий. Вот обширные, как целые храмы, гробницы с гигантскими воротами и входными арками, словно пятимиллионная армия Ксеркса хоронила с военными почестями каждого покойника; разваленные обелиски – останки массивной Патанской архитектуры; уцелевшие комнаты от царских дворцов (ныне превращенных в хижины, в даровые квартиры парий), стены коих сооружены из кирпича, покрытого сплошь драгоценной эмалью и прелестнейшей мозаикой; древние золоченые купола, из трещин коих повырастали целые леса кактусов; куски стен – сквозных, как дорогое венецианское кружево, и развалины старинных языческих храмов, посвященных неизвестным богам, с жертвенниками, живопись которых доселе еще представляет ослепительно яркие цвета и свежесть будто вчера намазанных красок!.. Что ни шаг, то новая руина; куда ни взглянешь – опрокинутые стены, упавшие статуи, разбитые колонны… И среди этого чудного, диковинного мира как бы животрепещущих развалин царит и день и ночь мертвенная тишина. Что за дикая сцена запустения! Когда мы очутились в этой местности, нам почудилось, будто мы попали в сказочное царство «спящей красавицы»…
Обитель полного тления недаром зовется в народе Долиной Смерти. Ее избегает как пешеход, так и всадник: одни туристы рискуют еще вступать на проклятую почву. Ее когда-то великолепные чертоги повалились, мозаичные стены потрескались и стонут, задыхаясь в объятиях дикого кактуса. Только благодаря цепким ветвям этого растения они еще не совершенно рухнули, но стоят, словно приговоренные к смерти мученики…
Пять дней мы бродили по ним. Уходя из дома с рассветом, мы и завтракали и обедали среди этой обстановки прошлых веков, возвращаясь только к вечеру. Каким-то грустным, тоскливым чувством сжимается сердце при входе в эту пустынную долину, гробницу стольких поколений! Все кругом тихо, мертвенно, безмолвно… Ни малейшего звука не доносится даже с далеких городских стен, где угрюмо торчат среди памятников и минаретов тяжелые английские бастионы и где, следя за ними, точно вражьи глаза, чернеют на каждом из них по девять пушек, направленных на проходящих. Изредка лишь что-то шарахается под ногами, и встревоженный непривычными людскими шагами дикобраз, взъерошив иглы во все стороны и фыркая, как испуганная кошка, откатывается клубком в сторону; пролетит стая павлинов, затемняя на секунду дорогу и блестя дождем разноцветных искр; лань пугливо выглянет из-за темной зелени алоэ, да проскользнет в траве проворная ящерица, сверкая радужною спиной на солнце. Кругом ни единого отголоска. Разве только от времени до времени, среди этого тяжелого безмолвия, раздается еле различаемый ухом шорох, а вслед за ним легкой стук как бы оторвавшегося камешка: то рука неумолимого времени непрестанно производит работу разрушения над «Долиной Смерти», отрывая кирпич за кирпичом, камень за камнем от мозаичных стен древних чертогов: словно крупные мраморные слезы, роняют они на свои красные, как алая кровь, подножия. И падают они век за веком, пока, наконец, и чертоги, и самые стены не превратятся во прах…
По дороге, ведущей к долине Кутаба, на старом памятнике, у древней крепости Фероз-Шаха, я начертила карандашом известный стих Данте, надпись над воротами ада, как нельзя лучше подходящий к унылой долине и ведущему к ней пути…
- Per me si va nella citt dolente,
- Per me si va nell’ eterno dolore,
- Per me si va tra la perduta gente…[163]
Целые города мавзолеев и саркофагов из драгоценнейшего мрамора – вот все, что осталось от некогда богатейшей из мусульманских империй! «Эти белеющие вдали памятники», – говорил мне недавно один более других откровенный англичанин-судья, – «положительно производят на меня какое-то нервное, непонятное чувство страха, когда я сижу один по вечерам на балконе… Точно армия покойников в белых саванах, пришедшая требовать отчета в судьбе своих потомков»…
Проехав мимо красивой мечети с целой рощей минаретов, заглядывающих целый день в прозрачные воды залива реки, мы остановились возле «Джуммы Мусжид», великой мечети. С трех сторон невероятно широкие мраморные ступени ведут к трем главным воротам. Это целое путешествие в гору; крыши всего города находятся под ногами туриста на последней ступени. Что касается центральных, четвертых ворот, обращенных к востоку, то они считаются до того священными, что к ним не дозволено даже и близко подходить. Эти трое ворот ведут во двор – сквер в 450 футов с открытыми аркадами, окруженный с трех сторон колоннадами красных столбцов и с большим мраморным бассейном посредине, наполняемым особенным механизмом из нескольких источников в долине. На западной стороне, обращенной к востоку, т. е. к Мекке, возвышается мечеть – «Красавица Востока». Весь фасад покрыт толстыми плитами из белого мрамора, а вдоль карниза расстилаются надписи – стихи из Корана, буквами из черного мрамора с золотом в четыре фута длины каждая. Три огромные белые купола исполосованы таким же черным мрамором, а высокие минареты – красным и белым. Каждая из башенок является чудом изящества.
Была пятница и к тому же какой-то праздник, и на дворе, способном вместить 12000 народа, толпились правоверные. Наши индусы не пошли с нами, а остались внизу у знакомого, одного из несметных кумовей бабу. Мы же оставались в самой мечети всего несколько минут, так как, к великому афронту[164] У***, его и полковника заставили разуться и, по их уверению, вследствие этой прогулки по холодным мраморным плитам оба схватили насморк.
В несколько сот шагов от городской стены находится обсерватория, громадная, как и все остальное. Как и несколько других обсерваторий и по тому же плану, она была выстроена знаменитым раджей Джайпурским, Джей Сингом, ученым астрономом и астрологом начала XVIII столетия, тем самые астрологом, что, по желанию императора Магомет-шаха, преобразовал местный календарь. Кроме громадных солнечных часов, мы нашли на этом пространном, как целая площадь, дворе «азимутовые круги», как их представил нам Гулаб Синг, какой-то удивительной формы столбы для измерения высот и тому подобные ужасные орудия астрономии. Весь этот двор завален и застроен кривыми стенами, каменными треугольниками со ступенями, ведущими в пустое пространство, странными геометрическими фигурами из гранита «для местных астрологов», как мы узнали, и все это покрытое непонятными нам знаками, ужас наводящими абракадабрами, цифрами, среди которых один такур был как дома, а мы, бедные профаны, совершенно сконфузились и ушли домой с головною болью…
«Кутаб-Минар», башня в девяти милях от города, считается высочайшей колонной в нашем мире, даже и теперь, когда она глубоко осела и верхнюю часть ее отбило монией. Эта колонна, в настоящее время 349 футов высоты, по местным преданиям служила придворным магикам для их приятельских совещаний с «планетарными» духами. Действительно, судя по высоте башни, можно с достоверностью предположить, что эти стихийные жители часто спотыкались об оную и рвали себе крылья на ее острых зубцах. Быть может они для того и направили молнию, чтобы сокрушить последние?… От фундамента башня заостряется до верху, где, когда крышу еще не разгромило, умещались 12 магов, каждый с 12 фолиантами «заклинаний». Ее стены покрыты куфическими надписями и гигантскими буквами, выдолбленными на несколько футов глубины. Красная снизу до верху, высоко паря под облаками, «Кутаб-Минар» кажется издали каким-то чудовищным, кровавым восклицательным знаком, поставленным над «Долиной Смерти»…
Немного в стороне, распластавшись, как гриб, широко раскинутыми террасами, стоит особняком и под куполом пирамидальное, состоящее из четырех ярусов, замечательное строение. То «коллегия Акбара», знаменитая необычайной красотой своей резьбы и построенная им для сходок «мудрецов», нарочно приглашавшихся изо всех стран света для «религиозных диспутов».[165] Совершенно сквозное в нижней террасе, со стенами, покрытыми живописью, мозаикой, барельефами с инкрустациями всякого рода, нишами с выпуклою работой на золотом фоне и бесконечной вереницей геометрических узоров и надписей, это здание как бы служит великолепным преддверием к башне-великану…
Пять дней прошли как один день, и мы уезжали в тот вечер в Агру, древнюю столицу Акбара. Прощаясь, быть может навсегда, с долиной Кутаба, мы отправились отдохнуть в последний раз под тенью гигантской башни. Никто не знает, когда, кем и для чего именно она была построена. Черные мраморные полы четырех опоясывающих ее балкончиков покрыты теми же странными знаками, как и ступени ее внутренней витой лестницы. Ее четыре комнаты – одна в каждом ярусе – ведут чрез низкую дверь на наружную галерейку, и находились охотники подниматься по ней. Но мы отказались от подобного путешествия под облака: мы все начинали чувствовать признаки болезни, которую можно было бы назвать «индижестией[166] руин». У нас начинали являться по ночам кошмары в виде башен, дворцов и храмов. Но такур отправился с Нараяном-Кришнарао наверх, оставив нас под покровительством тезки последнего, бабу Нараяна Дасс Сена.
Вероятно и наш махратский Геркулес увидал в таинственной башне нечто очень страшное, потому что, когда оба сошли чрез полчаса вниз, такур казался серьезнее и суровее, нежели когда-либо, а смуглые щеки Нараяна совсем сделались земляного цвета и губы его нервно дрожали.
– Смотрите, – шепнул вполголоса мисс Б. неудержимый бенгалец, – смотрите, бьюсь об заклад, что такур-саиб вызывал для Нараяна одного из своих предков… на бедняге лица нет!..
Что-то глубоко-страдальческое и вместе с тем зловещее блеснуло в черных глазах брамина… Но он тотчас же опустил глаза и, сделав видимое над собою усилие, смолчал…
Я хотела вмешаться и разом остановить неуместные поддразнивания бабу, но такур предупредил меня. Не переменяя разговора, он незаметно отвел наши мысли от этого щекотливого предмета, дав им совершенно другое направление…
– Ты прав, бабу, – задумчиво отвечал он, не обратив ни малейшего внимания на очевидную иронию бенгальца, – нет во всей Индии местности более подходящей к вызыванию памяти о событиях великого прошлого моих раджпутских предков, чем эта башня!.. Здесь, – продолжал он, указывая на Дели, – полководцы и владетельные принцы Раджастхана были в конце XVII столетия в последний раз лишены престола по праву принадлежащего им царства, достояния их отцов… Здесь фанатические, жестокие могулы, водворясь на троне, завоеванном ими лишь хитростью, перевернули произвольно последнюю, кровавую страницу истории великой независимой Индии!..
По обыкновению своему, такур, проводив нас до железной дороги, простился и обещал встретить нас, быть может, в Агре, во всяком случае в Баратпуре. Мы расстались.
В дороге Нараян был неузнаваем и находился как бы под гнетом невыносимого бремени или печали. Бабу вертелся как бес пред заутреней; Мульджи по обыкновению молчал; а я думала, думала до одурения… Чт такое происходит между такуром и Нараяном?… Чт это за тайна… Кто знает!..
Как при нашем въезде в Дели, солнце и теперь садилось, утопая в расплавленном золоте облаков, а далеко на горизонте видится величественный «Кутаб-Минар», уже до половины окутанный в темно-фиолетовые ночные тени; верхняя часть башни еще горела как огненный столб в золотисто-оранжевом сиянии заходящего солнца…
Император Акбар, царь Соломон Индии, по великой премудрости своей, величайший как и любимейший из могульских повелителей Индии и единственный из них, память которого дорога наравне как магометанам, так и индусам. Последними он еще более, может быть, любим, так как всегда выказывал пристрастие к ним. Акбар Великолепный, Благословенный, Акбар-любимец богов и «Краса престола мира», вот прилагательные к его имени.
Акбар считался четвертым в поколении пророка Магомета; поэтому ему много и прощалось правоверными, хотя он много грешил против веры. Особенно оскорблял их император своими сомнениями и вечной погоней за истиной: «как будто вся божественная истина не сосредоточилась в нашем благословенном Пророке!» рассуждает один из его историков. Он имел страсть к изучению философии и питал глубокое благоговение к древним рукописям, назначая огромные премии за самые старинные летописи «шести великих вер Востока»: христианской, магометанской, иудейской и вер браминов, буддистов и парсов. Он почитал все шесть и не принадлежал ни к одной. Говорят, будто после него осталась кипа автографных рукописей и, чему еще труднее верится, будто они еще уцелели. Родившись в 1542 году, он умер в 1605, процарствовав около полустолетия. Не могу промолчать об одной странной, переданной мне истории – легенде, быть может, или просто вымышленной басне. Но так как она находится в тесной связи с историй России, совершенно совпадает с числами ее самых крупных исторических событий и называет одну известную русскую княжескую фамилию, то передаю, как слышала, продавая за то, за чт сама купила.
Как и все в Индии, Абкар слепо верил в астрологию и магию. Еще будучи принцем, он пристрастился к одному белолицему юноше, в одно прекрасное утро таинственно приведенному к нему во дворец. Затем юноша исчез, и один принц знал, кто и где он. Но, но восшествии Акбара на престол, тот снова явился и совершенно завладел императором. Никто не знал его настоящего имени и откуда являлся оба раза таинственный чужеземец, хотя при дворе, где толпились сотни иностранцев, «мудрецы с Востока, Юга и Севера», никто не обратил сперва на юношу особенного внимания; но вскоре завистники стали коситься на него и подкапываться под царскую милость. Рассказывали, будто юноша, презренный раб, пленник с далекого Севера, был подарен Акбару латинским полководцем из Афганистана. Интрига против этого чужеземца достигла наконец того, что жизнь его стала не в безопасности. Император испугался, и юноша в одно прекрасное утро также таинственно и во второй раз исчез, как и появился. Острастки ради и в виде внушения, Акбар притворился, будто не знает, куда его фаворит пропал, приказал его врагам предстать пред свои грозные очи, и в то утро несколько голов свалилось с плеч. Только чрез двенадцать лет человек еще молодой и в котором старожилы придворные, невзирая на перемену, скоро узнали пропавшего юношу, снова появился при дворе. Но возмужалый, важный и сосредоточенный, он был представлен самим императором всем придворным как ученый астролог и гуру (учитель), и двор повергся пред чужеземцем во прах на этот раз искренно и с сердечным трепетом, ибо слава молодого астролога предшествовала его появлению в Агре и о нем говорили шепотом и со сдержанным страхом. «Пандит Васишти Аджнубаху»[167] изучал сокровенные науки – «джаду» и «йога-видью» (то есть черную и белую магию) у самих диннов в недрах Гималаев, возле Бадрината, и сам великий император выбрал его своим гуру. Велик Аллах! Чужеземец обладает перстнем самого Сулимена (Соломона), владыки всех джиннов (духов). Правоверные, берегитесь оскорбить пандита!
Хроника уверяет, будто пандит Васишти Аджнубаху оставался при Акбаре до самой смерти последнего, а затем, хотя сам уже был в глубокой старости, неизвестно куда исчез. Уходя, он будто бы собрал своих учеников и сказал им следующие знаменательные слова: «Васишти Аджнубаху уходит и скоро исчезнет из этого дряхлого тела; но он не умрет, а появится в теле другого Аджнубаху, более великого и славного, который положит конец могульскому владычеству…[168] Аджанубаху II отмстит за Аджнубаху I, отечество коего было унижено и разграблено ненавистными сынами лжепророка». Сказав эту святотатственную в глазах учеников речь – старый колдун исчез – «будь его имя проклято», набожно добавляет мусульманский автор.[169]
Прошу читателя держать в памяти как подчеркнутую мною фразу, так и хронологию событий. Сделанное нами недавно открытие, быть может, и ничего не значит, но совпадения и имена многозначительны. Во всяком случае оно представляет более чем простой интерес для русских читателей. Легенд насчет пандита Васишти что деревьев в лесу дремучем; но я выбрала лишь ту, прямо относящуюся к делу. Что этот пандит был русский, взятый мальчиком в плен татарами во время победы Иоанна Грозного в 1552 над Золотой Ордой, при Казани, то это не представляет для меня теперь ни малейшего сомнения. А что касается вопроса: кто именно таков был этот легендарный «пандит», чт он имел общего с княжескими русскими фамилиями, то предоставляю это на разрешение самих читателей. Наша песня еще впереди, и самое странное из этой странной истории еще не сказано, хотя, конечно, одно имя Аджнубаху ничего еще не значит. Это прозвище дается здесь вообще всем адептам «тайных наук». Народная молва уверяет, будто особа, предназначенная судьбой сделаться «владыкой тайных сил природы», родится с весьма длинными руками… Возвращаюсь к истории.
Во время взятия Дели приступом в 1857-58 году, англичане ворвались наконец в город. Во время свалки и этой ужасной резни сипай хранитель сокровищ исчез, и о нем никогда не слыхали более. Чт сталось с сокровищами – не берусь сказать. Но ларчик с бумагами оставил по себе следы. По крайней мере, по рассказам, один из свитков пергамента находится у некоего воеводы Северо-Западных провинций. Рукописи написаны частью по-персидски, частью на языке хинди, и каждая бумага носит на себе собственную печать императора. Это заметки, записки, документы, кои в целом составляют как бы записную книжку императора Джеллал-Уддина Акбара. Узнала же я о существовании их и содержании одного из пергаментов следующим курьезным манером. Один из членов нашего Теософического Общества, близкий родственник обладающего таинственным свертком, пожелал узнать от меня, нет ли в числе русских княжеских фамилий имени и фамилии «Васишти Аджнубаху».
– Нет, никогда не слыхала, – говорю. – Есть у нас имя Василий, но не Васишти, а про «Аджанубаху» не слыхивала. Это чт же за имя такое? Аджнубаху в переводе с санскритского, кажется, «длинные руки» (аджну – длинные, баху – руки). Так прозывался Сиваджи, великий вождь махратов и основатель их царства? О нем, что ли, идет дело!..
– Нет, – говорит, – не совсем. Ну, а имя Лонгиманус есть в России?
– И того нет; а есть фамилия Долгоруких, если буквально перевести с латинского Лонгиманус и санскритского Аджнубаху.
– Ну вот и добрались, – замечает мне мой собеседник, – теперь для меня все ясно…
– A для меня так стало еще темнее!..
Тогда я узнала от него легенду о пандите Васиште и Акбаре и только что рассказанный мною эпизод при Дели. Записки Акбара интересовали его уже с давних пор. Хорошо знакомый с языками, он изучил заметки императора и, зная о легенде астролога Васишти в Агре, тотчас же смекнул, что одна из записей в них касается этого таинственного незнакомца. На все мои просьбы показать мне бумаги он должен был отказать мне, так как они хранятся в тайнике, известном одному их обладателю, старшему брату его. Но тут же обещал перевести слово в слово акбаровскую запись, которую он списал для себя. Он сдержал слово. Вот она, как была написана, по летосчислению мусульман, в 938 году хиджры.
Перевожу с английского перевода, сделанного из разбросанных заметок в документах Акбара.
Заметка 1-я. «В начале полнолуния, месяца морана 935 года (1557) приведен был из Гхэзни Патаном Асаф-Ханом, от „уламама“ (?), молодой москов. Взят и порабощен в Кипчак-Ханате (Золотая орда) при деревне Казани (?), в те дни, когда шейтан в образе московского царя, говорят, разбил ханов… Зовут молодого москова в переводе на наш язык хинди (то есть санскритский) Коср Васишта Аджнубаху,[170] также – Лонгиманус на языке португалов падри (миссионеров). Он сын старшего косра (князя), убитого в Кипчак-Ханате… Васишта говорит так: «Язык свой, московский, знаю; также языки Ирана и Патана. Учился астрологии и мудрости в Гилане (при Каспийском море). Оттуда повезли меня опять в Иран, где служил царю Тамасту. Падишах рассердился за дурной сон и подарил меня Асаф-Хану. Хочу учиться премудрости суфиев и саманов… (вероятно шраманов или шаманов, буддистов)… и хочу получить шаст (цепь, но в этом смысле талисман) с Великим Именем на нем»… «Пусть учится». А далее: «Отослан в Кашмир».
Заметка 2-я…«Вернулся для совещаний, получил Аллагу-Акбар.[171] Васишти отыскал Великое имя Хэ[172] и посвящает суфиев благословенной Рабии».[173]
А в 968 году рукой, по-видимому, самого императора, приписано: «Велик Васишта Аджнубаху!.. В его руках и луна, и солнце. Он сбросил таклид (ошейник) обманчивых религий и нашел истинную мудрость суфиев, выраженную в следующем стансе:
- «Как лампа, так и свет ее – одно,
- Одни глупцы лишь зрят в кумире и его брамине
- Отличные друг от друга два предмета»…[174]
…
Так кончаются эти выписки. Кто такой был Васишта Аджнубаху, останется, вероятно, навеки неразгаданной проблемой. Если то был один из князей Долгоруких, взятый в плен татарами при Иоанне Грозном, то ведь должно же это событие быть упомянутым где-нибудь в летописях этой фамилии, если не в истории? Но что он был русским – это мне доказано тем, что в одной «странной на неизвестном языке строчке», по выражению нашего друга, срисованной им с пергамента, я увидала и узнала подпись имени «князя Василия»; она начертана старинными церковными буквами и неумелым почерком, как писали наши прадеды триста лет назад, и подпись очень неясная; но как слово кнез, так и имя Василий могут быть сразу прочтены каждым русским.
Изумительны тайны твои, о седая, молчаливая древность! И чем более изучаем мы ее в Индии, тем тверже поселяется во мне непреодолимое убеждение, что как русские в частности, так и доисторическая Россия, Болгария и вообще все славянские народы теснее связаны с Арьявартой, нежели то известно истории или даже подозреваемо современными ориенталистами.
Не раз приходилось мне на этих страницах категорически заявлять, что я не имею ни малейшего притязания соперничать с учеными этнологами и филологами; но, невзирая на их авторитетные заключения, все же не могу удержаться, чтобы не противоречить им на каждом шагу, замечая, как часто и насколько их выводы, столь по-видимому логические и блестящие вне Индии, делаются слабыми и неправдоподобными для того, кто изучает страну на месте и принимает в соображение не только местные предания, но и гамоническое сочетание последних в отдаленнейших друг от друга пунктах страны. Вполне сознаю, что поступаю в этом случае в противность строгим научным принципам и выработанному новейшим языковедением методу; знаю, что, навостряя уши при одних фонетических сходствах между языками, помимо всяких других соображений, грешу против основных правил этимологии, установленных строгими языковедами и безропотно принимаемых в Европе последователями их школ. Профессор Макс Мюллер имеет полное право смотреть на меня с презрительной насмешкой и даже называть мой слух «диким», а теории unwissenschaftlich;[175] и все-таки, невзирая на этот жестокий урок (впрочем, счастливо пережитый мною), каждый раз, когда мне приходится в беседах наших с пандитами присутствовать при разговоре на санскритском языке или услыхать из уст нашего уважаемого друга и союзника свами Дайананда[176] его частое воззвание к ученику: «Дехи ме агни», то есть дай мне огня, то в неученой простоте духа своего не могу воздержаться, чтобы не воскликнуть: да это совсем по-русски!
Одна русская родственница моя, дама умная, образованная и весьма наблюдательная, хотя по-санскритски и неученая, недавно прислала мне следующее замечание в письме: «Ты, мать моя, пишет она, заступайся за брахманское Тримурти и фантазируй над сокровенным смыслом и началом оного сколько тебе угодно; а что твое Тримурти в русском переводе выходить просто три морды, так это уж несомненно». И она совершенно права, так как слово «мурти» по-санскритски значит лицо и идол; а «Тримурти» в буквальном переводе три лика, тройной образ Брахмы, Вишну и Шивы. Поэтому я не могу согласиться даже и с самим великим Максом Мюллером и сразу поверить ему, что «в немецком языке процент чисто санскритских слов гораздо более, нежели в славянском и русском».
Агра, как и разные другие города, построена на могилах многих предшественников. Настоящий ее вид самый плачевный. Грязь, вонь и ужасная, судя по наружному виду жилищ, нищета преобладают в мусульманских кварталах. Агра – преддверие в Раджастхан, род лакейской, в которой «господа» не живут, но чрез которую они только случайно проходят. Англичане, как и во всех других городах, отделясь китайской стеной казарм и гордости от туземцев, живут совершенно обособленно.
Но что за драгоценная жемчужина Тадж-Махал! Исчерпав все потоки красноречия в описаниях Дели, мне теперь приходится описывать это восьмое чудо света, и я чувствую себя совершенно неспособной исполнить подобную задачу. Если бы возможно было вызвать из таинственной области промелькнувшие на земле образы, о существовании которой нас учат алхимики и каббалисты, самые поэтические грезы Микеланджело, то, быть может, не видавший Таджа в действительности успел бы создать себе подходящий к нему образ. Далеко ото всякого другого здания, окруженный прелестнейшим садом, Тадж-Махал стоит один в своей невыразимой красоте на берегу голубой Джумны, отражающей его чистый, горделивый облик… Это здание до такой степени совершенно в своих архитектурных размерах, очаровательно и закончено в исполнении малейших деталей, и вместе с тем величественно в своей простоте, что не знаешь, чему более удивляться – плану ли, работе или же материалу!..
Этот материал – массы самого дорогого белого мрамора, изредка перемешанного с черным и желтым, перламутра, мозаики, яшмы, агата, изумрудов, аквамарина, жемчуга и сотни других камней. Мы еле могли поверить, что Тадж – работа смертных, и были вполне готовы проглотить местную легенду, уверяющую правоверных, будто неутешный халиф был вознесен во время сна некиим святым дервишем в райскую обитель Магомета, где сам Аллах повелел архангелу Гавриилу снять для него план одной из своих обителей. По этому плану и был выстроен Тадж-Махал над телом обожаемой супругом Мумтаз.
Взойдя на верхнюю площадку, в сорока шагах от вас, вы видите самый мавзолей, и просто замираете… Чувствуешь себя точно во сне: словно пред вашими глазами внезапно предстало видение из другого, лучшего, более чистого мира, и вы стараетесь опомниться, уверить себя, что вы наяву и что пред вами действительность, а не фантазия вашего воображения, греза из «Тысячи и одной ночи»!.. Корреспондент лондонской газеты «Illustrated News», известный в журнальном мире Симсон, живописец, архитектор и археолог, возвращаясь в прошлом году из Кабула в Англию, говорил мне, что он не взялся бы выстроить такого памятника за все бывшие сокровища Голконды. «Таких исполнителей нет более в нашем холодном, все-отрицающем веке», рассуждал современный артист. «Для одной отделки этой мраморной глыбы потребовались бы Фидий и Бенвенуто Челлини с Микеланджело им в подмогу»!.. Мнение это нисколько не преувеличено.
Пред вами мраморный фасад величественного в своей изящной простоте храма. Стены совершенно белые и гладкие. Только под стрельчатой аркой, над широким портиком, извиваются затейливые, сквозные, словно окаменелое кружево, украшения из того же материала, представляющие цветы, фрукты и арабески; да над карнизом купола и вдоль боковых стен тянутся узким бордюром изречения из Корана огромными золотыми буквами. Из-под портика вход прямо во внутренность огромной залы в мавзолее, окруженной коридорами и приделами. Те же ослепительной белизны стены с панелями, покрытыми мозаикой – гирлянды прелестнейших цветов из драгоценных камней. Некоторые из них так натуральны, артист так верно копировал природу, что рука невольно приближается к ним, как бы желая удостовериться, что то дело одного искусства. Ветки белого жасмина из перламутра перевиваются с красным гранатовым цветком из сердолика и деликатными усиками виноградной лозы и жимолости; а нежные олеандры выглядывают из роскошной зелени листвы. Все это выложено по белому мрамору не микроскопической мозаикой флорентинцев, а восточной мозаикой Индии, т. е. кусками такой величины и формы, что они не портят цельности драгоценного камня. Каждый листик, каждый лепесток – отдельный изумруд, яхонт, жемчужина или топаз; и насчитываешь иногда таких камней до ста штук для одной веточки цветов, а подобных этой ветке – сотни на панелях и решетках! Таинственный полумрак парил в этой обители смерти, и мы с первого взгляда не различили, сколько сокровищ погребено вместе с царской четой. Принесенные факелы, ярко осветив панели, разом зажгли миллионы драгоценных искр, вырывая у нас невольные крики удивления.
Потолок под куполом, освещаемый дневным светом из решетчатых стрельчатых окон, вырезанных в цельном мраморе стен, густо покрыт такими же цветами и фруктами из разноцветных камней; только, вместо гладкой поверхности, мозаика выложена на мраморных украшениях рельефом, так что издали действительно скорее напоминает собой цветущую беседку из живых растений, нежели бездушный камень. Раз увидев Тадж, турист уже готов прочитать без улыбки красноречивый отзыв некоего набожного местного историка, оканчивающего свое описание мавзолея следующим наивным заявлением: «Нет никакого сомнения, что план этого перла[177] Востока, которым мы, мусульмане Индии, так справедливо гордимся, был с самого своего начала предназначен великим Пророком, дабы внушить правоверным правильное понятие о благословенных райских обителях».
Прямо под сводом купола стоят два кенотафа, окруженные сквозной мраморной, как и все остальные, решеткой в шесть футов вышины, сверху донизу выложенною по узорам такими же драгоценными цветами и с бордюром, напоминающим цветы лилии. Резная работа до того мелка и изящна, что, невзирая на толщину решетки (в несколько дюймов), она представляет совершенное подобие кружева.
Осмотрев весь мавзолей, мы взобрались по витой лестнице на северный минарет и сидели, часа два, отдыхая в нем. Невозможно было оторваться от этой чудной картины. С минаретов окрестности Агры на иного миль кругом открываются, как на ладони. Разбросанные по обоим берегам извивающейся серебристой лентой Джумны виднеются великие памятники династии Тимура – крепости, дворцы, мечети, башни… Город с этой высоты теряет свой грязный вид и тонет в зелени кустов и деревьев.
Поселясь в двух шагах от Тадж-Махала, мы посещали его ежедневно.
Говорят, что после смерти его многолюбимой Мумтаз, идола души его, бедный халиф впал в глубокую меланхолию. Но вот явился святой дервиш и направил его мысли к сооружению умершей такого памятника, который удивил бы весь мир, обещая ему для этого покровительство Пророка. Дервиш сдержал слово. По первоначальному плану, халиф готовился выстроить и для себя совершенно подобный этому мавзолей на противоположном берегу Джумны, соединив оба памятника мостом из белого мрамора. Но задолго еще до окончания Таджа император заболел и сам очутился у преддверия смерти. Тогда его четыре сына, дети Мумтаз, не дожидаясь его смерти, затеяли войну за престол. Аурангзеб остался победителем в этом почтительном сыновнем турнире и запер как трех братьев, так и собственного отца в Гвальйорскую крепость – род Бастилии Индии.
По смерти узника-отца Аурангзеб, как истый магометанин и почтительный сын, воздал всякую честь переставшему быть опасным родителю. Он похоронил его возле «Венца Сераля» и окончил мавзолей на деньги перерезанных для этого случая богатых вельмож. Он даже пошел далее отца в бешеных издержках: соорудил пред настоящими воротами в сад другие ворота из чистого серебра с целыми главами Корана, вычеканенными на них и украшенными, как кубок Бенвенуто Челлини.
За последнее десятилетие могулов крепко колотили махраты, и бедные правоверные очень этим огорчались, тем более, что махраты действовали под предводительством непобедимого Сиваджи – декканского Ильи Муромца. Аджанубаху II, по пророчеству пандита Васишти, угрожал захватить в свои «длинные руки» все дотоле покоренные императором государства Индии[178] и отмстить за родину Аджанубаха I. Вдруг Аурангзеб (буквально «краса престола») затрясся, как осиновый лист, и, вскочив, молча и с полными ужаса глазами, указал придворным в угол. Придворные ничего в углу не увидали, но все слышали, как раздался чей-то дряхлый, но громкий голос и слова «горе… горе великому дому Тимура! Пришел конец его величию!..» Император повалился без чувств. Он клялся, что видел тень своего предка Акбара, который и повторил это ужасное пророчество, уже раз произнесенное им, по преданию, на смертном одре…
С той минуты все царство пошло вверх дном и разорилось во прах. Аурангзеб умер в 1707, а с «красою престола» исчезло и все величие его династии.
«Великий храм» Сумната, индийского Озириса, бога, перед судом коего являются души умерших и от которого зависит их будущий образ по закону метемпсихоза, один из огромнейших и богатейших в Индии. Он находится в Гуджарате, на берегу Индийского океана. Во времена Махмуда при этой пагоде состояло 2000 жрецов, 500 танцовщиц (научей), 300 священных свирельщиков и 300 брадобреев. Узнав о его богатстве, султан решился заглянуть в него и поделиться добычей с богом. Войдя в храм, он увидел себя в просторной зале со сводом, поддерживаемым 56 серебряными колоннами и с золотыми богами по стенам. Приказав солдатам уложить божков в обоз, Махмуд подошел к великому идолу Сумната и без разговоров отбил ему нос. Тогда брамины попадали ему в ноги и молили пощадить их великое божество, предлагая ему за милость столь громадную сумму денег, что его визирь советовал ему принять предложение. Но султан был строгий магометанин и отверг предложение, за чт и был вознагражден Пророком. Когда Сумната разбили на куски, то внутри его нашли несметное сокровище, состоящее из жемчуга и бриллиантов, на сумму вдесятеро бльшую той, чт предлагали брамины. Таким образом добродетель еще раз восторжествовала на земле.
Самый дворец, где был заключен Шах-Джаган, уже в развалинах, но от него мы прошли в зенану (гарем) через двор, где Тавернье видел и свое время ванну в 40 футов длины и 25 ширины из серого мрамора. Все стены бессчетных комнат покрыты тысячами выпуклых зеркал на персидский манер; и здесь опять все из белого мрамора – крыши, колонны, столбы, стены… Отдельные прелестные павильоны висят, словно кружевные звезды, на своих красных пьедесталах, окруженные сквозными балкончиками, покрытые вьющимися растениями. Все эти чудеса архитектуры, где люди жили, любили и страдали, все это ныне пусто, заброшено и словно заснуло непробудным сном… Одни зеленые попугаи прерывают торжественное молчание этой нежилой части крепости, пробуждая ленивое эхо; да голубокрылые пташки вьют гнезда в углублении панелей, каждый отдельный кусок коих может служить образцом резчику.
Ночью, при лунном свете, это место представляет нечто волшебное. Словно воевода-мороз пролетел над королевством спящей царевны и покрыл все здания узорчатым инеем… Эта волшебная ажурная работа скорее походит на миниатюрную резьбу из слоновой кости, нежели на что-либо знакомое нам в произведениях европейских мраморщиков.
Тут же, в крепости, через стену от Тадж-Махала, «Моти Мусжид», мечеть, выстроенная Шах-Джаганом во время его семилетнего заключения. Прежде всего другого осмотренный мавзолей помешал нам отдать должную справедливость «жемчужной мечети». Но она, поистине, драгоценнейшая жемчужина меж всеми мечетями. Совершенная по архитектурной форме, в высшей степени поэтическая по обстановке, белая, как вновь выпавший снег, без малейшей примеси другого цвета, она к тому же останавливает внимание и заслуживает симпатию посетителей уже вследствие своей печальной легенды. Говорят, будто идея построить эту прелестную мечеть принадлежит Джеханари, любимой дочери султана-узника. Видя страдания отца и его безутешную печаль, принцесса, которая настояла, чтобы разделять с ним его заключение, придумала и уговорила его заняться этой работой, которая одна могла, по ее мнению, рассеять его меланхолию. Уверяют, будто, соглашаясь, свергнутый султан воскликнул в глубокой сердечной горести своей: «Да будет по-твоему, дочь моя, и да назовется будущая святая мечеть „Жемчужиной“… Ибо, как настоящая жемчужина, обязанная своим зародышем, развитием и красотой внутри раковины страданиям и мукам жилицы оной, так Моти Мусжид да будет обязана своим существованием неисходному горю, испытываемому злосчастным отцом жестокого Аурангзеба!» И вот задуманная мечеть, дитя горьких часов заключения, вдруг появилась, канув у подножия Тадж-Махала, словно застывшая слеза «ангела судеб», обязанного вносить в книгу раскаяния все земное горе и страдание.
Впоследствии мы видели в Дели последнее жилище, могилу преданной дочери султана – Джеханари: по внешнему виду – горделивый белый мраморный саркофаг со скульптурными украшениями и мозаикой, как и все прочее; но внутри мавзолея зеленый свежий садик с незатейливым партером и цветами, которые ежедневно и с величайшим тщанием поливает старый сгорбленный могул, ставший полуидиотом после пережитых им ужасов Дели. Живая развалина среди мертвых руин, этот старик – воплощение неизменной любви и преданности к угасшему дому падишахов – единственный и последний потомок длинного ряда доверенных слуг султанов, избежавший общей участи только вследствие своей дряхлости и ничтожества. Ему лет под сто. Дрожа и шатаясь на костлявых ногах, он повел нас во внутрь, указав на стене погребальной залы эпитафию, сочиненную самою Джеханари перед ранней смертью и вырезанной по ее желанию на ее гробнице. Принцесса просит, чтобы одни цветы и трава указывали место, где будет лежать ее прах… «Пусть одни цветы, сорванные рукой Аллаха, смешиваются с тлеющим остовом смертного пилигрима – Джеханари… Они – лучшее украшение последней обители освобожденного от земных оков духа…» – говорит между прочим надпись. Мы дали несколько монет могульскому Кащею и, верный до гроба, слуга, спрятав их в высокой траве и поглаживая дрожащею рукой мрамор саркофага, тут же стал шептать, как бы обращаясь к самой покойнице: «Я куплю тебе, Бегум-ханум, новые цветочки… я посажу тебе взамен погибших, увядших роз свежие!..» В Тадж-Махале, во время назойливых попрошайничеств жирного и час за часом богатеющего муллы, который не отставал от нас прося для своего халифа «еще одну, только одну рупию», мне вспомнилась эта сцена. Бедный, дряхлый Кащей, вся догорающая жизнь коего сосредоточилась на могиле умершей за два века до того принцессы, только потому, что она была прабабкой его любимых убитых господ, возник предо мною, как последнее проявление в нашем веке горячей преданности к нам нашей «меньшей братии»…
В этой пространной крепости, в отделении гарема на каждом шагу натыкаешься на замурованные комнаты, тайники и подземные ходы, заделанные века тому назад и нечаянно найденные англичанами. Сколько кровавых, страшных сцен произошло внутри этой крепостной ограды! Сколько жертв, долгих мук и роковых, навеки погребенных тайн!.. Пройдя длинный ряд коридоров, нам показали место, где английские инженеры, пробив глухую стену, нашли в ней расположенную над рекой келью; в келье три широко ухмыляющиеся скелета – молодого человека и двух женщин, одной старой, другой молодой. Последняя была богато одета и вся покрыта дорогими каменьями. Здесь их замуровали, оставив погибнуть голодной смертью; как бы из желания довести их предсмертные муки до nec plus ultra[179] утонченной жестокости, посреди комнаты чернело отверстие глубокого колодца, с журчащею внизу водой, заделанное толстой железной решеткой… В одном из подземных проходов была найдена почти бездонная пропасть, поперек жерла коей было вделано толстое бревно. На этом бревне, словно пучки сухой травы, на веревке висело около дюжины женских скелетов!.. Сколько таких молодых жизней попадало с этого бревна и ужасную, черную пропасть, никто не знает, разве один ангел смерти. Но Азраил не выдает тайн своих, особенно нам, неверным, ибо, по просьбе Магомета, он более не является в видимой оболочке…[180] Таким образом гаремная жизнь представляется чрезвычайно привлекательной, и нам остается лишь позавидовать счастливым Зюлейкам…
Милях в девяти от городских ворот, на поляне, в саду деревни Секундры, похоронен сам великий Акбар. Его мавзолей – второе издание его крепости, только в уменьшенном виде. Он занимает сорок десятин земли, стоит в саду или скорее в загороженном парке, разбитом на несколько верст в квадрате. Мавзолей находится на четырех постепенно уменьшающихся кверху террасах, с обычными минаретами, увенчанными куполами по углам. Все купола покрыты черепицами из мозаичной работы – зеленой и голубой с золотом. Непостижимо, как ни краски, ни накладная работа не изменились ни на одну полутень в продолжение целых трех веков в климате, где сырость и жара губят в один год самые прочные работы европейских мастеров.
На саркофаге выложены золотом и персидскими буквами девяносто девять качеств Аллаха.
На другое утро мы расстались с Агрой рано; так рано, что заря не успела даже еще зарумянить белоснежные купола Тадж-Махала!.. Нам предстояло сделать двадцать четыре мили до завтрака, приготовленного для нас в Футхепуре Сикри – знаменитейших развалинах северо-западных провинций, где нас ожидал наш друг и покровитель – такур. Гулаб Лалл Синг даже и не заглянул в Агру – место, которое он почему-то ненавидел, хотя он полуобещал встретить нас там. Но мы давно уже привыкли к его своеобразным действиям, к его неожиданным появлениям и таким же исчезновениям, и никогда ни о чем его не расспрашивали.
В это утро мы оставляли чисто британскую территорию и вступали на классическую землю Раджастхана – родину такура, которой он так гордится и история коей прослежена английскими ориенталистами за 600 лет до Ксеркса, а Тодом за 3000 до Р. Х.; то земля сказочных и исторических героев, бешеной удали и рыцарских чувств к женскому полу, столь мало ценимому, презираемому и даже угнетаемому во всей остальной Индии… Здесь Гулаб Синг был у себя и готовился принимать нас хозяином. Нам словно легче дышалось… Едва дребезжащие, полуразваленные вагоны поезда, идущего до Джайпура, остановились у Футхепурской станции, как у всех нас, за исключением двух англичан, вырвался крик облегчения. В одну секунду, как бы выросшие из-под земли, щитоносцы такура перенесли наш багаж в кареты, присланные деваном (министром) махараджи Баратпурского. «Его высочество в Хардваре, на богомолье, но деван к вашим услугам и приказал простереться пред американскими братьями-саибами», проговорил высокий юный раджпут с длинными волосами и в белом тюрбане: «Кареты к вашим услугам».
А вот и такур-саиб… верхом и с полдюжиной плечистых, бородатых, длинно-кудрявых оруженосцев, которых мы еще не видали… Черный силуэт всадника ярко обрисовывается на безоблачном темно-синем горизонте, и громадная фигура напоминает мне конную статую Петра Великого. Мы все довольны…
XXIX
Быстро проходили дни и недели и еще быстрее передвигались мы с места на место; но, несмотря на то, что не теряли времени, мы не видали и двадцатой доли тех исторически знаменитых мест, которыми славится Индия. А между тем жара становилась с каждым днем ужаснее. В начале мая она достигает вообще по всему Индостану своей высшей точки; но Раджастхан является в этом смертельном месяце даже в Индии пеклом, в сравнении с которым сам Аллахабад способен обворожить своей прохладой. В то время как в Петербурге и Москве поля еле начинают одеваться молодой зеленью, а кусты сирени еще стоят обнаженные, на палящих равнинах Раджпутаны все уже испеклось, пережарилось, и поверхность земной коры, как сухарь, слишком долго оставленный в духовой печи, пересохнув, начинает рассыпаться прахом. Ее огромные поляны, выгорелые, печальные, желто-бурого цвета, в местах, где они не столь густо заселены, напоминают русские степи: тот же сухой ковыль, то же частое марево на раскаленном горизонте…
Словно высохшая до мозга костей старица, дремлет вокруг нас усталая, угасающая природа Индии, доживая под палящими стрелами свирепого солнца «сезон жары». Весна, лето, зима и осень для туземца лишь звук безо всякого значения. У индуса всего три времени года, и, говоря о них, он различает сезон «жаркий», «холодный» и «сезон дождей». Через три-четыре недели на ярко яхонтовом, девять месяцев в году безоблачном небе, покажутся первые дождевые облака… Загремит гром, подымутся на Бенгальских берегах циклоны и опустошительные бури. Погибнет несколько человек, разрушится несколько зданий; но зато, пролетев с юга, ураган принесет на мощных крыльях своих столь желанный муссон, весь пропитанный ароматами Цейлона и Южной Индии. И вот снова, в два-три дня, под проливным дождем зацветает вся Индия от Гималаев до Кумари. Затопленные равнины Раджастхана превратятся в моря, из глубины коих будут торчать лишь скалы такуров с их полуразрушенными крепостями и замками. Эти скалы, рассеянные теперь, словно безобразные бородавки, по лицу Сурьявансы – «Земли Солнца» – обмоются и зацветут, и снова все заликует в природе… Закукует кукушка – певец любви Индостана, птица, посвященная Каме, божку любви. Подымется пар от земли – благоуханнейший изо всех ароматов природы в понятиях индуса – пар от первого дождя, и начнутся свадьбы, пиры и веселье…
Но пока до дождя, «возлюбленного земли», по словам греческого поэта, – Раджпутана могла нам предложить не более того, что сама имела. Кругом все выжжено, и нечему уж более выгорать. Все мертво и безмолвно, и на голых полях не видно даже обычной фигуры земледельца, бедного черного скелета, копающегося на них, словно крот, во все остальные времена года… До первых дождей ему нечего делать в поле. В подобный зной даже выносливый верблюд покорно ложится, где попало: жвачка теряет для него всю прелесть, и по целым дням он либо непробудно спит, либо тут же издыхает. Все словно вымерло, застыло в природе, и деятельность ее проявляется теперь в одной смерти да тлении… В такие дни птицы десятками падают мертвые на сухую землю. Общее безмолвие прерывается лишь длинной, жалобной трелью ястреба, где-то недвижно висящего на воздушных горячих струях, да где-нибудь на бугорке стая коршунов, окружив падаль, стоит не двигаясь, понурив голову и не трогая лакомой пищи, довольствуется одними грезами. Смерть в разнообразнейших видах парит над головой европейца. Она мигает на него из дрожащих световых волн, угрожая солнечным ударом; тихо подкрадывается к нему в вагоне, суля «апоплексию от жары»,[181] причиняемую на железной дороге рассекаемым быстротой движения раскаленным воздухом, дома – удушливой температурой. Она ждет жертву в каждом затемненном, сравнительно прохладном уголку, куда сырость поливаемых ставен и дверей привлекает ядовитых тысяченожек, скорпионов, даже змей.
Смерть в Индии не пропустит ни одного случая: она лучший союзник туземца и она часто избавляет его от тирана. Она сторожит англо-индийца из-за каждого угла; все средства для нее хороши. Вечно потеющий англичанин находит ее всюду: в искусственной прохладе; панки, осуществляющей в Индии perpetuum mobile,[182] – под колыханием коей он ест, спит, пьет, ругается, дерется и отправляет служебные обязанности, – как и в каждом стакане питья со льдом. Воспаление легких и холера прекращают его карьеру в несколько часов.
Все это нам было известно, и мы были предупреждены о раджпутанском зное. Но до тех пор все нам сходило с рук, и безнаказанность сделала нас дерзкими. В Дели такур нам сказал: «Не бойтесь; за вас двух я ручаюсь, и если оба наши англичанина послушают моего совета, то поручусь и за них»… И мы были совершенно спокойны.
Все более и более – я говорю о полковнике и о себе – овладевал такур нашею волей, всеми нашими помыслами. А заручившись всем нашим умом и душой, раздражив наше любопытство до крайних пределов, заставив нас чувствовать, что по одному мановению руки его мы готовы последовать за ним без колебания и метафоры – в огонь и воду, овладев наконец окончательно нашей волей, он видимо не пожелал воспользоваться своими преимуществами… Всегда ровный и приветливый со всеми, он был с нами, быть может, минутами ласковее, но также непроницаемо замкнут насчет своих таинственных несомненных познаний в «тайной науке», как и с прочими. Что он знал о нашем страстном желании поучиться у него, получить объяснение его необычайной, а для нас абсолютно доказанной психологической силы – это также для меня несомненно, как и то, что он, находясь в эту минуту в Тибете, знает, если только желает знать, каждое слово из того, что я пишу. Но, зная это, он молчал. Минутами мне казалось, что он будто изучает нас; желает убедиться, насколько он может довериться нам, и я боялась говорить о нем даже с полковником. Принадлежа к нашему «обществу», он оставался простым членом, отказавшись даже от не раз предлагаемого ему звания «почетного члена общего совета». Один из таких главных советников Теософического Общества в Лондоне, лорд и граф и, главное, человек признанный одним из ученейших членов Королевского Общества, зная о нем, писал в прошлом году другому члену совета нашего Общества, редактору главного журнала правительства: «Ради Бога, просите такура ответить мне, есть ли для меня надежда достичь результатов, которых я тщетно ожидаю вот уже пятнадцать лет… Спиритизм изменнически предал меня. Феномены его – факт; объяснения – чушь. Как возобновить прежние сношения с тем, с кем я когда-то разговаривал так свободно за три тысячи миль, каждый из нас в своей комнате?… Теперь все исчезло, он не слышит меня более, даже не чувствует… Почему?!!..» Когда я передала такуру письмо по просьбе редактора, Гулаб Синг просил меня написать под его диктовку следующее: «Милорд, – вы англичанин и ваша вседневная жизнь вся проходит по английскому шаблону. Честолюбие и парламент начали дело разрушения, мясная пища и вино окончили оное. Для ассимиляции духа человека со всемирной душой Парабрахмы существует лишь одна узкая и тернистая тропа, по которой вы не пойдете. Материальный человек убил в вас духовного. Вы один можете воскресить последнего и никто другой на это не способен…»
Конечно, скептики и материалисты, как те, которые приписывают явления спиритизма нечистой силе, так и другие, убежденные, что после смерти от нас ничего не останется, а будет, по выражению Базарова, «лопух расти», ничему этому не поверят, а одни станут нас с такурами и лордами подымать на смех, другие открещиваться от нас. Но к этому нам не привыкать стать. Зато люди серьезные, ученые, опытные в медиумических явлениях, как профессоры Бутлеров, Вагнер, Цёльнер, Уоллас и другие, которых факты победили и принудили признать за факты, эти ученые, убедившиеся в существовании силы, способной завязывать узлы на бесконечной веревке, поверят реальности странных и необъяснимых феноменов, виденных нами в Индии. В одном мы разойдемся с ними: они верят, что невидимая сила, работающая над превращениями материи на спиритических сеансах, принадлежит духам: мы не верим в активное вмешательство усопших и приписываем эту силу лишь духу живого человека. Кто из нас прав, кто ошибается, может решить только время. Прежде всего люди должны убедиться в объективности этих спорных явлений, а затем уже приниматься за объяснение их. Спиритизму более всего повредила теория верующих в него.
Все вышесказанное не отступление от моего рассказа, а необходимое объяснение тому, чт следует. «Письма из Пещер и Дебрей Индостана» не одно географическое и этнографическое описание Индии со вплетенными в него фиктивными героями и героинями, а скорее дневник главных членов Теософического Общества, с которыми начали уже считаться и спиритизм, и материализм в Европе, а главное – неряшливые ориенталисты.
Садясь в экипаж махараджи Баратпурского, мы ужаснулись, еле коснувшись до него. То было огромное полуоткрытое ландо времен царя Гороха, довольно удобное, впрочем, и способное легко вмещать шесть и даже восемь человек. Но сиденье его, в ожидании нашего приезда, успело превратиться в кресло, на котором поджаривались когда-то жертвы инквизиции… На подножках и железной обшивке ландо можно было готовить яичницу, а от прикосновения голой руки к его стенке у меня слезла кожа на ладони. В ужасе отдернув руку, я не решалась садиться; и даже бравый полковник остановился в смущении… В такой колеснице разъезжает, вероятно, один Вельзевул, князь ада!
– Вам нельзя будет ехать до вечера в этой коляске, – заметил такур, хмурясь. – Придется провести день здесь поблизости. Войдите в буфет, пока я пошлю за крытой каретой…
Последовало совещание. До волшебных садов Дига, поливаемых 600 фонтанами (исторически известное наследие Баратпурских махараджей) было 18 миль; до столицы штата 5; до места завтрака 15. Поезд опоздал, и было уже десять часов. Ехать в самый полуденный жар, когда и теперь у нас кружилась голова и темнело в глазах, было бы безумием. Все, кроме такура, даже индусы побледнели, то есть сделались земляного цвета, и обвевались шарфами… Один бабу, казалось, блаженствовал. Простоволосый, как и всегда, и подпрыгивая на переднем сиденье, на котором уже уселся с ногами, он нырял в волнах раскаленного воздуха, как другой ныряет в прохладных струях реки, уверяя, что вовсе еще не так жарко, и что в Бенгалии такой день считался бы многими прохладным.
Пока такур отдавал приказание, и два оруженосца поскакали куда-то за каретой, мисс Б***, совершенно изнемогая от жары и придираясь ко всему и всем, сочла своим долгом оскорбиться словами бабу:
– C'est du persifflage, cela!..[183] – повторила она, обмахиваясь в волнения. – Ему прохладно, когда мы все умираем от жары!..
– Ну, а вам-то чт до этого?… разве вы можете запретить человеку чувствовать себя иначе, нежели себя чувствуете вы? – уговаривала я ее, предчувствуя новую между ними ссору.
– Но ведь это он нарочно!.. Он смеется над нами, – громко ворчала старая дева. – Он, как и все индусы, ненавидит нас, англичан! Он радуется нашим страданиям!..
– Совершенно напрасно так думаете, – поддразнивал ее бабу из коляски. – Я вовсе не ненавижу наших добрых повелителей. Только когда им жарко, мне всегда бывает прохладно и – vice versa… Садитесь возле меня, и я вас стану обмахивать ашим веером… Вы знаете, как я вас… уважаю!..
– Прошу вас не учить меня, если я даже и ошиблась! – взвизгнула она, бледнея от бешенства. – Не вашей… расе учить нас – англичан!
– Я вам серьезно советую быть осторожнее… при такой жаре, – вмешался такур, слезая с лошади и многозначительно подчеркивая последние слова. – Малейшее волнение может оказаться гибельным в нашем климате, которого даже и английская власть не сумела еще поработить.
И снова та же острая молния сверкнула в полузакрытых глазах раджпута, и ноздри слегка дрогнули при тоне презрения, с каким она произнесла слова «ваша раса». Но рассвирепевшая островитянка уже закусила удила, и остановить ее не было возможности.
– Мы не можем долее пребывать в гармонии, необходимой для приятного путешествия, – объявила она. – Пусть господин президент выбирает теперь между членами европейцами и азиатами!..
– Тут никакого не может быть выбора, – медленно начал он, сильно разгневанный и выколачивая в своем смущении горячую золу из трубки на подушки ландо его светлости. – Все члены вверенного мне в Нью-Йорке общества, к какой бы они расе или религии ни принадлежали, равно уважаемы мной и дороги Центральному Обществу. От выбора поэтому я отказываюсь; а о праве своем решать споры и недоразумения между членами – заявляю. Я слышал каждое слово вашего… немного крупного разговора и должен сознаться, что не нахожу в нем ничего похожего на ссору!.. Почтенная мисс Б*** вспылила и наговорила дерзостей бабу. Он промолчал и поступил как джентльмен. Надеюсь, что мисс Б*** теперь поймет, что оскорблен он, а не она, а в его лице и прочие члены-туземцы; надеюсь, что она присоединит к моей и свою просьбу, чтоб они забыли эту пустую вспышку и попросит наших добрых, уважаемых друзей не уезжать от нас…
Мисс Б*** вся затряслась от бешенства.
Стоя в двух шагах от меня и облокотясь на седло, такур не спускал с нее широко открытых зрачков, блестевших в эту минуту каким-то зловещим фосфорическим сиянием. Нараян, опустив глаза и голову, молчал; но на сильно закушенной губе его выступила крупная капля крови…
– Как! мне… мне просить у него извинения?… – прошипела англичанка. – Мне… когда он…
«Вот тебе и „Братство человечества“, подумалось мне.
Такур вдруг быстро протянул к ней руку… Захлебываясь и бормоча несвязные звуки, она неожиданно грохнулась, как скошенный сноп, хрипя и в судорогах, прямо в объятия У***, на руки которого Гулаб Синг ловко перебросил ее падающее тело…
– Так и есть, как я ее предупреждал, – тихо и спокойно произнес такур, наклоняясь над сильно вздрагивавшим телом. – Солнечный удар; несите ее в дамскую уборную!
Оскорбленный мисс Б*** бабу пошел на отчаянное средство и – явился ее и нашим спасителем. Он побежал с Нараяном в поле и принес целую охапку травы под названием кузимах. Эта трава, имеющая свойство крапивы, покрывает тело вследствие одного легкого прикосновения к ней сыпью и ужасными волдырями. Не говоря ни слова, он попросил меня надеть перчатки и растирать ноги больной кузимахом. У самого у него лицо и руки мгновенно вздулись как пузырь, но он не обратил на это внимания. Признаюсь, я исполнила возложенное на меня поручение со злобным рвением. Я почему-то надеялась… чувствовала, что такур не допустит до такого трагического конца, каким явилась бы смерть англичанки во время нашего путешествия, а доставить ей неприятный, но благодетельный зуд в продолжение нескольких дней мне было весьма с руки. Чрез пять минуть втирания ноги англичанки превратились в кровавые волдыри, но зато сама она открыла глаза и имела удовольствие заметить (по крайней мере я надеялась), как за ней ухаживает «сын презренной расы». Но бабу не ограничился этим: тогда как с девяти часов вечера У***, ее соотечественник, под предлогом нездоровья и усталости, залег спать в соседней комнате, маленький бенгалец не оставлял ее ни на минуту. Один он переменял ей головные примочки изо льда, который наконец под вечер и вследствие нашей телеграммы был прислан из Агры, и ушел от нее лишь на другое утро, когда с первым поездом приехал вслед за льдом и врач англичанин.
Узнав о странном лекарстве бабу, доктор фыркнул себе что-то под нос, но объявил, что и кузимах хорош, как и всякое другое отвлекающее кровь от головы средство. Приказав везти пациентку назад в Агру, а по выздоровлении тотчас же назад в Бомбей, он взял 50 рупий и отправился в ожидании обратного поезда завтракать, попросив У***, en passant,[184] чтоб эти «негры» ему не мешали. У***, чувствуя, что я гляжу на него, сильно покраснел, но обещал – не сделав ни малейшего замечания. Он ехал с ней, так как нельзя же было отпустить ее в таком состоянии одну, а нам невозможно было уехать, не повидавшись со свами Дайанандом.
Но вернемся на несколько часов назад. Накануне, под вечер после катастрофы и когда больная уснула, четверо нас: такур, полковник, Нараян и я, собрались вместе за маленьким садиком станции, у разбитых для нас палаток. Палатки принадлежали такуру, появились в несколько минут, словно вызванные волшебством из-под земли, и были весьма курьезны. В другое время их внутреннее устройство, где находился кругом и коридорчик, и спальная, и гостиная, и даже комнатка для ванны, привлекли бы все внимание нашего любознательного президента, особенно их вполне восточная меблировка. Но в настоящую минуту нашего рассказа он был слишком взволнован. Его занимала лишь одна мысль – об ответственности его положения как президента Общества; мысль, что компания наша расстраивается, и один из членов ее, как бы ни был он виноват, находится в опасности. Неизвестность будущего и искреннее огорчение ввиду фактической невозможности помирить два столь противоположные элемента в управляемом им и доверенном ему Обществе, как чванные англичане и туземцы, которые, как огонь и вода, лишь шипели при малейшем соприкосновении, все это не давало ему покоя. И он шагал, бедный полковник, в величайшем смущении, прогуливаясь взад и вперед пред навесом средней палатки, где такур, спокойный и безмятежный, как и всегда, курил у дверей на ковре.
– Не волнуйтесь, полковник; она не умрет, – равнодушно заметил такур.
– Нет!.. вы даете мне в том слово, мой дорогой такур? – воскликнул обрадованный американец.
– Давать слово в жизни или смерти больной особы, не будучи врачом, было бы слишком дерзким с моей стороны, – возразил раджпут, смеясь. – Но, судя по долголетнему опыту, если она пережила первые полчаса и к солнечному удару не присоединились симптомы другой какой болезни, то, конечно, главная опасность миновала…






