Письма из пещер и дебрей Индостана Блаватская Елена
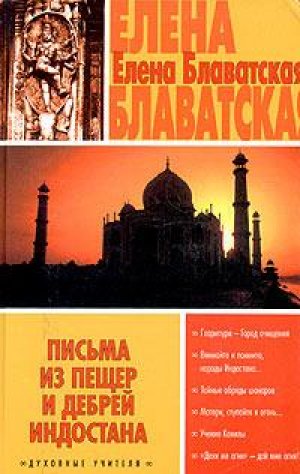
I
Поздно вечером 16 февраля 1879 года, после тяжелого тридцатидвухдневного плавания из Ливерпуля, раздались с пассажирской палубы радостные восклицания: «Маяк, Бомбейский маяк!..» И вот все, кто ни был чем занят, побросали карты, книги, музыку и кинулись наверх. Луна еще не всходила и, невзирая на звездное тропическое небо, на верхней палубе было совершенно темно. Звезды блистали так ярко, что трудно было сразу разглядеть между ними земной огонек: точно громадные глазища навыкате, моргали они на вас с черного неба, на склоне которого тихо сиял Южный Крест… Но вот, наконец, еще ниже на далеком горизонте заблистал и маяк, ныряя огненною точкой в волнах словно из растопленного фосфора. Горячо приветствовали измученные путешественники давно желанное явление. Все развеселились…
Недолго пришлось нам, однако, любоваться маяком; раздался звонок, и в главной каюте потушили огни. Было десять часов вечера, и в приятных мечтах о будущем дне все разошлись по каютам. Зато в эту ночь никто не ложился спать. Все суетливо укладывались, приготовляясь на другое утро как можно ранее распроститься с нашею дырявою, заливаемою водой кадушкой, величаемой «океанским стимером»[1] Ливерпульского общества, и с ее вечно пьяным, грубым капитаном, который, между прочим, чуть было не утопил нас, а по воскресным дням запрещал пассажирам не только что играть в карты или шашки, но даже заниматься музыкой.
К четырем часам утра все пассажиры были уже на палубе, даже дамы. Такое раннее появление прекрасного пола не входило в расчет группы англо-индийских офицеров и очень было их переконфузило. Одна партия бравых воинов, при помощи матросов, весело обливалась водой под палубною помпой, в то время как товарищи их, ожидая очереди, расхаживали кругом в национальных костюмах индусов, т. е. безо всякого костюма. Но скромные леди тоже возвращались, а не ехали в Индию. Видимо, успев уже попривыкнуть к подобной пластической обстановке, они остались совершенно хладнокровными, тем более, что теперь вся разница заключалась в одном колорите. К тому же едва светало…
Но что это был за рассвет!.. Пароход уж больше не качало… Под искусным управлением только что прибывшего туземного лоцмана в костюме Геркулеса, бронзовый силуэт которого резко выделялся на бледном небе, наш стимер, тяжело пыхтя испорченною машиной, тихо скользил по спокойным прозрачным водам Индийского океана прямо по направленно к гавани. Приближались к заливу, и до Бомбея оставалось всего несколько миль; и тому, кто, подобно нам, за четыре недели до того дрожал от пронзительного холода и снежной бури, застигшей нас у входа во много воспеваемый поэтами, но еще более проклинаемый моряками Бискайский залив, окружавшая нас обстановка казалась просто волшебным сном!.. После тропических ночей на Красном море и невероятно знойных дней, промучивших всех от самого Адена, на нас, северян, веяло чем-то непривычным, тяжело обаятельным в этой чудно-мягкой предрассветной свежести воздуха. Ни одного облачка не виднелось на густо усеянном потухавшими звездами небе… Догорающий свет луны, серебряною пеленой застилавший небеса, стал мало-помалу исчезать; и по мере того как прямо перед нами, на востоке, над далеким островом постепенно загоралось первое зарево рассвета, последнее лунное сияние все более и более сосредоточивалось на западе, обрызгивая золотыми искрами прорезаемую кильватером и далеко оставляемую за нами темную водную полосу: словно с вами, людьми из Америки,[2] прощалось сияние запада и свет востока приветствовал пришельцев из далеких стран. Все сильнее голубело небо, быстро поглощая одну за другою последние еле мерцавшие звезды; и чудилось нечто трогательное в кротком достоинстве, с каким царица ночи передавала свои верховные права могучему узурпатору. Наконец, она стала тихо погружаться в волны и – исчезла… И вдруг, почти без малейшего перехода от тьмы к свету, багрово-огненный шар вынырнул с противоположной стороны из-за мыса, уперся на несколько мгновений золотым подбородком в нижний ярус скал острова и, как бы оглядывая нас, на минуту приостановился… Затем одним могучим взмахом очутилось дневное светило высоко над морем, и победоносно поплыло вверх по тропе своей, мгновенно рассеяв мрак и разом захватывая в пламенные объятия и посиневшие воды залива, и прибрежные дачи, и острова с их скалами и лесами кокосовых пальм… Не забыли золотые лучи поласкать и толпу благочестивых поклонников своих, парсов-гебров, простиравших руки с берега моря к могучему «Оку Ормузда». Картина была до того великолепна, что на минуту все примолкло на палубе; даже красноносый старый матрос, суетившийся возле нас с канатом, приостановил работу и, крякнув, одобрительно кивнул солнцу головой.
Пробираясь тихо и осторожно вдоль столь же прелестного, как и коварного залива, мы имели еще довольно времени любоваться его окрестностями. Направо от нас виднелась группа островов, во главе которой высится головообразный Гхарипури, или Элефанта, со своим глубокой древности храмом. Гхарипури в переводе означает «город пещер» – по мнению ориенталистов, «город очищения» – коли верить туземным санскритологам. Этот высеченный неизвестною рукой в самой сердцевине скалы храм из камня, похожего на порфир, давно уже служит яблоком раздора для археологов, из коих ни один не был доселе в состоянии определить даже приблизительно его древность. Высоко вздымается скалистое чело Элефанты; густо обросло оно вековым кактусом, а под челом, у самого подножия скалы, высечены два придела и главный храм… Словно сказочный Змей Горыныч, широко разинул он черную зияющую пасть, как бы готовясь поглотить дерзновенного, пришедшего выведать сокровенную тайну титана; и скалит он на пришельца два уцелевшие, потемневшие от времени длинные зуба, – две громадные колонны, поддерживающие при входе нёбо чудовища…
Сколько поколений индусов, сколько рас простиралось во прахе пред Тримурти, тройным божеством твоим, о Элефанта!.. Сколько веков понадобилось слабому человечеству, дабы прорыть в порфирном чреве твоем весь этот город пещерных храмов и мраморных пагод и изваять твои гигантские идолы? Кто может это знать теперь! Много лет прошло с тех пор, как виделись мы с тобою в последний раз, древний и таинственный храм! А все те же беспокойные мысли, те же неотвязные вопросы волнуют меня теперь, как и тогда, и остаются все же безответными… Через несколько дней опять увидимся мы с тобой; снова взгляну я на твое суровое изображение, на твой гранитный тройной лик в 19 футов вышины, чувствуя столь же мало надежды когда-либо проникнуть тайну бытия твоего!.. Эта тайна попала в верные руки еще за три века до нашего столетия. Недаром старый португальский летописец дон Диего де Кута похваляется (8 декада, книга III, глава XI) тем, что «большой квадратный камень, вделанный над аркой пагоды с четкою и крупною на нем надписью, был выломан и послан королю дом Жуану III, а затем таинственно исчез… и добавляет далее: «Возле этой большой пагоды стояла другая… и даже третья… самое изумительное строение на острове как по красоте, так и по неимоверно громадным размерам своим и богатству материала. И на эти-то постройки сатаны наши (португальские) солдаты накинулись с такою яростью, что в несколько лет не осталось от них камня на камне».
А главное, не осталось надписей, кои могли бы дать ключ ко многому. Вследствие этого фанатизма португальских вандалов, хронология пещерных храмов Индии должна остаться для археологического мира навеки загадкой, начиная от браминов, которые уверяют туристов, будто элефантскому храму 374 000 лет, и кончая Фергюсоном, доказывающим, что этот храм был высечен чуть ли не в XII веке по Р. Х.[3] Куда ни загляни в историю, всюду одни гипотезы, мрак. И, однако же, о Гхарипури упоминается в эпической поэме Махабхарата, написанной, по мнению Колебрука и Уилсона, задолго до царствования Кира. В другой древней легенде говорится, будто храм Тримурти на Элефанте построен еще сыновьями Пнду, изгнанными по окончании войны, воспетй в Махабхарате– между династиями Солнца и Луны – восторжествовавшею расой Солнца: раджпуты (потомки последнего) воспевают еще до сей поры победу свою над врагами. Но и в их народных песнях нет ничего положительного. Прошли и еще пройдут столетия, а вековая тайна так и умрет в скалистой груди пещеры…
Налево, как раз против Элефанты, через залив и как бы в контраст всей этой древности и величию, растянулся Малабарский холм, жилище современных европейцев и богачей туземцев. Их ярко расписанные бэнглоу (бунгало) утопают в зелени индийской смоквы, баньяновых и других дерев; а прямые высокие стволы кокосовых пальм покрывают бахромой верхушек своих весь гребень холмистого мыса.
Остров Бомбей, называемый туземцами «Мамбе», получил свое название от богини Мамба – на маратском языке Махима, или «амба», «мама» и «амма», смотря по диалекту – слово, означающее буквально: «Великая Матерь». Едва сто лет назад, там, где теперь городская эспланада, стоял храм, посвященный «Мамбе Дэви». С невероятными затруднениями и издержками перенесли его ближе к берегу, близ крепости, и поставили против храма Болешвара, Владыки Невинных, – одно из названий бога Сивы или, вернее, Шивы. Бомбей составляет часть значительной группы островов. Между ним и материком немного узкий при входе рукав реки постоянно расширяется; затем, снова суживаясь, далеко впивается между вогнутыми боками обоих берегов, составляя таким образом бесподобнейшую в мире гавань. Недаром изгнанные англичанами португальцы прозвали ее «Buon Bahia», т. е. хорошим заливом.
В припадке туристского восторга некоторые путешественники сравнивали бомбейский порт с неаполитанским. Но оба, в сущности, столь же похожи друг на друга, как лаззарони похож на кули; все сходство между последними в цвете кожи, а между портами – в воде. В Бомбее, как и в его гавани, все оригинально и самобытно, ничто не напоминает даже южной Европы. Взгляните на эти каботажные суда и рыбачьи лодки: оба построены наподобие птицы, и обоим служила моделью морская птица сат, нечто вроде рыболова. Такая лодка, особенно на ходу, олицетворение грации; в движении она словно плывет задом, а странной формы косой треугольный (латинский) парус прикреплен к высокому шесту острою вершиной вверх, словно два крыла. С широко раздутыми на обе стороны крыльями, такое туземное судно, при попутном ветре и пригнувшись носом почти в уровень с водой, летит с изумительною быстротой.
Окрестности залива перенесли в то утро наше воображение в одну из волшебных стран «Арабских сказок».[4] Далеко тянулась вдоль восточной стороны города горная цепь Гхат, с перемежающими ее почти столь же высокими холмами. От подножия до скалистых, фантастически торчащих верхушек своих, эти холмы обросли дремучим лесом и непроходимыми джунглями, где живут хищные звери, а народное воображение одарило каждую скалу своей особенной легендой. Весь скат усеян пагодами, минаретами и храмами всевозможных сект. Там и сям, горячо обливаемая утренним солнцем, торчала древняя крепость, когда-то грозная и неприступная, теперь же полуразрушенная и обросшая непроницаемым кактусом. Что ни шаг, то чья-либо святыня. Здесь – далеко уходящая внутрь горы «вихара», колья буддийского бикшу; там скала, осененная символом бога Шивы; далее – капище джайнов; заросший тиной священный танк – пруд, наполненный благословенною брамином и поэтому очищающею ото всякого греха водой – непременная принадлежность каждой пагоды. Все окрестности, вся страна усеяна символами богов и богинь; каждое из 33 миллионов божеств индийского Пантеона имеет в чем-нибудь своего представителя или что-нибудь посвященное себе: кусок камня, цветок, дерево, птицу. Вот на западной стороне Малабарского холма выглядывает «Валукешвара», храм Владыки из песка.
Толпы индусов обоего пола, блистая на солнце золотыми кольцами на пальцах ног и рук, браслетами от кисти рук до локтей и от щиколотки до икр ног, со свежеразрисованными красною, желтою и белою красками священными сектантскими знаками на лбах, в ярких тюрбанах и белоснежных одеяниях, тянутся длинною вереницей к знаменитому храму.
Индия – страна легенд и таинственных уголков. Нет в ней развалины, нет памятника или леска, чтобы не было у него своей истории. А главное, как обыкновенно ни опутана последняя паутиной народной фантазии, все гуще свиваемой с каждым последующим поколением, но трудно, однако, указать хоть на одну такую, которая не была бы основана на каком-нибудь историческом факте. С терпением, а главное с помощью ученых браминов, раз войдя в их доверие и дружбу, всегда возможно докопаться до истины. Но уж, конечно, не англичанам, с их высокомерием и явно выказываемым презрением к «побежденной расе», ожидать чего-либо подобного. Поэтому-то между официально расследованной Индией и (если дозволено так выразиться) подземной, настоящей Индией такая же разница, как между Россией в романах Дюма-pre и настоящей русской Россией.
Еще далее по той же дороге стоит парсийский храм огнепоклонников. У алтаря его горит неугасаемый огонь, ежедневно пожирающий пуды сандалового дерева и ароматических трав. Зажженный триста лет тому назад священный огонь еще ни разу не потухал, невзирая на беспорядки, сектантские распри, ни даже на войну. Парсийцы весьма гордятся этим храмом Заратушты, как они называют Зороастра. Рядом с этим – храмы индусов, разукрашеные как красная писанка. То капища, чаще всего посвященные Хануману, богу-обезьяне и верному союзнику бога Рамы, или же какому другому божеству, как, например, слоноголовому Ганеше (бог тайной мудрости), или одной из дэви. Подобные храмы встречаются на всех улицах. Пред каждым ряд столетних пипал (Ficus religiosa), без которых не обойдется ни один храм, так как эти деревья служат любимым жилищем для стихийных духов и грешных душ. Все это перемешано, спутано и разбросано, являясь пред глазами внезапно, как картина во сне… Тридцать столетий оставили своих представителей на этих островах. Природная лень и сильно присущее Индии чувство консерватизма сохранили еще до европейского вторжения эти памятники буддистов и других неприязненных браминам сект даже от разрушительного мщения фанатиков. По природе индус неспособен на бессмысленный вандализм, и френолог напрасно отыскивал бы на его черепе шишку разрушения. Если столько древностей и незаменимых памятников старины, пощаженных рукой времени, теперь искажены, разрушены и даже совсем попорчены, то разрушителями их постоянно являлись если не мусульмане, то португальцы, под руководством иезуитов.
Красота Бомбейского залива далеко, однако, не искупает, со стратегической точки зрения, слабостей его порта. Эта слабость, которую, впрочем, никто кроме специалиста никогда бы и не заметил, странно указывается самими же англичанами. И с чужестранцами толкуют они о ней, и рассуждают об этом в газетах, и даже горько жалуются на нее в своих «гидах».
А между тем, описывая так подробно свои слабейшие пункты, англо-индийцы видят в каждом невинном туристе из других государств – шпиона. Проехала здесь, года два назад, русская артистка, пианистка m-lle Olga Duboin, и пожелала прокатиться по Индии; двадцать сыщиков тайной полиции, как тени, следили за ней по пятам. Явился немец-живописец, уроженец Петербурга, но еле говорящий по-русски (г. Орас фан-Руит), изучать типы Индостана; шпионы переодеваются и являются к нему, предлагая себя в модели. Приехала партия, состоящая из американского полковника, чистейшего янки, двух англичан из Лондона – ярых патриотов, но либералов, и американской гражданки, хотя и русской по рождению, и вот национальность последней подымает на ноги всю полицию! Напрасно было бы доказывать, что эти туристы единственно заняты метафизическими спекуляциями о мирах неведомых, и что они не только не интересуются политикой земного мира, но что их русская спутница даже и «аза в ней не смыслит». «Коварство России давно вошло в пословицу», отвечают ей.
Эта национальная черта англичан кричать «караул, режут», тогда их никто и не думает трогать, – отвратительна. Она в них особенно развилась со времен Биконсфильдского премьерства. Но если эта черта замечательна даже в Англии, то с чем же сравнить ее в Индии? Здесь подозрительность перешла в мономанию: англо-индийцы готовы видеть шпионов России даже в собственных сапогах, и они упиваются этой идеей до чертиков.
Следят за каждым новоприбывшим из одной провинции в другую, даже если бы то был и англичанин. У народа не только отняли всякое оружие, но даже лишили последнего топора и ножа. Крестьянину нечем ни дров нарубить, ни защититься от тигра. Но англичане все еще дрожат. Правда, что их здесь всего 60 000, в то время как туземного населения насчитывают до 245 миллионов. Да и система их, перенятая ими от искусных укротителей зверей, хороша лишь, доколе зверь не почует, что его укротитель, в свою очередь, трусит… Тогда горе ему! Во всяком случае подобное постоянное выказывание хронического страха обнаруживает лишь сознание собственной слабости.
Наконец мы бросили якорь, и в одну минуту сотни тощих, голых индусов, могулей, парсийцев и других народов атаковали как наш багаж, так и нас самих. Вся эта ватага мгновенно выскочила как бы со дна морского; защебетала, зачирикала, залопотала и стала голосить, как умеют голосить одни азиатские народы. Чтобы скорее избавиться от подобного Вавилонского столпотворения, грозившего оглушить нас навеки, мы бросились в первый попавшийся бундер-бот и отчалили.
Едва успели мы войти в густой, заросший сад нашего будущего жилища, как с каждого дерева послетала с пронзительным карканьем стая ворон: птицы эти окружили нас, прыгая на одной ноге. Чудилось нечто положительно человеческое в позе хитро склоненной на бок головы пьяной птицы, и чисто дьявольское выражение светилось в лукавом глазе, оглядывающем нас снизу вверх…
II
Мы занимали три маленькие бэнглоу, утопающие как гнезда в зелени сада, с крышами, буквально покрытыми розами, растущими на трехсаженных кустах, и с окнами, затянутыми кисеей, вместо обычных рам и стекол. Эти бунгало находились в туземном квартале. Таким образом мы были разом перенесены в настоящую Индию: мы жили в Индии, и отнюдь не как англичане, лишь издали окруженные Индией; мы могли изучать ее нравы, обычаи, религию, суеверия и обряды, знакомиться с ее преданиями, словом, жить в одном кругу с индусами, в кругу заколдованном и недоступном англичанам, как вследствие вековых предрассудков туземцев, так и по собственному высокомерию англо-саксонской расы.
Все в Индии, в стране слона и ядовитой кобры, тигра и неудачного английского миссионера, все своеобразно, странно; все кидается в глаза чем-то непривычным и неожиданным даже для того, кто побывал в Турции, Египте, Дамаске и Палестине. В этих тропических странах условия природы до того разнообразны, что делается понятным, почему все формы бытия в животном и растительном царствах должны разниться от тех же форм, к которым мы так привыкли в Европе. Взгляните: вот идут женщины к колодцу через частный, но всем открытый сад, где пасутся чьи-то коровы. Кому не случалось встречать женщин, видеть коров и любоваться садом? Кажется, вещи самые обычные; но стит лишь вглядеться в них внимательнее, чтобы тотчас же сообразить всю громадную разницу между этими самыми предметами в Европе и Индии. Нигде человек не чувствует так своего ничтожества, своей слабости, как пред этою величественною природой тропиков. Прямые, как стрелы, стволы кокосовых пальм достигают иногда 200 футов вышины; эти «принцы растительного царства», как назвал их Линдлей, увенчанные короной длинных ветвей – кормильцы и благодетели бедного народа: пальмы доставляют ему и пищу, и одежду, и кров. Самые высокие наши деревья показались бы карликами пред баньяном и особенно пред кокосовыми и другими пальмами. Наша европейская корова, приняв индусскую свою сестру сперва за теленка, тотчас же отказалась бы от родства с нею, так как ни мышиный цвет шерсти, ни прямые, как у козла, рога, ни большой на спине ее горб (как у американского бизона, но без его гривы) не дозволил бы ей впасть в подобную ошибку. Что же касается женщин, то хотя каждая из них способна привести любого художника в восторг своими движениями, костюмом, грацией, тем не менее от нашей румяной и дебелой какой-нибудь Анны Ивановны ни одна из красавиц Индостана не дождалась бы ни ласки, ни привета: «Ведь экая срамота, прости Господи, глядишь: баба-то совсем голая!» Мнение нашей русской женщины 1879 года вполне согласовалось бы на этот счет с таковым же мнением знаменитого русского странника XV столетия, «грешного раба Божия Афанасия, сына Никитина, из Твери». Совершив «грешное странствовало» свое по трем морям: морю Дербентскому, сиречь «Дорьи Хвалиской», морю Индии, «Дорьи Иондустанской», морю Черному или «Дорьи Стембольской» (Стамбул), – Афанасий Никитин прибыл в Чаул[5] (или, как он называет его, Чевиль) в 1470 году и описывает Индию в следующих словах: «Сия есть земля Индейская. Люди в ней ходят голые, с непокрытыми головами и голыми грудями; с волосами заплетенными в одну косу. Жены здесь рожают детей каждый год и ребят у них много; мужи и жены черные. Их князь носит одну фату на голове, а другую обматывает промеж ног; бояре носят ее на плечах (т. е. брамины, носящие шарф через плечо), а княгини – на плечах и вокруг поясницы; но все босые. Жены прохаживаются простоволосые и с голыми грудями. Мальчики и девочки ходят до семи лет совершенно наги и стыда своего не скрывая…»[6] Все это описание совершенно верно; только относительно их бескостюмия Афанасий Никитин не совсем-то прав: описание его может относиться лишь к низшим и беднейшим кастам. Эти действительно прохаживаются в одной «фате»; да и фата-то эта до того бедна, что часто представляет собою лишь тесемку. Но у женщин она состоит из куска материи иногда до 15 аршин длины; один конец служит короткими шароварами, а другим прикрывается грудь и голова на улице, хотя лица всегда открыты; прическа же напоминает греческий шиньон. Ноги ниже колен, руки до плеч и поясница всегда голые. Да и ни одна здесь честная женщина не согласится надеть башмаки: последние составляют принадлежность и отличительную черту только «нечестных» туземок. В южной Индии, напротив, башмаки дозволены лишь женам и дочерям браминов. Когда не так еще давно жена мадрасского губернатора вздумала, под влиянием миссионеров, хлопотать в пользу закона, обязующего женщин покрывать грудь, то дело дошло почти до революции: ни одна женщина на это не согласилась, так как верхнее платье здесь носят лишь публичные танцовщицы. Проект, к великому горю миссионеров и благородных леди, провалился; правительство скоро поняло все неблагоразумие восстановлять против себя женщин (которые в иных случаях гораздо опаснее своих мужей и братьев) покушением уничтожить обычай, предписанный законом Ману и освященный трехтысячелетнею давностью.
В течение более двух лет до нашего выезда из Америки мы находились в постоянной переписке с одним ученым, известным даже в Европе, брамином, слава которого гремит в настоящее время по всей Индии. Этот брамин, под руководством которого мы приехали изучать древнюю страну ариев, «Веды» и трудный язык ее, пандит Дайананд Сарасвати, свами.[7] Он считается величайшим санскритологом современной Индии. Пандит этот составляет для всех непроницаемую загадку: выступив лет пять тому назад на арену реформаторства, он, как древние «гимнософисты» (упоминаемые греческими и римскими писателями), жил до того времени отшельником в «джунглях», а затем, под руководством мистиков и анахоретов,[8] изучал главные философские системы Арьяварты и тайный смысл «Вед». С первых дней своего появления он поразил всех, и его тотчас прозвали Лютером Индии. Странствуя и одного города в другой, сегодня на юге, завтра на севере, переносясь с невероятною быстротой с одного конца страны на другой, он исходил весь полуостров от мыса Кумари до Гималаев и от Калькутты до Бомбея, проповедуя единство божества и доказывая с «Ведами» в руках, что в этих древних писаниях нет ни одного слова, могущего быть перетолкованным в смысле политеизма. Гремя против идолопоклонства, великий оратор восстает всеми силами против каст, раннего брака и суеверия. Карая все это зло, привитое к Индии столетиями фальшивой казуистики и лжетолкованием «Вед», он прямо и бесстрашно укоряет в нем браминов, обвиняя их пред массами народа в унижении родины, когда-то великой и независимой, теперь павшей и порабощенной. Но Великобритания имеет в нем не врага, а пожалуй даже и защитника. Он не только не подстрекает народ к бунту, но, напротив, говорит ему прямо: «Прогоните англичан, и завтра и вы, и я, и все мы, восстающие против идолопоклонства браминов и зол мусульманского деспотизма, будем перерезаны как бараны. Мусульмане сильнее идолопоклонников, но последние сильнее нас…» И однако же англичане так мало понимают свою выгоду, что два года тому назад, в Пуне, где народ разделился на две партии: реформаторов и идолопоклонников-консерваторов, когда партия первых развозила своего проповедника с торжеством и ликованиями на слоне, а другая бросала в него камнями и грязью, то вместо того, чтобы защищать Дайананда, она выслала его из города, запретив ему впредь являться туда.
Много горячих диспутов держал пандит с браминами, этими коварными врагами народа, и всегда выходил победителем. В Бенаресе к нему подослали убийц; но преступление не удалось. В одном местечке Бенгалии, где он особенно резко нападал на фетишизм, какой-то фанатик ловко бросил ему на голые ноги огромную змею кобру-дикапеллу, укушение которой причиняет в три минуты смерть и от которого медицина до сих пор не знает спасения. «Да решит наш спор сам бог Васуки!»[9] воскликнул поклонник Шивы, уверенный, что его воспитанная и дрессированная для таинств змея тут же покончит с оскорбителем ее святыни. «Да», спокойно ответил Дайананд, стряхнув сильным движением ноги обвившуюся вокруг нее кобру, «только твой бог слишком медлил; спор решаю я…» И быстрым, могучим движением пятки раздавил голову змеи. «Идите», добавил он, обращаясь к народу, «и поведайте всем, как легко погибают фальшивые боги!»
Благодаря превосходному знанию санскритского языка, пандит оказывает великую заслугу как народу, рассеивая его невежество насчет монотеизма Вед, так и науке, указывая, чт такое именно брамины, единственная каста в Индии, имевшая в продолжение столетий право изучать санскритскую литературу и толковать «Веды» и воспользовавшаяся этим правом лишь для собственного интереса. Задолго еще до появления таких ученых ориенталистов, как Бюрнуф, Колебрук и Макс Мюллер, было немало туземных реформаторов, старавшихся доказать чистый монотеизм учения «Вед». Являлись и основатели новых религий, отрицавшие откровение этих писаний, как, например, раджа Рамохун Рой, а за ним баб Кешуб-Чендер-Сен, оба калькуттские бенгальцы.[10] Но ни те, ни другие не имели положительного успеха: они только к бесчисленному множеству других сект Индии прибавили новые. Рамохун Рой умер в Англии, не успев ничего сделать, а преемник его, Кешуб-Чендер-Сен, установив «церковь Брахмо-Самадж», в которой исповедуется религия, извлеченная из глубины собственного воображения бабу, бросился в самый отвлеченный мистицизм и теперь оказывается «одного поля ягода» со спиритами, которые его считают за медиума и провозглашают калькуттским Сведенборгом.
Таким образом, все попытки возобновить чистый первобытный монотеизм арийской Индии оставались до сей поры более или менее тщетными. Они разбивались, как волны, о неприступную скалу брахманизма и веками вкоренившихся предрассудков. Но вот нежданно-негаданно является пандит Дайананд. Никто даже из самых приближенных к нему учеников не знает, кто он и откуда он. И сам он откровенно сознается перед народом, что даже имя, под которым они его знают, ему не принадлежит, а дано ему при посвящении его в йоги.[11] Знают одно: такого ученого санскритолога, глубокого метафизика, удивительного оратора и бесстрашного карателя всякого зла, Индия не видала со времен «Шанкарачарьи», знаменитого основателя философии веданты, самой метафизической изо всех систем Индии, венца пантеистического учения. К тому же наружность Дайананда поразительная: громадный рост, бледная (скорее европейская, нежели индийская) смуглость лица, большие черные искрометные глаза и длинные черные с проседью волосы.[12] Голос у него чистый, звучный, способный передавать оттенки всякого внутреннего чувства, переходящий от нежного, почти женского шепота, увещания, до громоподобных раскатов гнева против злоупотреблений и лжи презренного жречества. Все это взятое вместе неотразимо влияет на нервного, мечтательного индуса. Всюду, где бы ни появился свами Дайананд, толпы падают пред ним ниц и простираются во прахе ног его. Но он не проповедует им, как, например, бабу Кешуб-Чендер-Сен, новой религии, не учит их новым догматам; он только просит их обратиться к санскритскому, почти забытому языку и, сравнив учение праотцев их, арийской Индии, с учениями Индии браминов, вернуться к чистым воззрениям на божество первобытных риши (rishis): Агни, Вайю, Адитьи и Ангиры.[13] Он даже не учит, как другие, что «Веды» были-де получены откровением свыше; он учить, что «всякое слово в „Ведах“ принадлежит к высшему разряду божественного вдохновения, возможного человеку на этой земле, – вдохновению, повторяющемуся в истории всего человечества, в случае надобности, и между другими народами…»
В эти последние пять лет у свами Дайананда насчитывают около двух миллионов новообращенных, большею частью из высших каст. Последние, по-видимому, готовы положить за него все до одного и жизнь, и душу, и даже самое состояние, чт для индуса часто бывает драгоценнее самой души. Но Дайананд, как истый йог, до денег не дотрагивается, денежные дела презирает и остается довольным несколькими горстями риса в день. Словно заколдована жизнь этого удивительного индуса, так беспечно играет он самыми худшими человеческими страстями, возбуждая во врагах своих самый бешеный и столь опасный в Индии гнев. Мраморное изваяние не оставалось бы спокойнее Дайананда в минуты самой ужасной опасности. Мы один раз видели его на деле: отослав всех приверженцев своих и запретив им следовать за ним либо заступаться за него, он остановился один пред разъяренною толпой и спокойно смотрел в глаза чудовищу, готовому прыгнуть и разорвать его на куски… Два года тому назад он начал переводить с собственными, совершенно новыми комментариями «Веды» с санскритского на язык хинди – самый распространенный здесь диалект. Его Веди-Бхашия[14] служит неисчерпаемым источником учености самого Макса Мюллера, в переводах немецкого санскритолога, который постоянно переписывается и советуется с Дайанандом. Ему также многим обязано другое светило по части ориентализма – Монье Уильямс, профессор в Оксфорде, который, побывав в Индии, лично познакомился с пандитом Дайанандом и его учениками.[15]
Но здесь необходимо небольшое отступление.
Лет пять тому назад в Нью-Йорке образовалось общество образованных, энергических, решительных людей. Один остроумный ученый прозвал этих людей «членами Общества des Malcontents du spiritisme». Основатели этого клуба были люди, верившие в феномены спиритуализма, как и в возможность всяких других феноменов в природе, но вместе с тем отвергавшие теорию «о духах». Люди эти взирали на свременную психологию как на науку, стоящую еще на самой первоначальной ступени развития, находящуюся в совершенном неведении относительно «духовного человека» и, притом, отвергающую в лице многих своих представителей все то, чего она сама не может разом объяснить по-своему.
С первых же дней основания этого Общества (Теософического) к нему примкнули многие из самых ученых людей Америки. Члены эти разнились в своих понятиях и взглядах не менее членов любого географического или археологического общества, столько лет ссорившихся, например, из-за истоков Нила или египетских иероглифов. Но как в отношении к устьям и иероглифам все единодушно соглашались, что раз существуют воды Нила и пирамиды, то где-нибудь да находятся и эти истоки, и ключ к иероглифам; так точно и в отношении к феноменам спиритизма и магнетизма. Феномены ждали лишь своего Шампольона, а Розетский Камень следовало искать не в Америке или Европе, а в странах, где еще верят в магию, где местным жречеством производятся «чудеса» (в которые общество не верило) и куда еще не проникал холодный материализм науки, словом – на Востоке. «Ламо-буддисты», рассуждал совет Общества, «не верят ни в Бога, ни в личную индивидуальность человеческой души, но они славятся своими феноменами; а „месмеризм“ известен и практикуется в Китае под названием инь и янь уже много тысяч лет. В Индии боятся и ненавидят столь уважаемых спиритами духов, но их простые, невежественные факиры производят «чудеса», ставящие в тупик самых ученых исследователей и приводящие в отчаяние известнейших в Европе фокусников. Многие из членов Теософического общества бывали в Индии, многие родились там и самолично неоднократно присутствовали при «колдовствах» ее браминов. Основатели этого клуба, глядя на современное невежество относительно духовной стороны человека, рассуждали, что должен же когда-нибудь метод сравнительной анатомии Кювье быть допущенным и в метафизике и перейти из области физической в область психологической науки и на таких же дедуктивных и индуктивных началах, как и в первом случае; иначе психиатрия не сделает ни одного шага вперед и запрудит даже и другие науки естествознания. Мы уже видим, как физиология мало-помалу захватывает не принадлежащие ей права охотиться во владениях чисто метафизических, абстрактных знаний, притом делая все время вид, будто бы и знать ничего не хочет о последних, и, втеснив их в неподдающееся ее страданиям Прокрустово ложе естествоведения, старается подвести психологию под итог точных наук.
В скором времени Теософическое общество стало считать своих членов не сотнями, а тысячами. Все «malcontents» спиритуализма в Америке (а там считается спиритуалистов 12 миллионов) присоединились к помянутому Обществу. Между тем установились коллятеральные[16] ветви его в Лондоне, Корфу, Австралии, Испании, Кубе, Калифорнии и пр.[17] Производились эксперименты, и все более приходили к убеждению, что не одни же «духи» производят феномены.
Наконец основалась ветвь Теософического Общества и в самой Индии, и на Цейлоне.[18] В числе членов Общества постепенно стало оказываться больше буддистов и брахманистов, нежели европейцев. Составился союз, и к имени общества было добавлено название «Brotherhood of Humanity» (братство человечества). Вступив в деятельную переписку с вождями религиозных и реформаторских партий Арии-Самадж (то есть Общества арийцев), основанной свами Дайанандом, все слились с Теософическим обществом. Затем главный совет Нью-Йоркского Общества решил отправить в Индию делегацию с целью изучения на месте, под руководством санскритологов, древнего языка «Вед», рукописи и «чудес» йогизма. Для этого избраны президент Нью-Йоркского общества, два секретаря и два советника. И вот 17 декабря 1878 года «миссия» отплыла из Нью-Йорка в Лондон и затем в Бомбей, куда и прибыла в феврале 1879 года.
Понятно, что при таких благоприятных обстоятельствах члены помянутой миссии в состоянии изучать страну и производить исследования тщательнее, нежели кто-либо другой, не принадлежащий к Обществу. На них взирают, как на «братьев», и им помогают самые влиятельные туземцы Индии. Они имеют членов между пандитами Бенареса и Калькутты, между первосвященниками буддистских вихар Цейлона (ученый «Сумангала», между прочим, глава пагоды на Adam's Peak, о котором упоминает г. Минаев в своем путешествии), среди лам Тибета, в Бирме, Траванкоре и т. д. Членов миссии допускают в святилища, где еще не была нога европейца; поэтому они смело могут надеяться, что, несмотря на неохоту представителей точных наук и их недоброжелательство к ним, верующим, они будут в состоянии оказать более одной услуги миру и науке.
Тотчас по приезду в Бомбей мы намеревались ехать лично знакомиться с Дайанандом и поэтому немедля отправили к нему телеграмму. В ответ он нас известил, что ему необходимо ехать в Хардвар (Hurdwar), куда стекалось в этот год несколько сот тысяч пилигримов. Он просил нас вместе с тем не приезжать в Хардвар, так как там непременно должна появиться холера, и назначил нам чрез месяц местом свидания местечко у подножия Гималаев, в Пенджабе. Таким образом нам оставалось довольно времени осмотреть все достопримечательности Бомбея и его окрестностей.
Решив наскоро осмотреть первый, мы согласились ехать потом, не теряя времени, в Декан, на большой храмовой праздник в Карли,[19] старинный пещерный храм буддистов, по уверению одних, – браминов, как доказывают другие. Затем, посетив Танну, на острове Сальсетте, и храм Каннари, мы намерены были отправиться в столь прославленный Афанасием Никитиным Чаул.
А пока поднимемся на вершины Малабарского холма, к «Башне Молчания», последнему жилищу каждого из сынов Зороастра.
«Башня Молчания», как сказано, кладбище парсов. Тут богатый и убогий, набоб и кули, мужчины, женщины и дети – все кладутся рядом, и от каждого из них через несколько минут остаются лишь одни скелеты… Странное, тяжелое впечатление производят на иностранца эти «башни», где действительно целые века царствует гробовое молчание. Подобные строения рассеяны повсюду, где только живут и умирают парсы, особенно в Сурате. Но в Бомбее из шести таких башен самая большая выстроена 250 лет тому назад, а следующая за ней по величине даже очень недавно. Это круглые, иногда и четырехугольные строения без крыш, без окон, без дверей, от 20 до 40 футов вышины и с одним лишь закрытым кустами отверстием на восток, состоящим из толстой железной дверцы. Первый труп, принесенный в новую дакхму (так называются эти башни), должен быть трупом невинного ребенка и непременно дитяти «мобеда» (жреца). К этим башням, построенным в стороне, на холме и среди уединенного сада, никому не дозволяется подходить, даже главному смотрителю и сторожам, ближе как на тридцать шагов расстояния. Одни нассесалары[20] (носильщики трупов), ремесло коих наследственное и которым закон строго воспрещает заговаривать с живыми, дотрагиваться или даже подходить к ним, входят и выходят из «Башни Молчания». Входя, они вносят труп, безразлично богатого или бедного человека, завернутый в белые и самые старые тряпки; раздев его донага, они кладут его в тот или другой из трех кругов и, не произнося ни слова, выходят в таком же молчании из башни, запирая ее до следующего покойника, а саван – тряпки – тотчас же сжигают.
Смерть у огнепоклонников лишена всего своего величия, и труп возбуждает в них лишь одно омерзение. Коль скоро замечают, что наступает последний час больного, все домашние отделяются от него, как для того, чтоб не помешать душе освободиться от тела, так и затем, чтобы живому не оскверниться прикосновением к мертвому. Один мобед шепчет на ухо умирающему напутственное из Зенд-Авесты наставление: «Ашем-Воху» и «Ято-ахуварье», и удаляется, пока отходящий еще жив. Затем приводят собаку и заставляют ее смотреть в лицо умирающему. Эта церемония называется сас-дид (собачий взгляд), так как собака единственное из живых существ, взгляда которого боится друкс-насу (злой демон), сторожащий умирающих, дабы завладеть их телом… Следует однако остерегаться, чтобы чья-нибудь тень не легла между мертвым и собакой; иначе пропадает вся сила собачьего взгляда, и демон воспользуется благоприятною минутой. Где бы ни умер парс, там он и остается, пока за ним не явятся нассесалары, с руками, погруженными до плеч в старые мешки. Положив покойника в железный закрытый гроб (один для всех), его относят в дакхму. Если б отнесенный в дакхму даже ожил (что нередко случается), он уж не выйдет более на Божий свет: нассесалары в таком случае убивают его. Кто раз осквернился прикосновением к мертвым телам и побывал в «башне», тому возвращаться в мир живых уже невозможно: он осквернил бы все общество.[21] Родные следуют за гробом издали и останавливаются в 90 шагах от «башни». У отверстия, после последней молитвы, повторяемой хором носильщиками возле тела, а мобедом издали, еще раз повторяется церемония с собакой. В Бомбее нарочно для этого дрессированная собака держится на цепи у дверец башни. Затем нассесалары вносят тело внутрь и, вынув его из гроба, кладут на отведенное трупу, смотря по полу или возрасту, место.
Мы два раза присутствовали при церемонии «умирания» и один раз при «погребении», если позволено употребить подобное не подходящее к делу выражение. На этот счет парсы гораздо снисходительнее индусов, считающих присутствие европейца осквернением их религиозных обрядов. Хоронили какую-то богатую женщину, и наш знакомый смотритель башни, Н. Байранжи, пригласил нас к себе в дом. Таким образом мы присутствовали при всех обрядах, находясь шагах в сорока от башни, на веранде бунгало нашего любезного хозяина. Сам он, хотя уже много лет служил при «башне», в нее никогда не входил и даже близко не подходил. Пока собака глазела на покойника, мы, признаться, с тайным чувством отвращения глазели, в свою очередь, на огромную стаю коршунов, летавших над дакхмою. Коршуны влетали в нее и снова вылетали с кусками окровавленного человеческого мяса в клюве… Эти птицы, которые ныне сотнями свили себе гнезда над «Башней Молчания», привезены нарочно с этою целью из Персии, так как коршуны Индии оказались и не довольно хищными и слишком слабыми, чтобы справляться с окоченевшими трупами со скоростью, требуемою законом Зороастра. Говорят, будто процесс совершенного очищения костей от мяса требует не более нескольких минут…
По окончании обряда нас повели в другое здание, где на небольшом столе стояла превосходная деревянная модель дакхмы с ее внутренним устройством. Таким образом мы могли легко сообразить, что в эту минуту происходило в башне. Представьте себе дымовую четвероугольную трубу, стоящую на земле, и вы получите верное понятие об устройстве пустой «башни». В гранитном помосте, в самом центре, чернеет глубокий, безводный колодец, покрытый, как водосток, железною решеткой. Вокруг, на постоянно возвышающейся к стене покатости, окружая колодец тройным кольцом, прорыты три широкие круга; в каждом из них, отделенные одно от другого тонким простенком в два вершка вышины, находятся гробообразные места для тел. Таких мест 365. В первый круг или выбой (2 фута ширины) у колодца кладутся дети; в средний (в 4 фута) – женщины; в третий (5 футов ширины), расположенный у самой стены, – мужчины. Этот тройной круг служит типом трех кардинальных у Зороастра добродетелей: «добрых дел, ласковых слов и чистых помышлений». Последний круг принадлежит детям, первый мужчинам.
Благодаря стаям голодных коршунов, менее нежели в час времени кости всегда обглоданы до последнего атома, а через две-три недели тропическое солнце сушит скелеты до такой хрупкости, что они при малейшем прикосновении обращаются в прах, а затем их уже сваливают в колодец. Ни малейшего запаха, ни малейшего предлога для чумы или другой эпидемии. Способ этот, пожалуй, еще вернее телосожигания, которое все-таки оставляет за собой в атмосфере гота[22] хотя слабый, но дурной запах. Вместо того, чтобы кормить «мать сырую землю» падалью, парсы отдают Армаити (земле)[23] лишь совершенно очищенный прах. Почитание земли, предписанное им Зороастром, так велико у них, что они принимают всякие меры предосторожности, дабы не осквернить «Коровы-Кормилицы», дарящей их «стократ золотым зерном за всякое зерно». Во время муссона, когда дождь льет в продолжение четырех месяцев ливнем и, конечно, смывает все оставленные коршунами около трупов нечистоты в колодец, вода, стекая в него, всасывается в землю уже фильтрованная: все дно колодца, стенки которого выложены гранитными плитами, покрыто с этою целью водоочищения песчаником и углем.
Менее мрачно и гораздо любопытнее зрелище Пинжрапаля, бомбейского «госпиталя для престарелых животных», существующего, впрочем, в каждом городе, где только живут джайны, о которых кстати здесь сказать несколько слов. По своей бесспорной древности эта секта здесь одна из самых интересных, она много древнее буддизма (появившегося около 543–477 до Р. Х.). Джайны похваляются тем, что религия Будды есть не что иное, как ересь джайнизма, так как Гаутама, основатель буддизма, был учеником и последователем одного из их главных гуру и святых. Обычаи, обрядность и философские воззрения джайнов ставят их чем-то средним между браминами и буддистами; в общественном отношении они походят на первых, в религиозном склоняются более к буддистам. Как и брамины, они придерживаются каст, никогда не едят мясного и не почитают тел святых; но вместе с буддистами они отвергают «Веды» и богов индусов, вместо которых покланяются своим двадцати четырем тиртнкарам (Tirthankara) или джайнам, причтенным к лику «блаженных». Опять как у буддистов: духовенство у джайнов сохраняет безбрачие и живет в уединенных вихарах (кельях) и монастырях, выбирая себе преемников во всех классах общества. Считая священным и употребляя в духовной литературе лишь язык пали (как и на острове Цейлоне), они имеют с буддистами одну общую традициональную хронологию, также не едят после заката солнечного и тщательно подметают место, прежде чем сесть на него, боясь раздавить и малейшую букашку. Обе системы или, скорее, философские школы, следуя в этом древней школе атомиста Канады,[24] защищают теорию вечных атомов или элементов и неразрушимости материи. По их понятиям, мир никогда не имел начала и никогда не будем иметь конца. «Все в мире одна иллюзия, майя», говорят ведантисты, буддисты и джайны. Но в то время как последователи Шанкарачарьи проповедуют Парабрахму (божество без воли, понимания и без действия)[25] и исходящего от него Ишвару, джайны вместе с буддистами отрицают создателя Мира и учат лишь о существовании свабхавата, пластического, вечного и самосозданного принципа в природе. Зато твердо веруют, как и все прочие секты в Индии, в переселение душ; их страх лишить жизни животное или насекомое и этим совершить, быть может, отцеубийство доводит их любовь ко всему животному царству и попечение о нем до невероятно аффектированных крайностей. Не только в каждом городе и деревне устроены больницы и приюты для всех искалеченных и старых животных, но их жрецы ходят не иначе, как с кисейным «намордником» (да простят они мне это непочтитеьное выражение), прикрывающим им рот и ноздри, дабы дыханием своим нечаянно не истребить какой-нибудь мошки. Поэтому они и воду пьют не иначе, как фильтрованную. Джайнов считают несколько миллионов; они рассеяны в Гуджерате, Бомбее, Конкане и других местностях.
Бомбейский Пинжрапаль занимает целый большой квартал, разделенный на дворы и дворики, на лужайки и рощицы с прудами, большими клетками для опасных животных и загородками для более ручных. Заведение это могло бы служить моделью для Ноева ковчега. На первом дворе, вместо животных, мы увидели несколько сот человеческих живых скелетов: стариков, женщин и детей. То были уцелевшие жители из так называемых famine-districts (голодающих уездов), приползшие в Бомбей молить о куске хлеба. Отеческое правительство, повыгнав их из последних лачужек за недоимки податей, взимающихся во время голодного мора так же, как и в самые урожайные годы,[26] довершило свое христолюбивое попечительство о язычниках, отведя им место при больнице животных. В то время как несколько постоянно находящихся при этой странной богадельне ветеринаров перевязывали перебитые лапы у шакалов, терли мазью опрокаженные спины чесоточных собак и приправляли деревянные костыли хромым журавлям, там, в двух шагах, на другом дворе, умирали от голода старики, женщины и дети. Их кормили пока за счет благотворителей животных, а животных, к счастью, было в то время менее обыкновенного. Наверное многие из этих страдальцев с радостью согласились бы, не теряя времени, трансмигрировать в любого из зверей, так спокойно доканчивающих жизненное поприще в больнице…
Но и в Пинжрапале розы не без шипов. Если травоядные «субъекты» ничего лучшего не могут себе пожелать, то сомневаюсь, чтобы плотоядные, как, например, тигры, гиены, шакалы и волки, оставались вполне довольны как постановлениями, так и насильно предписанною им диетой. Так как сами джайны не употребляют мясной пищи и с ужасом отворачиваются даже от яиц и рыбы, то и все находящиеся на их попечении животные обязаны поститься. При нас кормили старого, подстреленного английскою пулей тигра. Понюхав рисовую похлебку, он замахал хвостом и, свирепо скаля желтые клыки свои, глухо зарычал и отошел от непривычной пищи, все время косясь на толстого надсмотрщика, который ласково уговаривал его «покушать». Одна решетка спасала джайна от протеста этого ветерана лесов «действием». Гиена, с окровавленною, повязанною головой и отодранным ухом, бесцеремонно и видимо в знак своего презрения к этому для нее спартанскому соусу, сперва села в лохань с похлебкой, а затем опрокинула ее; волки же и несколько сот собак подняли такой оглушающий вой, что привлекли внимание двух неразлучных друзей, Кастора и Поллукса заведения, старого слона с передней ногой на деревяшке и исхудалого вола с зеленым зонтом над больными глазами. Слон, по своей благородной природе думая лишь о приятеле, покровительственно обвил хоботом шею вола, и оба, подняв головы, с неудовольствием замычали. Зато попугаи, журавли, голуби, фламинго, корольки, все пернатое царство ликовало, заливаясь на все тоны над завтраком. Охотно отдавали ему честь и обезьяны, прибежавшие первыми на зов. Нам также указали на святого, кормившего в углу насекомых собственною кровью. Совершенно нагой, он неподвижно и с закрытыми глазами лежал на солнце. Все тело его было буквально покрыто мухами, комарами, муравьями и клопами…
– Все, все они наши братья! – умиленно повторял директор госпиталя, указывая рукой на сотни насекомых и животных. – Как можете вы, европейцы, убивать и даже поедать их?
– А что, – спрашиваю, – сделали бы вы в случае, если бы вот эта змея подползла к вам и попыталась укусить вас? От ее укушения ведь неминуемая смерть. Неужели вы бы не убили ее, если б успели?
– Ни за что на свете! Я бы старался осторожно поймать ее, а затем отнес бы за город в пустое место и пустил бы ее на свободу.
– А если б она все-таки укусила вас?
– Тогда бы я произнес «мантру».[27] А если б мантра не помогла, то я счел бы это за определение судьбы, и спокойно оставил бы это тело, чтобы перейти в другое.
Это нам говорил человек по-своему образованный и даже весьма начитанный. На наше возражение, что ничто не дается природой напрасно, и что если устройство зубов у человека плотоядное, то стало быть ему определено самою судьбой питаться мясом, он отвечал нам чуть ли не целыми главами из Дарвиновской «Теории естественного отбора и происхождения видов». «Это все неправда, будто первобытные люди родились с глазными зубами», рассуждал он. «Лишь впоследствии, с развращением рода человеческого и когда в нем стала развиваться страсть к плотоядной пище, то и челюсти, покоряясь новой потребности, стали изменяться, пока мало-помалу совершенно не изменили своей первобытной формы»…
Подумаешь: o la science va-t-elle se fourrer?…[28]
III
В тот же день вечером в театре Эльфинстона давалось в честь «американской миссии» (как нас здесь величают) необычайное представление. Туземные актеры играли на гуджератском языке древнюю волшебную драму Ситта-Рама, переделанную из Рамаяны, известной эпической поэмы Вальмики. Драма состояла из 14 актов и несчетного множества картин с превращениями. Все женские роли игрались по обыкновению мальчиками и, верные историческому и национальному костюму, все актеры были полунагие и босые. Зато богатство костюмов – какие требовались – декорации, машины, превращения были поистине изумительны. Трудно было бы даже на сцене больших столичных театров представить лучше и вернее природе, например, армию союзников Рамы – обезьян, под предводительством их знаменитого в истории (Индии, s. v. p.) полководца Ханумана: воина, государственного мужа, бога, поэта и драматурга. Древнейшая и лучшая изо всех санскритских драм Хануман-наттек (наттек – драма) приписывается этому нашему талантливому праотцу… Увы! прошли те времена, когда гордые сознанием своей белой, быть может, aprs tout[29] только вылинявшей под северным небом кожи, мы взирали на индусов и других черномазых народов с подобающим нашему величию презрением! Крепко огорчался мягкосердечный сэр Вилльямс Джонс, переводя с санскритского такие, например, унизительные для европейского самолюбия речи, что «Хануман был-де нашим прародителем». Коли верить легенде, то за оказанное храброй обезьяньей армией пособие Рама, герой и полубог, даровал в супружество каждому из холостяков этой армии одну из дочерей великанов острова Ланки (Цейлона), бакшазасов, назначив этим «дравидским» красавицам в приданое все западные части света… Тогда, после величайшего в мире торжества бракосочетания, обезьяны-воины, соорудив из собственных хвостов висячий мост, перекинули его из Ланки в Европу и, благополучно перебравшись с супругами на другой берег, зажили счастливо и наплодили кучу детей. Эти дети – мы, европейцы. Найденные в языках Западной Европы (как в наречии басков, например) чисто дравидские слова привели браминов в восторг; в благодарность за это важное открытие, так неожиданно подтверждающее их древнее сказание, они чуть было не возвели филологов в сан богов. Дарвин увенчал дело. С распространением в Индии западного образования и ее научной литературы, в народе более чем когда-либо утвердилось убеждение, что мы потомки их Ханумана и что притом каждый европеец (если только поискать) украшен хвостом: узкие панталоны и длинные юбки пришлецов с Запада много способствуют к укоренению этого крайне нелестного для нас мнения… Чт ж? уж если раз наука в лице Дарвина поддерживает в этом мудрость древних ариев, то нам остается лишь покориться. И право, в таком случае гораздо приятнее иметь Ханумана – поэта, героя и бога – праотцем, чем какую-либо другую «макашку», хотя бы даже и бесхвостую…
Но Ситта-Рама – пьеса представленная в тот вечер – принадлежит к мифологическим драмам-мистериям вроде Эсхиовых. Глядя на это классическое произведение отдаленнейшей древности, зритель невольно переносится в те времена, когда боги, сходя на землю, принимали живое участие во вседневной жизни смертных: ничто не напоминало нам современную драму, хотя внешняя форма сохранилась почти та же. «От великого до смешного (и наоборот) всего один шаг»: от козла ( ), выбираемого в жертвоприношении Бахусу, мир получил трагедию; предсмертное блеяние и бодание четвероногой жертвы древности вышлифованы рукой времени и цивилизации: в итоге является предсмертный шепот Рашели во образе Адриенны Лекуврер и ужас наводящее реалистическое «брыкание» современной Круазет в сцене отравления в «Сфинксе»… Но в то время как потомки Фемистокла, в продолжение многих лет рабства, как и независимости, принимали и продолжают с восторгом принимать все изменения, а по современным воззрениям и «улучшения» Запада, как вновь исправленное и дополненное издание гения Эсхила, – индусы, к счастью археологов и любителей древностей (вероятнее всего со времен нашего незабвенного прародителя Ханумана), так и застыли на одном месте…
С живым любопытством готовились мы следить за представлением Ситта-Рамы. Кроме здания самого театра, да разве нас самих, все было здесь туземное и ничто не напоминало нам нашу западную обстановку. Об оркестре не было и помину: вся наличная музыка должна была раздаваться за кулисами или же на самой сцене. Наконец взвился занавес… Тишина, заметная даже в антрактах при таком наплыве зрителей обоего пола, стала еще заметнее. Видно было, что в глазах публики, по большей части поклонников Вишну,[30] шла не обыкновенная пьеса, а религиозная мистерия, представляющая жизнь и приключения их любимых и самых уважаемых богов.
Пролог. Эпоха (ранее которой еще ни один драматург не рискнул выбрать для своего сюжета) пред сотворением, или скорее пред последним появлением мира:[31] в то время как пралайа приходит к концу, Парабрахма просыпается; вместе с его пробуждением вся вселенная, покоящаяся в божестве, то есть бесследно исчезнувшая с предыдущего разрушения мира в субъективной эссенции его, отделяется вновь от божественного принципа и делается видимой. Все боги, умершие вместе со вселенною, начинают медленно возвращаться к жизни. Один «Невидимый» дух – «вечный, безжизненный», ибо он есть безусловная самобытная жизнь, – парит, окруженный безбрежным хаосом. Священное «присутствие» невидимо: оно проявляется лишь в правильном периодическом колыхании хаоса, представляемого темною массой вод, затягивающею всю сцену. Эти воды еще не отделены от суши, ибо Брахма, творческий дух Нараяна, еще сам не отделился от Вечного. Но вот колыхнулась вся масса, и воды начинают светлеть: от золотого яйца, лежащего под водами хаоса, пробиваются лучи; оживотворенное духом Нараяны яйцо лопается, и проснувшийся Брахма поднимается над поверхностью вод под видом огромного лотоса. Являются легкие облачка; сперва прозрачные и белые, как паутина, они сплачиваются и мало-помалу превращаются в «праджапати» – десять олицетворенных творческих сил Брахмы, владыки всех тварей, поющих хвалебный гимн Творцу. Веяло чем-то наивно поэтическим от этой непривычной нашему уху странной мелодии, без оркестра, в унисон. Пробил час общего пробуждения; конец пралайе: все ликует, возвращаясь к жизни. На отдалившемся от вод небе являются азуры и гандхарвы.[32] Индра, Яма, Варуна и Кувера, – духи, заведующие четырьмя странами света. Из четырех стихий: воды, огня, воздуха и земли, брызжут дождем атомы и зарождают змия Ананду. Чудовище всплывает на поверхность воды и, согнув лебединую шею дугой, является лодкой, на которой покоится Вишну; в ногах бога сидит Лакшми – богиня красоты, его супруга. «Сватха! Сватха! Сватха!»[33] – восклицают хором небесные певцы, приветствуя божество. Вишну в одном из своих будущих воплощений (аватар) будет Рамою, сыном великого царя, а Лакшми воплотится в Ситте. Вся поэма Рамаяны вкратце пропета небесными хористами. Кама, бог любви, осеняет божественную чету, и от этого вмиг загоревшегося в их сердцах пламени плодится и размножается весь мир…[34]
Далее идут 14 действий хорошо всем известной поэмы, в которой принимают участие несколько сот лиц. Под конец пролога собравшиеся боги, по примеру лиц древних драм, подходят к рампе и знакомят вкратце публику с сюжетом и развязкой предстоящей пьесы, прося снисхождения зрителей. Словно оставив свои ниши в храмах, сошли с них знакомые нам божества из раскрашенного гранита и мрамора, чтобы напомнить смертным о делах…
- …«давно минувших дней,
- Преданьях старины глубокой»…
Зала была битком набита туземцами. Кроме нас четырех, не было ни одного европейца. В креслах расстилалась, как огромный цветник, масса женщин в ярких цветных покрывалах. Между прекрасными бронзовыми лицами выглядывали красивые, иногда матово-белые личики парсийских женщин, очень напоминающих красотой грузинок. Все первые ряды были заняты женщинами. От огнепоклонниц с их чистыми лицами и волосами, покрытыми белою косынкой под цветным покрывалом, их сестры индианки отличались непокрытою головой, роскошью своих блестящих черных кос, закрученных греческим шиньоном на затылке, расписанным красками лбом[35] и кольцами в одной ноздре. В этом состоит вся разница их костюма.[36] Как те, так и другие страстно любят яркие, но однообразные материи, покрывают голые руки до локтей браслетами и носят одинаковые сари (покрывала). За ними, в партере волновалось целое море самых оригинальных, нигде кроме Индии не встречающихся тюрбанов. Тут были и длинноволосые раджпуты с их прямыми, чисто греческими чертами лица, с разделенною на подбородке бородой, концы которой закручиваются за уши, в пгри, тюрбане, состоящем из двадцати аршин белой тонкой кисеи, обкрученной веревкой вокруг головы, в серьгах и ожерельях; тут были маратские брамины, с гладко выбритою (кроме центральной длинной космы волос) головой, прикрытой громадным блюдообразным тюрбаном ослепительно красного цвета с золотым, выгибающимся вперед, словно рог изобилия, украшением наверху. Задавшись было долгом сосчитать, сколько разных форм тюрбанов в одном Бомбее, мы уже через две недели объявили себя побежденными: легче сосчитать звезды на небе. Каждая каста, ремесло, секта, каждое из тысячи подразделений общественной иерархии имеет свой отличительный, блестящий пурпуром и золотом головной убор; золото снимается только в случае траура. Но зато все, даже богачи, советники муниципалитета, купцы, брамины, рао бахадуры и пожалованные правительством баронеты – все до одного ходят босые, голые до колен и в белоснежных балахонах: этой полурубашки-полукафтана нельзя сравнить ни с чем другим. Сидит министр, либо раджа какой на слоне[37] – видали мы их в Бароде даже на жирафах из конюшни зверинца Гайквара[38] в торжественные дни их праздников – сидит и жует пансопари (бетель).[39] Голова у него так и клонится вниз под тяжестью драгоценных камней на тюрбане; все пальцы на руках и на ногах украшены перстнями, а ноги браслетами. В тот вечер в зале не было ни слонов, ни жирафов, но зато были и раджи, и министры. С нами приехал красавец-посол и бывший воспитатель юного Махарани Удайпурского (Oodeypore), раджа-пандит, Мохунлал-Вишнулал-Пандиа, в бледно-розовом маленьком тюрбане с бриллиантами, в розовых же барежевых панталонах и белой газовой кофте. Длинные, черные, как вороново крыло, волосы падали на янтарную шею, украшенную ожерельем, способным свести с ума парижанку. Бедному раджпуту ужасно хотелось спать; но он геройски выерживал роль и, задумчиво пощипывая бородку, водил нас по безысходному лабиринту метафизических запутанностей Рамаяны.
В антрактах нас потчевали кофе, шербетами и папиросами, которые мы и курили во все время представления, сидя напротив сцены, в первом ярусе. Нас, как идолов, обвешали длинными гирляндами из жасмина, а сам директор, дебелый индус в рогообразном малиновом тюрбане и белой прозрачной кисее на смуглом теле, несколько раз окроплял нас розовою водой.
Представление, начавшееся в 8 часов вечера, дошло до 9-го акта только в два с половиной часа пополуночи. Невзирая на стоявшего позади каждого из нас сипая с гигантскою пнкой (веером), жара была нестерпимая. Чувствуя себя не в силах выдержать долее, мы отпросились домой. Опять букеты, пансопари и окропление розовою водой, и мы наконец добрались домой в четыре часа пополуночи… На другой день мы узнали, что представление окончилось в половине седьмого утра.
IV
Раннее утро последних мартовских дней; светлое безоблачное небо. Ветерок, нежно ласкающий бархатной рукой заспанные лица пилигримов; по дороге опьяняющий запах тубероз и жасмина в цвету, перемешанный с острыми запахами базара. Толпы голоногих браминок, стройных и величавых, в цветных сари, с блестящими, как золото, медными лотти (кувшинами) на головах, направляющихся, как библейская Рахиль, к колодцу. Наполненные тинистою водой священные танки (пруды), на ступенях которых индусы обоих полов совершают свое утреннее религиозное омовение. Под забором сада, под самыми скалами Малабарского холма, чей-то ручной мангуст, величиной с сурка, пожирает голову пойманной им кобры; обезглавленное туловище змеи судорожно, но уж безвредно обвивается вокруг и хлещет худощавого зверька, с видимым наслаждением взирающего на эту операцию. Возле группы животных группа индусов. Совершенно нагой мали (садовник), стоя у безобразного каменного идола Шивы, сыплет ему приношение соли и бетели, дабы отвратить гнев «Разрушителя» за убиение одного из подвластных ему богов, опасной змеи кобры. В нескольких шагах от железнодорожной станции мы встречаем скромную католическую процессию из новообращенных париев и туземных португальцев. Под балдахином, на носилках, раскачивается коричневая Мадонна в одеянии туземных богинь и с кольцом в носу (sic). На руках у нее младенец в желтых пиджамах и красном тюрбане брамина. «Хари! Хари деваки!» (Слава, слава деве-богине!) восклицают новообращенные, не признавая ни малейшей разницы между Деваки, матерью Кришны, и Мадонной.
Наконец наши гарри, туземные двухколесные таратайки с запряженными в них двумя сильными волами с громадными прямыми рогами, подкатывают к крыльцу станции. Чиновники-англичане таращат в изумлении глаза при виде европейцев в туземных позолоченных колесницах… Но мы американцы; мы приехали знакомиться с Индией, а не с Европой и ее произведениями на здешней почве.
Если турист потрудится бросить взгляд на берег, противоположный бомбейской пристани, то он увидит пред собою темно-синюю массу, возвышающуюся, словно стена, между ним и горизонтом. То Парбуль, плоскоголовая гора в 2250 футов высоты. Правый склон ее крепко прижался к двум остроконечным скалам, доверху покрытым густым бором; самая высокая из них – Матаран, цель нашей поездки. Полотно железной дороги расстилается у подножия прелестнейших холмов, пересекает сотни озерков и пронизывает слишком двадцатью тоннелями самую сердцевину скалистых гхот.
Мы ехали с тремя знакомыми индусами. Двое из них – когда-то высокой касты, ныне исключены из нее и «отлучены» от пагоды за сообщничество и сношения с нами, презренными иностранцами. На станции к нам присоединились еще двое приятелей из туземцев, с которыми мы переписывались из Америки уже несколько лет. Все они члены нашего Общества, реформаторы юной Индии и враги браминов, каст и предрассудков, сговорились отправиться вместе с нами на годичную ярмарку храмового праздника в пещерах Карли, посетив сперва Матаран и Кхандалы. Один из них был брамин из Пуны, другой мудельяр – помещик из Мадраса, третий сингалезец из Кегаллы, четвертый земиндар – землевладелец из Бенгала, пятый – громадного роста раджпут, независимый такур из провинции Раджастхан,[40] которого мы давно знали под именем Гулаб Лалл Синга, а звали просто Гулаб Синг. Распространяюсь о нем более, нежели о других, потому что об этом странном человеке шли самые удивительные и разнообразные толки. Ходила молва, будто он принадлежит к секте раджа-йогов, посвященных в таинство магии, алхимии и разных других сокровенных наук Индии. Он был человек богатый и независимый, и молва не смела заподозрить его в обмане, тем более, что если он и занимался этими науками, то старательно скрывал свои познания ото всех, кроме самых близких ему друзей.
Такуры почти все ведут свой род от Сурьи (солнце) и потому называются сурьявансами, потомками солнца, в гордости не уступая никому. По их выражение: «земная грязь не может пристать к лучам солнца», т. е. к раджпутам; поэтому они не признают никакой касты, кроме браминов, отдавая почести лишь одним бардам, воспевающим их военные доблести, которыми они так справедливо гордятся.[41] Англичане страшно боятся их и не решились их обезоружить, как другие народы Индии. Гулаб Синг приехал со слугами и щитоносцами.
Владея неистощимым запасом легенд и, как видно, хорошо знакомый с древностями своей страны, Гулаб Синг оказался самым интересным из всех наших собеседников.
– Вон там на лазоревом фоне неба, – рассказывал нам Гулаб Лалл Синг, – рисуется вдали величественный Бхао-Маллин; то бывшая обитель святого отшельника, куда теперь ежегодно стекаются толпы пилигримов и где, по глупому народному преданию (прибавил он улыбаясь), происходят разные чудодейные дела… На верху горы в 2000 футов высоты – платформа крепости, а позади ее еще другая скала в 270 футов; на самой ее остроконечной верхушке находится развалина другой, еще более древней крепости, служившей в продолжение семидесяти пяти лет обителью одному святому. Чем отшельник питался, останется навсегда неразгаданною тайной; вероятно, кореньями, которых, впрочем, на голой скале никогда не бывало. Единственный доступ к этому отвесному возвышению – это высеченные в скале углубления для носка ноги и веревочные перила. Казалось бы, одним только акробатам да обезьянам и лазить по ней! И однако же фанатизм придает индусам, по-видимому, крылья: ни с одним из них никогда не было еще несчастного случая. Как на беду, лет сорок тому назад, несколько человек англичан задумали было полезть туда для осмотра развалин. Поднялся ветер и сильным порывом их снесло в бездну. Тогда генерал Диккинсон приказал разрушить доступ к верхней крепости. А нижняя крепость (осада которой стоила бомбейской армии, в первые времена их нашествия, столько крови и потерь) теперь совершенно брошена и служит логовищем тиграм и орлам…
Пред таинственным и грандиозным прошлым Индии, древней Арьяварты, ее настоящее естественная тушевка; черная тень на светлом фоне картины, необходимое зло в цикле каждой нации. Индия одряхлела и упала, как падают громадные памятники древности, разбившись вдребезги; но зато каждый из мельчайших кусков этих обломков останется навеки драгоценностью для археолога и артиста, и даже со временем может послужить ключом для философа, как и для психолога. «Древние индусы строили как гиганты и заканчивали работу как ювелиры», восклицает в восторге епископ Гебер в книге своих путешествий по Индии. Описывая «Тадж-Махал» в Агре,[42] это поистине восьмое чудо света, он называет его «целою поэмой из мрамора». Но он мог бы также добавить, что трудно найти в Индии хотя сколько-нибудь сохранившуюся развалину, которая бы не повествовала красноречивее целых томов о прошлом Индии, о ее религиозных стремлениях, верованих и надеждах.
Нигде в мире древности, не исключая даже фараоновского Египта, переход от субъективного идеала к демонстрации его объективным символом не выражен более отчетливо, искусно и вместе артистически, как в Индии. Весь пантеизм веданты заключается в символе двуполого божества Арданари. Он окружен двойным треугольником, известным в Индии под именем «знака Вишну»; возле него лежит лев, бык, орел; в руке у него полный месяц, отражающийся в воде у ног его. Веданта учит несколько тысяч лет уже тому, что некоторые немецкие философы проповедовали в прошлом и настоящем столетиях, а именно, что все объективное в мире, как и сам мир, не более как иллюзия, майя, призрак нашего воображения, заключающий в себе столь же мало действительности, как отражение луны в воде; как феноменальный мир, так и наша субъективная концепция об эго – одна греза. Истинный мудрец никогда не поддастся обольщениям иллюзии. Он знает, что человек познает самого себя и становится настоящим эго лишь по окончательном слиянии собственной частички с целым, соделавшись неизменным, вечным, всемирным Брахмой, и поэтому весь цикл рождения, жизни, дряхлости и смерти в его глазах один фантазм воображения…
Вообще говоря, философия Индии, раздробленная на бесчисленное множество метафизических учений, имеет в связи с ее онтологическими доктринами столь развитую логику и такой замечательной утонченности психологию, что может поспорить в этом со всеми древними и современными школами, как идеалистов, так и позитивистов, и побить каждую по-одиночке. Позитивизм мистера Луиса (Lewes), подымающий дыбом от ужаса каждый волосок на голове оксфордских богословов, является какою-то карикатурной игрушкой пред учением атомистической школы вайшешики, с ее миром, разделенным, как шахматная доска, на шесть категорий вечных атомов, 9 веществ, 24 качества и 5 движений. И как ни трудным и даже невозможным кажется верное представление всех этих абстрактных идей, идеалистических, пантеистических и даже чисто материалистических в сжатой форме аллегорических символов, однако ж Индия сумела более или менее успешно выразить все эти учения. Она обессмертила их в уродливых о четырех головах кумирах, в геометрических формах своих замысловатых храмов и памятников и даже в запутанных линиях и знаках на лбах своих сектантов.
Обо всем этом и о другом рассуждали мы с нашими спутниками индусами. Присевший к нам на одной из станций католический падре, учитель из иезуитской коллегии Св. Ксаверия в Бомбее, не выдержал и вмешался в разговор. Улыбаясь и потирая руки, он полюбопытствовал узнать, в силу каких софизмов мог бы наш спутник доказать что-либо подходящее к философскому объяснению, например, «в основной идее четырех лиц этого увенчанного змеями уродливого Шивы, что торчит там при входе погоды», заключил он, тыкая по направлению идола пальцем.
– Очень просто, – отвечая бенгальский баб. – Вы видите, что эти четыре лика направлены к четырем странам света – к югу, к северу, западу и востоку?… Но эти лица на одном туловище и принадлежат одному богу…
– Вы прежде объясните нам философскую идею четырех лиц и восьми рук вашего Шивы, – заметил он.
– С большим удовольствием… Считая нашего великого Рудру[43] вездесущим, мы изображаем его с лицом, повернутым в одно и то же время во все четыре стороны, восемь рук указывают на его всемогущество, а одно туловище напоминает, что хотя он везде и всюду и никто не может избежать как его всевидящего ока, так и карающей его длани, но все же он един…
Падре хотел было что-то сказать, но поезд остановился: мы приехали в Нарель.
V
Прошло едва 25 лет с тех пор как Матеран, – громадная масса различных родов траппа, большею частью сильно кристаллизованного, – был впервые попран ногой белого человека. Под самым боком Бомбея, всего в нескольких милях от Кхндалы (летней резиденции европейцев), грозные вершины этого великана долго считались совершенно неприступными. К северу, его гладкая и почти перпендикулярная стена возвышается на 2450 футов над долиной реки Пен; а еще выше возносятся до облаков бесчисленные вершины отдельных скал, холмы, покрытые дремучим бором и пересеченные долинами и пропастями. В 1854 году железная дорога пронизала один из боков Матерана и теперь доходит до подножия последней горы, останавливаясь в Нареле, котловине, где еще недавно была одна только пропасть. Оттуда до верхней площадки остается около 8 миль, и туристу приходится выбирать между пони и паланкином, закрытым либо открытым, смотря по вкусу. Так как мы приехали в Нарель только к шести часам пополудни, то последний способ представлял маленькое неудобство: цивилизация одолела неодушевленную природу, но до сих пор еще, невзирая на весь деспотизм властелинов, не могла преодолеть ни тигров, ни змей. Если первые удалились в более непроходимые трущобы, зато змеи всевозможных родов, особенно кобры и коралилло, живущие предпочтительно на деревьях, царствуют в матеранских лесах как и во времена оны, и ведут против узурпаторов настоящую гверильясскую[44] войну. Горе запоздавшему пешеходу или даже всаднику, проезжающему под деревом, на котором засела такая змея! Кобры и другие пресмыкающиеся по земле породы редко нападают на человека, разве только в случае, если неосторожная нога наступит на них; вообще же они бегут и прячутся от людей. Но эти лесные гверильясы, tree serpent, кустарные змеи, выжидают жертв. Едва голова человека поравняется с ветвью дерева, на котором приютился «враг человечества», как, укрепясь за ветку хвостом, змея ныряет всею длиной туловища в пространство и жалит человека в лоб. Этот любопытный факт, долго считавшийся вымыслом, теперь проверен и принадлежит к фактам естественной истории Индии. В подобных случаях туземцы видят в змее посланника смерти и исполнителя воли кровожадной Кали, супруги Шивы.
Но вечер после знойного дня был так обаятелен, а лес манил нас издалека такою прохладой, что мы решились рискнуть. Среди этой дивной природы, где так и тянет стряхнуть с себя земные оковы, обобщиться с нею жизнью беспреградной, и самая смерть в Индии является привлекательной.
К тому же после восьми часов вечера всходила полная луна, и нам предстояло трехчасовое путешествие в гору в одну из тех лунных тропических ночей, за который туристы готовы приносить всевозможные жертвы и которые одни только истинные великие художники и способны описать. Молва начинает громко произносить имя нашего В. В. Верещагина как одного из тех немногих художников, которые сумели передать на полотне всю прелесть лунной ночи в Индии…
Пообедав на скорую руку в дак-бэнглоу (почтовой станции), мы потребовали наши кресла-носилки. Нахлобучив покрепче на лбы наши топи с их широкими, крышей спускающимися на глаза и затылок полями, мы отправились в 8 часов вечера в путь. Восемь кули, одетых по обыкновению в «виноградные листья» из тряпок, подхватили каждое кресло и с гиком и криком, бессменными спутниками индусов, пустились в гору. За каждым креслом бежали по восьми человек переменных носильщиков, итого, не считая индусов со слугами верхом, 64 человека: армия, способная спугнуть любого забредшего из джунглей леопарда или тигра, словом всякого зверя, исключая только наших бесстрашных «кузенов» по прадедушке Хануману. Едва мы повернули из аллеи в лесок у подножия горы, как несколько десятков этих родственников присоединились к нашему шествию. Благодаря заслугам союзника Рамы, обезьяны считаются в Индии священными, почти неприкосновенными. Правительство, следуя в этом старинной мудрости Ост-Индской Компании, запрещает трогать их или даже прогонять их из городских садов, а тем менее из принадлежащих им по праву лесов. Перескакивая с одной ветки на другую, стрекоча как сороки и делая страшнейшие рожи, они, как ночные кикиморы, преследовали нас почти всю дорогу. Облитые светом полной луны, они висли как русалк на деревьях и, далеко забегая вперед, поджидали нас на поворотах дороги, словно указывая нам путь. Один младенец-макашка так и свалился ко мне в ноги на носилки. В одно мгновение ока родительница его, бесцеремонно перескакивая по плечам носилыциков, явилась тут же и, прицепив младенца к груди, скорчила мне самую богопротивную гримасу… и была такова.
– Бандры (обезьяны) всегда приносят своим присутствием счастье, – заметил мне в утешение за измятую топи один из индусов. – К тому же, если мы видим их здесь ночью, то можем оставаться совершенно спокойными: наверное на десять миль кругом нет ни одного тигра…
Все выше и выше подымались мы по крутой извилистой тропе; а лес становился все гуще, темнее и непроходимее… Под чащей иногда становилось темно, как в могиле; пробираясь под вековыми баньянами, невозможно было различить в двух вершках собственный палец. Мне казалось непонятным, чтобы люди шли тут иначе как ощупью; но кули даже ни разу не споткнулись, а, напротив, прибавили шагу. Все, как бы сговорясь, молчали в такие минуты; среди этого тяжелого, окутывающего нас как флером мрака, слышалось лишь короткое, прерывистое дыхание носильщиков, да мерная, мелко выбиваемая дробь нервных шажков их босых ног по каменистому грунту тропинки… Делалось больно, стыдно за человечество, или скорее за ту часть человечества, которая способна была превратить другую во вьючных животных. И эти несчастные, с одного конца года до другого, получают за подобную работу по 4 анны в день на человека: 4 анны, то есть менее 8 коп. в сутки за совершение путешествия вверх и вниз на 8 миль в конец, не менее двух раз или четырех концов, чт составляет 32 мили на возвышенности 1500 футов и к тому же с ношею на шеях в 6 пудов!.. Впрочем, в Индии, стране застывшей в вековых обычаях, где все идет по одному шаблону, 4 анны – законная плата за день какой угодно работы. Призовите искусного поденщика-ювелира, и он сядет, поджав ноги, на пол, без всяких инструментов, кроме щипцов и крошечной железной печи, и создаст вам, из вашего золота и по данному рисунку, украшение, достойное мастерской фей. За это, то есть за 10 часов работы, он потребует 4 анны…
Но вот чаще и чаще стали попадаться просеки и открытые площадки, где становилось светло, как днем. Миллионы кузнечиков трещали по лесу, наполняя воздух металлическим звуком, напоминающим гудение губной гармоники; гоготали совы, и стаи испуганных попугаев метались с одного дерева на другое. По временам доносилось до нас издалека, из глубины поросшей дремучим лесом пропасти, долгое, громоподобное рычание тигра, могучий рев которого, по словам шикари (охотников), можно слышать в тихую ночь за много миль. Освещенная, словно бенгальским огнем, панорама изменялась при каждом повороте. Реки, поля, леса и скалы, расстилаясь у ног наших на необозримом пространстве, волновались, дрожали, облитые серебряным светом, переливались как волны марева… Фантастичность этой картины просто захватывала дух; кружилась голова, когда заглядывали мы в эти глубины на 2000 футов вниз, при неверном свете луны; а бездна так и тянула к себе… Один из наших спутников (американец), ехавший верхом, принужден был сойти с лошади и пойти пешком, боясь невольно поддаться влечению и нырнуть в бездну головой вниз. Несколько раз мы встречали спускавшихся с Матерана совершенно одиноких мужчин и даже молодых женщин, возвращавшихся с поденной работы на горе в свои села. Но случается нередко, что ушедший накануне человек не возвращается более и пропадает без вести. Полиция хладнокровно решает, что его унес тигр или убила змея, и исчезновение предается тут же забвению: что может значить одною личностью более или менее среди 240 миллионов народонаселения Индии? Но странно поверье, существующее между племенами Декана, сгруппированными вокруг этой таинственной и доселе во многих местах еще не исследованной горы. Поселяне уверяют, будто, несмотря на число погибающих в горах, никогда еще не было найдено в лесу ни одного скелета: покойник, будь он целым или обглоданным тиграми, тотчас же переходит во владение обезьян; они собирают кости и хоронят их в глубоких ямах, зарывая так искусно, что не остается и малейшего следа. Англичане смеются над этим поверьем, но полиция не отрицает бесследного исчезновения тел. При прорытии горы для железной дороги найдено, на удивительной глубине, несколько скелетов, сохранивших как бы измятые зубами зверей и переломанные браслеты и серебряные украшения на руках, ногах и шеях. Эти украшения доказывали, что их владельцев зарывали не люди, так как ни религия индусов, ни жадность их не допустила бы их до этого… Неужели же в царстве животных, как и между людьми, рука руку моет?
Переночевав в португальской гостинице, свитой как орлиное гнездо из бамбука и прилипшей к почти перпендикулярно обрывающемуся боку скалы, мы встали с рассветом и, обойдя все знаменитые красотой points de vue,[45] тотчас же собрались в обратный путь. Днем панорама являлась еще великолепнее: недостаточно целых томов для ее описания. Не будь горизонт замкнут с трех сторон истерзанными гребнями горных хребтов – все плато Декана явилось бы пред глазами. Бомбей – как на ладони; лиман, отделяющий город от Сальсеты, кажется тонкою серебристою струйкой. Как змея извивается он кольцами по направлению к гавани, окружает Канери и другие острова, разбросанные словно горошинки по светлой скатерти вод, пока наконец не сливается нестерпимо блестящей линией с далеким горизонтом Индийского океана. С другой стороны северный Конкан, замыкаемый хребтом Таль-Гхат; иглообразные верхушки скал Джано-Мали, и наконец зубчатый кряж Фунелля, грозный силуэт которого, словно замок сказочного великана, обрисовывает свои темные линии на далекой, дымчатой синеве неба.
Тому, кто совершал несколько раз перевал через Кавказские горы и следил за громом и молнией под ногами с Крестовой горы, кто побывал на Альпах и посетил Риги, знаком с Андами и Кордельерами и обходил все углы Катскильских гор в Соединенных Штатах – тому, надеюсь, будет дозволено выразить свое скромное на этот счет мнение. Быть может, Кавказские горы и величественнее и в отношении красоты нисколько не уступают гхатам Индии, но то красота чисто условная, классическая, если можно так выразиться; она внушает восторг, но вместе с тем и страх: человек чувствует себя пигмеем пред этими титанами природы. Но в Индии, за исключением Гималаев, чувство, возбуждаемое горными видами, совершенно другого рода. Самые высокие вершины нагорной равнины Декана, как и треугольной цепи, обрамляющей северный Индостан, и даже восточных гхат, не превышают 3000 футов. В одних только западных гхатах, расстилающихся вдоль всего Малабарского берега от мыса Кумари до реки Сурата, найдутся вершины в 7000 футов над уровнем моря. Поэтому, не с белым, как лунь, дедушкой Эльбрусом, или Казбеком, вышиной в 15-16000 футов, мы позволим себе сравнить горы Индостана. Главная и совершенно своеобразная прелесть последних состоит в изумительно прихотливой их форме. Эти горы или, скорее, отдельные вулканические скалы, иногда тесно прижатые друг ко другу, тянутся хребтами; но чаще всего, к великому затруднению геологов, разбросаны безо всякой видимой причины в самых неподходящих к ним по грунту местностях. На каждом шагу пространные долины, замкнутые, как стеной, высокими скалами, по кряжу которых часто пролегает железная дорога. Взгляните вниз: вам померещится, будто перед вами мастерская прихотливого титана-ваятеля, наполненная разбросанными полуоконченными группами, статуями, памятниками… Вот невиданная птица, распустив крылья и разинув пасть дракона, сидит на голове чудовища в 600 футов вышины; возле нее бюст человека в зубчатом, как стена феодального замка, шлеме; далее сказочные, пожирающие друг друга животные, безрукие статуи, шары, наваленные кучами, одинокие стены с бойницами, переломленные мосты и башни. Все это перепутано, разбросано; все с каждым новым шагом изменяет форму, как призрачные видения во время лихорадочного сна… А главное, нет здесь ничего искусственного; все это чистая игра прроды, которою при случае и пользовались древние строители. Человеческое искусство в Индии следует чаще искать внутри, чем на поверхности земли. Как бы стыдясь или считая грехом соперничать с изваяниями природы, индусы редко строили свои древние храмы иначе, как в недрах земли. Выбрав, например, пирамидально заостренную скалу или куполообразный холм, как в Элефанте и Карли, они выдалбливали их, по преданию Пуран, в продолжение веков, по планам, грандиозность которых превышает все понятия современной архитектуры и теперь совершенно ей недоступна.
Из Нареля проезд в Кхандалы совершается по железной дороге, напоминающей своею удивительною постройкой такую же дорогу из Генуи вверх через Аппенинские горы. Это путешествие скорее можно назвать «воздушным», нежели сухопутным. Дорога проходит на возвышении 1400 футов над Конканом, и в иных местах одна сторона рельсов проложена на острых гребнях скал, в то время как другая опирается на своды арок; один виадук в Мали-Кхинде возвышается на 163 фута. В продолжение двух часов мы летели между небом и землей, окруженные с обеих сторон пропастями, густо заросшими цветущими манговыми деревьями и бананами. Надо отдать справедливость английским инженерам: они строят великолепно.
Переезд через Бхор-гхат совершен благополучно, и мы в Кхандалах. Наш бунгало построен на окраине пропасти, глубину которой тщательно скрыла природа самою роскошною растительностью. Все в цвету, и одной этой бездонной ямы хватило бы на всю жизнь ботаника. Пальмы исчезли; они растут лишь на морских берегах, и их заменили баньяны, манго, пипалы (Ficus religiosa), смоковницы и тысячи других деревьев и кустарников, пород для нас, профанов, неведомых. Флора Индии была не раз оклеветана: ее обвиняли в том, что цветы ее прекрасны, но без запаха. Быть может, в известные сезоны замечание окажется справедливым; но пока цветет жасмин и различных родов бальзамины, белая тубероза и золотистая чампа – царь по величине меж цветущими деревьями, – то это совершенная неправда. От одного запаха чампы, растущей обыкновенно на гористых местностях и цветущей, как алоэ, один раз каждые сто лет, может закружиться голова; а в этот год сотни таких деревьев цвели на Матеране и в Кхандалах.
Сидя в тот вечер на веранде отеля над пропастью и невольно залюбовавшись окружающими нас видами, мы заговорились почти до полуночи. Все вокруг нас спало, и мы остались одни с нашими спутниками, говорившими по-английски не хуже любого оксфордского профессора. Кхандала, большая деревня, построенная на гладкой ровной возвышенности одной из гор хребта Сахиядры (около 2200 футов над морем), окружена изолированными холмами такой же странной формы, как и прочие. Один из них, прямо пред нами на противоположной стороне пропасти, представлял совершенное подобие длинного одноэтажного строения с плоскою крышей и зубчатым парапетом. Индусы клялись, что в окрестностях этого холма существует потайной вход, ведущий в пространные залы под холмом – целый подземный дворец, и что есть еще люди, владеющие тайной этой подземной обители. Святой отшельник, йог и маг, обитающий уже много столетий в подземелье, открыл тайну его знаменитому махратскому вождю Сиваджи. В этой таинственной обители непобедимый герой, как Тангейзер в опере Вагнера, провел семь лет своей юности; там он и приобрел свою необычайную силу и храбрость.
Сиваджи – деканский Илья Муромец XVII столетия, вождь и царь махратов, основатель их весьма недолгой империи. Ему одному Индия обязана ослаблением, если не совершенным уничтожением мусульманского ига. Маленького, как женщина, роста, с рукой, как у ребенка, он, однако же, владел необычайною силой, которую, конечно, соотечественники его приписывают колдовству. До сих пор его сохраняющаяся в музее сабля приводит всех в изумление своею величиной и тяжестью, в то время как разве только десятилетний ребенок в состоянии просунуть руку в узкую рукоятку. Основанием славы нашего героя, сына бедного офицера на службе у могульского императора, послужило умерщвление этим новым Давидом мусульманского Голиафа – Афзал-хана. Но он убил его не пращей, а страшным махратским орудием вагхнакх, состоящим из пяти длинных стальных, заостренных, как иглы, и крепких, как железо, когтей, которые публичные бойцы надевают на пальцы правой руки и затем рвут друг друга как дикие звери на куски. Декан полон преданиями о Сиваджи, и даже английские историки упоминают о нем с большим уважением. Как в легенде о Карле Великом, одно из местных преданий уверяет, что он не умер, а обитает до поры до времени в одном из многих подземелий горных хребтов Сахиядры. Когда пробьет час освобождения (по исчислению астрологов он недалек), Сиваджи явится и снова освободит свою любимую родину.
Хитрые и ученые брамины, настоящие иезуиты Индии, пользуются этими глубоко вкоренившимися в народе преданиями, чтобы выманивать у них деньги, часто даже последнюю корову, кормилицу целых семей. Привожу курьезный пример случившегося всего месяца два тому назад происшествия. В последних числах июля 1879 года появилось послание, таинственно ходившее по рукам в Бомбее. Перевожу буквально с махратского оригинала:[46]
«Шри!» (Приветствие – непереводимое).
«Да будет всем известно, что это послание, начертанное на оригинале золотыми буквами, снизошло в присутствии святых браминов с „Индра-лока“ (небо Индры) на алтарь храма Вишвешвара, чт во святом граде Бенаресе.
Внимайте и помните, народы Индостана, Раджастхана, Пенджаба и пр. и пр. В субботу, на второй день первой половины месяца магха,[47] эры Шаливагана 1809 года (то есть 1887 года), ровно через восемь лет, во время Ашвини Накшатра,[48] когда солнце войдет в знак Козерога, а время дня станет приближаться к созвездию Рыб, то есть ровно один час и 36 минут по восходу солнца, пробьет конец калиюге и восстановится столь желанная сатья-юга.[49] На этот раз сатья-юга продлится 1100 лет. Во все продолжение этого периода сроком человеческой жизни будет 128 лет. Дни удлинятся и будут состоять из 20 часов 48 минут, а ночи из 13 часов и 12 минут, то есть сутки станут длиться ровно 34 часа и 1 минуту. В тот знаменательный для нас первый день сатья-юги, в четыре часа и 24 минуты после восхода солнца, к нам прибудет с далекого севера новый царь, с белым лицом и златыми кудрями. Он сделается самодержавным владыкой Индии. Майя (иллюзия) человеческого неверия со всеми ей подвластными ересями будет низвергнута в Патал,[50] а майя достойных и благочестивых людей поселится с ними и поможет им наслаждаться жизнью в Мрэтин-локе.[51] Да будет также всем и каждому известно, что тому, кто поможет в распространении сей божественной рукописи, за каждую отпустится столько грехов, сколько обыкновенно отпускается набожному человеку за пожертвование брамину ста коров. Чт же касается неверующих и непомогающих нам, то они будут отправлены в Нарак (ад).
Передано и переписано рабою бога Вишну, во храме Вишвешвара, в Бенаресе – Мадлау Шрирам, в субботу, 7-го дня, первой половины шравана[52] 1801 года, эры Шаливагана…» (то есть 26 июля 1879 года).
Дальнейшая судьба этого невежественно-хитрого послания мне неизвестна; остановила ли полиция распространение его или нет – дело мудрых правителей. Но оно превосходно характеризует как легковерие погрязшего в фанатизме народа, так и бессовестность браминов, эксплуатирующих свою несчастную паству.
Чрезвычайно интересно в отношении названия Патал, буквально означающего «преисподняя», одно открытие, сделанное санскритским ученым (свами Дайанандом Сарасвати, о котором мыговорили во втором письме), особенно если оно подтвердится филологами, как это обещано фактами. Дайананд доказывает, что древние арийцы знали и даже посещали Америку, которая и называется в древних рукописях Паталом – преисподней страной, из имени которой позднее народная фантазия создала ад вроде греческого . Он подтверждает свое открытие изобильными цитатами из старейших писаний, особенно из легенд о Кришне и его любимом ученике Аржуне. По преданию, сам Аржуна ввел это поклонение змеям в Патале. Стечение обстоятельств и тождественность имен до того поразительны, особенно, когда мы находим их в двух совершенно противоположных странах света, что, право, стоило бы нашим ученым обратить на это внимание.
Имя жены Аржуны Иллупль чисто древне-мексиканское и если мы отбросим в сторону гипотезу свами, то станет совершенно невозможным объяснить себе присутствие подобного названия в санскритских рукописях задолго до христианских времен. Изо всех древних языков и диалектов только между языками аборигенов Америки постоянно встречаются подобные комбината согласных букв как тль, иль и т. д. Дайананд указывает, между прочим, на Сибирь и Берингов пролив, как на путь, пройденный Аржуной 5000 лет тому назад и приводивший его в Америку.
Далеко за полночь просидели бы мы, слушая подобные легенды, если бы содержатель гостиницы не прислал предупредить нас об опасностях, угрожающих нам на балконе, ночью, особенно в лунные ночи. Программа этих опасностей состояла из трех отделений: 1) змеи; 2) дикие звери; 3) дакоиты. Кроме кобры и «скалистой змеи», здешние горы изобилуют породой маленьких горных змей, известных под именем фурзен, самой опасной изо всех пород; укушение их убивает человека с быстротою молнии. Луна привлекает их, и целые компании этих непрошеных гостей залезают на веранды домов «греться»; им тут, во всяком случае, теплее, нежели на земле. Цветущая же и благоуханная пропасть у подножия веранды оказывалась любимым местом прогулки тигров и леопардов, приходящих туда по ночам «напиться» у протекающего внизу широкого ручья, и бродящих иногда до самого рассвета под окнами бунгало. Наконец шальные дакоиты, притоны которых рассеяны по этим неприступным для полиции горам, часто стреляют в европейцев из одного лишь удовольствия отправить к праотцам ненавистного им белляти (иностранца). За три дня до нашего приезда жена одного брамина была унесена тигром в пропасть, а две любимые собаки коменданта, спавшие на дворе, были убиты змеями. Не дожидаясь дальнейших объяснений, мы немедленно разошлись по своим комнатам. На рассвете нам предстояло ехать за 6 миль в Карли.
VI
В пять часов утра мы уже были у подножия горы, доехав в нашей колымаге на волах до последних пределов не только экипажного, но и верхового тракта. Последнюю полмилю мы ехали по настоящему взбаломученному морю камней, а теперь оставалось лишь взлезать или скорее карабкаться на четвереньках по тропе, идущей зигзагами вверх по перпендикулярному почти склону в 900 футов высоты. Совершенно растерявшись, посматривали мы на эту историческую громадину, не зная, что делать далее. Почти на самом верху горы, под далеко нависшими скалами, зияло с дюжину черных отверстий; сотни пилигримов в праздничных одеждах ползли по склону, как разноцветные муравьи. Но тут выручили нас наши преданные друзья индусы. Один из них, приложив ладонь ко рту, закричал громким, пронзительным не то криком, не то свистом. По первому зову раздался ответный сигнал сверху; вслед за тем несколько полуголых браминов – наследственные сторожа храма, – с быстротой и ловкостью диких кошек запрыгали по скалам сверху вниз. В пять минут они уже были около нас, опутали нас ремнями и затем скорее поволокли, нежели повели, вверх. Через полчаса, измученные, но целые, мы уже стояли пред входным портиком главного храма, до той поры сокрытого со всех сторон гигантскими липами и кактусами.
Величественный, весь покрытый скульптурой портик храма (в 52 фута ширины), на четырех массивных колоннах, образующих четырехугольник, покрыт вековым мхом. Впереди портика стоит «колонна льва», так названная от четырех изваянных в натуральную величину львов, сидящих спиной к спине на четырех сторонах капители. Над главною дверью проведена огромная арка, а стены по обе стороны фасадной двери покрыты изваяниями мужских и женских фигур гигантских размеров; впереди этих фигур далеко выдвигаются из стены три колоссальные слона en relief с головами и хоботами. Самый храм овальной формы в 128 футов длины и 46 ширины; среднее его пространство отделено от правого и левого крыла 42 колоннами, поддерживающими круглый куполообразный потолок; за ним, отделенный от первого алтарем, находится другой купол, поменее, над комнатой вроде потаенного святилища, служившего внутренним алтарем для древних первосвященников арийского племени. Оба ведущие к ней боковые коридора, не доходя до главного алтаря, обрываются, заставляя предполагать, что в древности здесь были или двери, или стена, которых теперь уже не существует. Все 42 колонны на высоких подножиях, восьмиугольных стержнях и богатой лепной работы на капителях, изображающей на каждой двух коленопреклоненных слонов с двумя сидящими на них фигурами, бога и богини, «самой изящной работы», говорит Фергюсон. По его мнению, храм этот, или чаитья, сохранился лучше всех других и древнее прочих. Он может быть отнесен к эпохе за 200 лет до Р. Х., так как надпись, разобранная Принсепом на колонне Силастамбы,[53] гласит, что колонна льва есть жертвоприношение храму от Аджмитры Указа, сына Сахы Равизобхоти, а другая надпись указывает на посещение храма Датхамой Харой (он же и Даттагамини) царем цейлонским на 20 году его царствования, то есть 163 года до нашей эры. Д-р Стивенсон,[54] почему-то в этом случае настаивает на 70 годах до Р. Х., уверяя, будто Карлен (Карли) построен императором Девобхути, под надзором Ксенократа (Дхануккат). Но как могло бы это быть ввиду предыдущей и, как доказано, совершенно подлинной надписи? Даже Фергюсон, этот известный защитник египетских древностей и враг древностей Индии, положительно доказывает, что Карли принадлежит к постройкам III века до Р. Х., добавляя при том, что «расположение отдельных частей архитектуры его совершенно тождественно с архитектурой хоров готического круглого или со многоугольными апсидами собора».
Над главным храмом еще два выдолбленные в скале яруса; в каждом из них открытая во всю ширину галерея с толстыми резными колоннами, а из галереи идут внутрь горы большие залы-кельи и внезапно оканчивающиеся по-видимому глухою стеной коридоры, иногда очень длинные, но теперь бесполезные. Сторожа и хранители святилища либо сами утратили тайну входов, ведущих далее, либо ревниво скрывают ее от европейцев.
Кроме главной, есть множество меньших вихар, или храмов-монастырей, еще древнее первой, как полагают археологи, рассеянных по склону горы; но какому именно веку или эпохе принадлежат они, о том не знает никто, кроме немногих браминов, да и те молчат. Вообще говоря, положение археологов в Индии весьма грустное: массы народа, погруженные в невежество, не могут, конечно, оказать им какой-либо помощи, а ученые брамины, посвященные во все тайны потаенных библиотек в пагодах, молчат и стараются всеми силами препятствовать разысканиям археологов. Да и трудно и даже несправедливо было бы обвинять в этом браминов после всего случившегося. Горький опыт в продолжение долгих столетий научил их, что их единственное спасение – в осторожности и недоверчивости, иначе и национальная история и драгоценнейшие их святыни давно пропали бы бесследно. Политические перевороты, мусульманские нашествия, столько веков терзавшие Индию и потрясшие эту страну до самого основания, всеразрушающий фанатизм мусульманских вандалов, католические падре, пускающиеся на всякие хитрости, лишь бы завладеть рукописями, а затем уничтожить их, все это более чем оправдывает браминв. Несмотря, однако же, на вековые разрушения, до сих пор в разных местах Индии имеются обширные библиотеки, доступ куда пролил бы яркий свет не только на древнюю историю самой страны, но и на самые темные гипотезы всемирной истории. Некоторые из этих наполненных драгоценными рукописями библиотек находятся во владении туземных принцев и подвластных им пагод; но бльшая часть в руках джайнов (самой древней секты) и такуров Раджпутаны,[55] старинные, наследственные замки которых разбросаны по всему Раджастхану, как орлиные гнезда, на вершинах скал. Знаменитые коллекции в Джайсалмере и Патане известны, но недоступны правительству. Рукописи написаны на древнем и давно забытом языке, понятном лишь великому первосвященнику и его посвященным библиотекарям. Один толстый фолиант считается до того священным и неприкосновенным, что он повешен на тяжелой золотой цепи среди храма Чинтамуна в Джайсалмере (столице Раджпутанской пустыни) и снимается только для обчистки и нового переплета с каждым восшествием нового понтифа. Это сочинение известного в истории Сомадитьи Суру Ачарьи, великого первосвященника до мусульманского нашествия. Мантия его сохраняется до сих пор в храме и в нее облачается при посвящении каждый новый первосвященник. Тод, живший столько лет в Индии и приобретший любовь народа и браминов, какой ни один англичанин не добился и не добьется, человек, привязавшийся к этому народу всеми силами души и написавший об Индии единственную правдивую историю,[56] не мог получить дозволения даже дотронуться до фолианта. Молва идет, что ему предложили принять веру этой секты, обещая в таком случае посвятить его во все таинства. Страстный археолог, он чуть было не решился на это, но, принужденный по болезни ехать в Англию, умер, не успев вернуться в свое второе отечество. Таким образом тайна этого нового тома Сивиллы остается доселе неразгаданной.
То же рассказывают и о Карли, его библиотеках и подземных ходах. А между тем археологи даже не в состоянии определить, кем построен этот древний храм, буддистами или браминами. Огромная дагхопа (алтарь), закрывающая от взоров прихожан находящееся за нею святилище, похожая на низкий минарет с куполом, осенена грибообразною крышей, называемою археологами зонтиком, как фигуры Будды и китайских мудрецов. Но шиваиты, во владении коих находится теперь Карли, уверяют, будто это приземистое здание, похожее на барабан с куполом, есть лингам Шивы. К тому же и лепная работа, и вырезанные в скале изваяния богов и богинь не допускают мысли, что этот храм есть произведение буддистов.
«Мое замечание, что пещеры чаитьи как бы мгновенно достигли высшего совершенства в архитектурном и скульптурном смысле, относится в особенности к этому пещерному храму (Карли)», пишет Фергюсон. «Возьмем ли мы нашим путеводителем Махавансу или надписи царя Ашоки, как тот, так и другой выбор приводит нас к одному и тому же результату. Очевидно, что эта страна (Декан) под именем Махараштханы (в рукописях Махавансы, а в надписях – Питеники) есть та самая необращенная земля, куда Ашока на десятом году своего царствования посылал миссионеров Будды; поэтому, если допустить это исчисление, то между обращением страны и сооружением этого великолепного памятника прошло не более одного века. В вихарах Карли, как и в других таких же, принадлежащих к той же эпохе, нет ничего такого, чт не могло бы быть изваяно из натуральной пещеры того же времени; но в храме Карли мы видим такое смешение стилей и такое совершенство работы, что находимся более чем когда-либо в затруднении. Чт такое этот памятник древности? Храм ли то браминов или буддистов? Выстроен ли он по плану, начертанному после смерти Шакьи Синги, или это есть принадлежность еще более древней религии? Наконец, если мы правы, полагая, что рытье пещер началось только после царствования Ашоки (в III веке до Р. Х.),[57] то для чего же, в то время как другие вихары (за исключением, впрочем, десятков иных, как Элефанта, Аджунта, Каннери и пр., которые Фергюсон старается придвинуть по возможности ближе к нашим временам) так малы и ничтожны, был предпринят подобный громадный труд прорытия скалы и сооружены именно этого храма?»
«That is the question».[58] Если Фергюсон, вынужденный фактическими доказательствами надписей допустить древность Карли, все-таки станет утверждать, что Элефанта гораздо современнее, то ему едва ли когда-либо удастся выпутаться из этой дилеммы, так как стиль архитектуры тот же, а скульптурная работа еще грандиознее. Приписывать храмы Элефанты и Каннери буддистам, а затем относить их постройку к IV и V, а другую к Х столетиям нашей эры, значить навязывать истории странный и ни на чем не основанный анахронизм. После I века по Р. Х. в Индии не оставалось ни одного влиятельного буддиста; разбитые и преследуемые браминами, они бежали тысячами на Цейлон и за Гималаи. Со смертью царя Ашоки буддизм стал быстро распадаться, и в Индии его совершенно вытеснил теократический брахманизм. Гипотеза Фергюсона, что изгоняемые с материка последователи Шакьи Синги, вероятно, искали убежища на окружающих Бомбей островах, также едва ли может выдержать критически анализ. Элефанта и Сальсета под боком Бомбея (всего в двух и пяти милях) наполнены древними храмами индусов. Возможно ли предположить, чтобы брамины, более чем когда-либо в силе пред периодом, предшествовавшим мусульманскому нашествию, фанатики и смертельные в ту эпоху враги буддистов, дозволили ненавистным им еретикам строить буддистские пагоды не только в своих владениях вообще, но в «Харипури» в особенности, на острове их священного «города пещерных храмов»? Не нужно быть ни специалистом-архитектором, ни великим археологом, чтобы с первого же взгляда убедиться в том, что храм Элефанты, например, есть работа циклопов, требующая столетий, а не годов. В то время как в Карли все выстроено и высечено по строго обдуманному плану, в Элефанте как бы тысячи разных рук, задаваясь каждая своим планом и следуя собственной идее, созидали каждая в свое время. Все три пещеры, например, выдолблены внутри твердой порфировой скалы: как средний большой, так и два боковые храма. Первый храм, почти квадратный (130 1/2 ф. длины и 130 ширины), имеет 26 толстейших колонн и 16 пилястр. Некоторые колонны отстоят друг от друга на 12, другие на 16 футов, на 15 и три вершка, на 13 и два вершка и так далее. Такую же разницу мы находим в пьедесталах колонн, где каждая разнится украшениями и чистотой работы от другой. Так почему же, спрашивается, не обратить внимания на объяснения браминов? Они говорят, что храм был задуман и начат сыновьями Панду, после «великой войны» Махабхараты, и что они завещали всем верующим продолжать работу по своему усмотрению. Затем храм строился целые три века. Желающий искупить свои грехи приносил резец и работал; часто многие из членов царских фамилий и сами цари лично принимали участие в труде…[59] Если храм был мало-помалу заброшен, то это потому, что люди предыдущих и нынешнего поколения сделались слишком недостойными посещать подобное святилище.
VII
Ярмарка была в самом разгаре, когда мы, окончив наши визиты в кельи, облазив все ярусы и осмотрев знаменитую «залу бойцов», спустились вниз не по лестницам, от которых не осталось и следа, а как спускаются ведра в колодцы – на веревках. До трех тысяч народа собралось из соседних сел и городов. Женщины, разукрашенные до пояса, в блестящих сари, с кольцами в ноздрях, ушах, губах и всюду, где только можно их прицепить, с гладко зачесанными назад блестящими от кокосового масла волосами, цвета воронова крыла, с синим оттенком, косы коих были украшены пурпуровыми цветами, посвященными Шиве и Баване, женской половине бога. Перед храмом образовались ряды лавочек и палаток, где проавались все принадлежности обычных жертвоприношений: ладан, ароматические травы, сандаловое дерево, рис и гулаб, красная краска в порошке, которым они мажут идолов и затем собственные физиономии. Факиры, байраги, госсейны, весь штат нищенствующей братии прохаживались в толпе; обвитые четками, с обмазанными синеватою сажей лицами и телом, с их длинными, всклоченными волосами, собранными на макушке в чисто женский шиньон, они со своими бородатыми физиономиями представляли пресмешное подобие голых обезьян. Некоторые из них, вследствие самобичевания, были страшно изранены. Были тут и буни – змее-чародеи, с целыми десятками кобр, фурзенов и змей вокруг пояса, шеи, рук и ног – модель, достойная кисти художника, желающего изобразить мужскую «фурию». Особенно отличался между ними один джадугар (колдун), обвивший себе голову кобрами как чалмой; раздув капюшоны и подняв свои зеленые, листообразные головы, кобры безостановочно шипели – шипением, напоминающим тяжелое дыхание умирающего; оно слышно за сто шагов. Быстро высовывая тонкое жало,[60] они сверкали маленькими злыми глазками на всех проходящих… Между прочим, вот чт случилось: передаю факт так точно, как происходил, безо всяких объяснений и собственных гипотез, а прямо предоставляя разгадку проблемы натуралистам.
Надеясь, вероятно, на заработок, буни в змеиной чалме прислал к нам мальчика, предлагая показать, как он очаровывает змей. Не желая терять случая, мы согласились. Не стану распространяться обо всех штуках и фокусах, какие нам удалось видеть; перейду прямо к главному факту. Вынув вагуду (род дудки из бамбука), буни сперва погрузил змей в каталептический сон. Наигрываемая им мелодия, тихая, медленная и чрезвычайно оригинальная, усыпила было и нас самих: по крайней мере, всех нас вдруг стало непреодолимо клонить ко сну безо всякой видимой причины. Из этого полулетаргического состояния мы были вырваны нашим приятелем Гулаб Сингом, который, нарвав какой-то травы, советовал нам натереть ею крепко виски и веки. Затем буни вынул из грязного мешка что-то вроде круглого камешка, похожего на рыбий глаз или черный оникс с белою крапинкой посредине, величиной с наш гривенник. Он уверял, что кто купит этот камень, тот «очарует» им какую угодно кобру (на других змей камень не действует), мигом парализуя и под конец усыпляя ее: к тому же это единственное, по его словам, спасение против укушения кобры; следует только немедленно приложить этот талисман к ране, к которой он тут же и пристанет так крепко, что его нельзя будет оторвать; затем, высосав весь яд, камень отпадает сам собою, и тогда минует всякая опасность…
Буни между тем стал дразнить своих змей. Выбрав громадную кобру, футов в 8 длины, он раздразнил ее до бешенства: обвив хвостом пень, она поднялась на дыбы и стала страшно шипеть.[61] Наконец она укусила буни за палец, на котором вскоре показалось несколько капель крови. У толпы вырвался единодушный крик ужаса. Но буни не торопясь приклеил к пальцу свой камешек, который и пристал к нему как пиявка, и затем стал продолжать свои представления. «У змеи мешок вырезан», заметил полковник из Нью-Йорка; «это просто фарс…» Как бы поняв замечание, буни, после небольшой борьбы в ловкости, поймал кобру за шею одною рукой, а другою всунул ей в рот сломанную спичку, установив ее перпендикулярно между двумя челюстями так, что они остались разинутыми; затем он стал подносить змею к нам поочередно, указывая на убийственную железку с ядом. Но полковник сдался не сразу. «Мешок там, а яду быть может и нет. Почем мы знаем?» Принесли живую курицу и, связав ей ноги, положили возле змеи. Но та отвернулась от жертвы и грозно шипела на буни. Тогда, просунув между связанных лап курицы палку, буни стал снова дразнить кобру, пока та, наконец, не укусила несчастную птицу. Слабо закудахтала жертва, встрепенулась раз, другой и окоченела. Смерть была мгновенная…
Вслед за этим произошло нечто столь странное, что можно быть заранее уверенным, что мой рассказ восстановит против себя всех петербургских и московских антиспиритов и критиков. Но факты, даже вследствие самой убийственной критики, не могут перейти в область фикции, а так и останутся фактами. Змея мало-помалу дошла до такого исступления, что видно было, как самому джадугару становилось опасно приблизиться к ней. Как бы приклеенная хвостом ко пню, она металась во все стороны передним телом, стараясь укусить чт ни попадало. В нескольких шагах от нас показалась собака, и на нее-то теперь буни устремил все свое внимание. Скорчившись на земле, на благоразумном расстоянии от бесновавшейся кобры, он вперил в собаку неподвижный, стеклянный взор и стал напевать что-то сквозь зубы. Собака сразу обнаружила признаки беспокойства: поджав хвост, она было полуобернулась, чтоб уйти, но осталась как бы прикованною к земле. Через несколько секунд собака стала ползти на животе по направлению к буни, все ближе и ближе, слабо визжа и не сводя с него глаз, словно очарованная… Я поняла мысль чародея, и мне стало ужасно жаль бедной собаки; мне хотелось как-нибудь спасти ее, разрушить это влияние. Но, к ужасу моему, я почувствовала, что у меня самой язык как бы прилип к гортани, и что мне невозможно было не только встать, но и пошевельнуть пальцем. Эта дьявольская сцена продолжалась, к счастью, недолго. Медленно ползя, собака уже была на пол-аршина от кобры: в одно мгновение со страшным шипением змея кинулась на нее и укусила в голову… С жалобным визгом животное упало на спину, задрыгало ногами и менее чем в минуту издохло. Сомневаться в присутствии яда в мешочке становилось долее невозможным. Между тем камешек отпал от ранки, и колдун стал всем показывать свой заживший палец, на котором чуть краснел укол не более как в булавочную головку. Поставив всех своих змей на хвосты и держа камешек между большим и указательным пальцами, он стал показывать влияние на них своего талисмана. По мере приближения пальцев к головам змей, те подавались всем телом назад; упершись глазами в камень, они дрожали, наклонялись все ниже и ниже, пока наконец не падали наземь усыпленные… Затем он предложил скептическому полковнику сделать лично опыт. Несмотря на наши предостережения, этот немедленно согласился, выбрав для первого эксперимента большую кобру. Вооруженный камнем, полковник храбро подошел к ней и поднес его к голове змеи. Сперва, раздув капюшон, она сделала движение, чтобы кинуться на него, но вдруг остановилась как бы вкопанная и, закинув голову назад, вперила глаза в камешек, которым тот медленно водил по всем направлениям, приближая его постепенно ко лбу змеи и заставляя ее крутиться на хвосте. От страха мы положительно не смели двигаться. Когда же камень, а вместе с ним и пальцы полковника приблизились на полвершка от головы змеи, она вдруг зашаталась всем телом и во все стороны, как пьяная; шипенье делалось все слабее, капюшон повис по обеим сторонам шеи; глаза стали закрываться. Склоняясь все ниже и ниже, змея наконец упала наземь, как надломленный сучок дерева, и в свою очередь заснула…
Только тогда мы вздохнули свободно. Отведя колдуна в сторону, мы пожелали купить у него камень, на что он, к нашему удивлению, тотчас же согласился, запросив две рупии. Талисман перешел в мою собственность и в настоящее время находится у меня в сохранности. Буни уверяет (а наш приятель индус подтверждает), что это не камень, а нарост. Его находят в нёбе у кобры, у одной изо ста, между костью верхней челюсти и кожей, покрывающей нёбо. Камешек этот не прикреплен к черепу, а висит отдельно на жилке и может быть вынут посредством простого надреза кожи; но вслед за этою операцией кобра умирает. По словам Бишу-Натха (имя нашего колдуна), подобный во рту нарост делает из владеющей им змеи нечто вроде царя между кобрами». Такая кобра все равно что брамин, дважды рожденный брамин между шудрами[62] (говорил буни), и другие кобры повинуются ей. Затем буни предложил поймать другую собаку, что и было сделано: змея укусила ее, а он приложил к ранке камень; собка даже и не заметила укушения, оставаясь очень спокойною, пока он не отнял камня от раны. Прощаясь с нами, буни советовал держать «талисман» в сухом месте и остерегаться оставлять его поблизости мертвого тела, или же оставлять при свете во время солнечного и лунного затмения, иначе он потеряет силу. Затем, в случае укушения бешеной собакой, стоило только положить «камень» в стакан с водой и оставить его в ней на ночь; на другой же день дать больному выпить эту воду, и он выздоровеет.
– Это черт, а не человек! – воскликнул полковник, когда буни ушел в направлении к святилищу Шивы, куда нас, впрочем, не пустили.
– Такой же смертный, как и мы с вами, – заметил, улыбаясь, раджпут, – и даже очень невежественный. Только, как почти все эти serpent charmers,[63] он воспитан браминами во храме Шивы, великого патрона всех змей; там их учат разным «месмерическим фокусам» практически, не объясняя им ровно ничего, с целью, чтоб они верили, что все это производится Шивой, которому они, конечно, и приписывают всю честь своих чудес.
– Но ведь правительство давно уже предлагает премию в несколько тысяч рупий за противоядие от укушения кобры. Почему же они не являются за премией, когда каждый год погибает столько народу?
– Брамины никогда не допустят их до этого. Если бы правительство потрудилось вникнуть серьезнее в статистику смертных случаев от укушения змей, то оно нашло бы, что ни один индус из секты Шивы не умирал еще от кобры. Умирают люди других сект, а своих они спасают.
– Но ведь вот же он нам, незнакомым, и вдобавок иностранцам, открыл секрет. Почему же англичанам не воспользоваться им?
– Потому что для европейцев он совершенно бесполезен. Индусы и не скрывают этого противоядия, ибо знают, что без них никто не в состоянии им воспользоваться. «Камень» сохраняет свою силу лишь при условии быть вынутым из живой кобры. Чтобы поймать эту змею живою, необходимо сперва погрузить ее в летаргический сон или, как это называется, «очаровать» ее. Кто из иностранцев способен на это? Даже между индусами, за исключением воспитанников шиваитских браминов, не найдется ни одного во всей Индии человека, владеющего этим секретом древности. Одни брамины Шивы, да и то далеко не все, а только исключительно принадлежащие к школе лже-Патнжали, к школе так называемых аскетов бхутов (демонов), имеют монополию. Во всей стране осталось лишь с полдюжины таких школ-пагод, рассеянных по всем пунктам Индии, а их обитатели скорее расстанутся с жизнью, чем выдадут тайну.
– Мы заплатили две рупии за камень, который в руках полковника оказал такое же влияние, как и в руках буни. Разве так трудно скупать запасы подобных камней?
Наш приятель засмеялся.
– Через несколько дней талисман в ваших неопытных руках потеряет всю свою целительную силу. Он оттого-то так дешево и продал вам его, и в эту минуту, вероятно, приносит свой ловкий обман в жертву пред алтарем своего божества. За одну неделю целительного свойства вашей покупки ручаюсь; затем вы можете его смело выбросить за окно.
Мы скоро убедились в истине сказанных слов на деле. Укушенная на другой же день зеленым скорпионом девочка каталась в последних судорогах. Как только мы приложили к ране камень, ребенок получил немедленное облегчение, а через час уже весело играл, тогда как в случае укушения даже простым черным скорпионом люди болеют по две недели. Но когда дней через десять после того в Аллахабаде мы пожелали испробовать силу «камня» над бедным кули, которого только что ужалила змея (тут же убитая кобра), талисман наш даже и не пристал к ране, а через час несчастный умер.
Я не берусь ни объяснять, ни защищать свойство «камня»; я просто заявляю факт, оставляя его дальнейшую судьбу на произвол судьбы и господ скептиков. Но и в этом мне легко найти много живых свидетелей в Индии. Когда д-р Файрер, только что издавший в свет свое известное во всей Европе сочинение о змеях Индии Thanatophidia, категорически заявил в нем о своем неверии во все эти пресловутые средства «фокусников» Индии, то случилось следующее. Его повар через неделю или две по появлении его ученого сочинения между англо-индийцами был укушен коброй. Проходивший мимо дома буни вызвался спасти несчастного. Именитый натуралист уже приготовился было приказать вытолкать буни за порог, как майор Келлей и другие офицеры упросили его «попробовать». Презрительно махнув рукой и объявив, что через час его повара все-таки не станет, доктор согласился. Через час повар стряпал почтенному ученому и его гостям обед на кухне, а сам профессор чуть было не кинул свое новое сочинение в огонь…
День становился страшно знойным; солнце накалило скалы до такой степени, что они жгли ноги даже сквозь толстые подошвы. Мы решились уйти домой, то есть в нашу прохладную пещеру, находившуюся шагах в шестистах от большого храма.
VIII
Пройдя портик у главного входа, мы заметили стоящего отдельно от толпы молодого человека, поразившего нас своею идеальною красотой. То был член секты садху, «кандидат во святого», как выразился один из нашей компании.
Эти садху отличаются от прочих сектантов. Они не ходят нагими, не покрывают тела мокрою золой, не носят отличительных знаков на лице и лбу и не покланяются идолам. Принадлежа к строгой секте адвайти школы веданты, они признают лишь Парабрахму (великого духа). Одетый в довольно приличную светло-желтую кисейную рубашку без рукавов, с длинными распущенными волосами, садху стоял с непокрытою головой, опершись локтем на корову, с выросшею у ней из горба «пятою ногой». Это удивительное произведение природы обмахивалось своею пятою ногой, словно рукой, чеша голову копытцем и хлопая им по ней мух. Приняв сперва этот запасный член за фокус, мы очень недоверчиво смотрели как на него, так и на красивого обладателя коровы; но, подойдя ближе, мы убедились, что то действительно была игра шаловливой природы, а не хитрость человека. Мы узнали от хозяина, что это животное было подарено ему магараджей Холькаром и уже два года кормило его своим молоком, единственной его пищей.
Садху – ученики и последователи раджа-йога обыкновенно секты ведантистов (как уже сказано выше), то есть посвященных мистиков, совершенно отрешившихся от света и ведущих целомудренную жизнь монахов; они не отличаются каким-либо особенным костюмом, кроме белого тюрбана и длинных волос. Между садху и буни (учеников шиваитов) существует смертельная вражда, выражающаяся с одной стороны молчаливым презрением, а с другой – неудачными со стороны буни попытками стереть садху с лица земли. Эта неприязнь напоминает антагонизм «света и тьмы», нечто вроде дуализма Ахура-Мазды и Аримана у последователей Зороастра. На первых народ взирает как на магов, сынов солнца и божественного начала; на вторых – как на опасных колдунов. Наслышавшись о репутации первых и их «чудодейных» способностях, сгорая любопытством увидеть на деле приписываемые им (даже многими англичанами) чудеса, мы очень просили садху навестить нас вечером в нашей вихаре. Но красивый аскет наотрез отказался, под предлогом, что мы поселились в храме идолопоклонников, одна атмосфера которых действует на него неприязненно. Видя его непреклонность, мы было пробовали предложить ему денег, но он решительно от них отказался, и мы ушли.
Тропинка, или скорее выем на почти перпендикулярной стене скалы к нашей вихаре, ведет от главной пещеры вдоль обрыва в 900 футов глубины. Требуется верный глаз, твердая поступь и очень крепкая голова, чтобы при малейшем неосторожном шаге не скатиться в пропасть; тут посторонняя помощь почти бесполезна, так как по этоу выему (около двух футов ширины) идти двум особам рядом положительно невозможно. Пришлось пробираться гуськом, призывая на помощь все имеющееся налицо присутствие духа; у некоторых же из нас этот дух находился в бессрочном отпуску. Особенно неприятно было положение нашего американского полковника, весьма полного, близорукого почти до слепоты и, вследствие этого, страдающего головокружением. В виде слабого утешения, мы было затянули хором дуэт из Нормы «Moriam insieme»… и для вящей уверенности, что смерть либо минует всех, либо мы все четверо «умрем вместе», крепко держали друг друга за руки – гуськом; однако полковник нас заставил-таки сильно перетрусить за него. Мы были уже на полдороги, как вдруг он, оступившись, зашатался, внезапно вырвал руку из моей руки и – покатился вниз… Держась все трое одною рукой за кусты и скалы, мы даже не успели поддержать его другою. Вырвавшийся у нас единодушный крик ужаса замер с первой секунды, когда, обернувшись лицом к пропасти, мы увидели, как, наткнувшись по склону шагах в шести под нами на деревцо, он повис на нем обеими руками и ногами. К счастью, мы знали его за хорошего гимнаста, владеющего к тому же замечательным хладнокровием. Но минута была критическая: тонкий ствол мог каждую минуту сломаться, и наш полковник полететь в бездну. Мы уже стали было кричать о помощи, как вдруг, будто выросши из недр горы, нам предстал таинственный садху со своею коровой…
Оба шли футах в двадцати под нашими ногами, по невидимым выступам скал, где, казалось, негде было укрепить и детской ноги – шли также беспечно и уверенно, как если бы вместо отвесной скалы они шли по широкой шоссейной дороге. Подняв голову, садху закричал висевшему над его головой полковнику держаться крепче, а нам не трогаться с места. Ласково потрепав «пятиногую» по шее, он снял с нее веревку, все время тихо напевая что-то вроде «мантры»; затем, взяв ее обеими руками за голову, направил ее в нашу сторону и, защелкав языком, спокойно сказал ей: «чал!» (иди!) В одно мгновение, запрыгав, словно дикая коза, вверх по скалам, корова очутилась немного впереди нас, где и стала на тропинке, как вкопанная. Сам же садху, по-видимому, с такою же ловкостью полез к дереву, и обмотав полковника веревкой за пояс, сперва поставил его на ноги, а затем, поднявшись выше на тропинку, одним взмахом сильной руки втащил его за собою, немного бледного и потерявшего лишь свое pince-nez, но отнюдь не присутствие духа.
Происшествие, грозившее было окончиться трагедий, заключилось комедией.
Солнце уже склонялось к западу и становилось опаснее, чем когда-либо, терять время. «Чрез несколько минут станет темно, и тогда мы все погибнем», заметил секретарь полковника, Эдвард У***. Между тем наш садху, не понимавший, по-видимому, ни слова по-английски, опутав снова шею своей коровы веревкой, стоял неподвижно на повороте тропинки. Его высокая, тонкая фигура, возвышаясь над пропастью, словно висела на воздухе; одни развевающиеся по ветру длинные черные волосы заставляли помнить, что пред нами стоит живой человек, а не великолепное бронзовое изваяние. Забыв только что миновавшую опасность и наше положение, мисс Б., художница по призванию и страстная почитательница всего артистического, громко воскликнула: «Вы только взгляните на этот чисто греческий, величественный профиль!.. Посмотрите на позу этого человека… Как он весь отделяется на золотисто-голубом фоне неба. Это греческий Адонис, а не индус»… Но «Адонис» первый прервал этот восторг. Он медленно повернулся к нам, взглянул мельком, не то кротко-насмешливым, не то презрительным взором на выпучившую на него глаза мисс Б***, и произнес своим тихим певучим голосом на языке хинди:
– Маха-саиб (великий саиб, господин) не может идти далее без помощи чужих глаз; его глаза – враги саиба. Пусть саиб сядет на мою корову; она никогда не оступится…
– Чтоб я сел верхом на корову, да еще вдобавок и пятиногую? никогда! – воскликнул бедный полковник с таким растерянным видом, что мы все покатились со смеху.
– Лучше саибу сидеть на корове, нежели лежать на читте,[64] – серьезно и также кротко заметил садху. – Зачем приближать час, который еще не пробил?
Делать было нечего, и мы наконец уломали полковника. Осторожно и ловко посадив его на корову и посоветовав держаться покрепче за ее пятую ногу, индус повел ее на веревке вперед, а за ним поплелись и мы.
Чрез минуты две мы уже стояли на крытом крыльце или – по-здешнему – веранде, идущей глубоко внутрь скалы вихары, где и нашли наших вернувшихся другою тропинкой индусов. Рассказав им о происшествии, мы повернулись, ища глазами садху. Но он уже успел исчезнуть со своею коровой…
– Не ищите его, он ушел другою, одному ему известною дорогой, – небрежно заметил Гулаб Синг. – В вашей благодарности он вполне уверен, а денег ваших ему не нужно. Он садху, а не буни, – добавил он с гордостью.
Мы вспомнили, что наш гордый приятель сам принадлежит к секте садху.[65]
– Кто знает, – шепнул мне полковник, – быть может и правда, чт о нем говорят?
В главной зале вихары, в трех стенах которой были прорыты двери в 12 меньших келий, находилось высеченное в скале в натуральный рост изображение Бавани (богиня Шивы). Из утробы «деваки» струились чистые, прохладные воды горного родника, падавшие в бассейн у ног ее. Кругом лежали кучи жертвоприношений: цветы, рис, бетель и ладан. Там было так сыро, что мы предпочли остаться ночевать на воздухе. Таким образом мы провели эту ночь на веранде, вися, можно сказать, между небом и землей, освещаемые снизу огнями пылавших костров, зажженных слугами Гулаб Синга на страх диким зверям, а сверху – светом полной луны. Эта обстановка, ужин в чисто-восточном вкусе, на полу, на разостланных коврах и на толстых банановых листьях вместо тарелок; скользящие неслышными шагами, как немые тени, босые служители в белых кисейных драпировках и красных тюрбанах; пред нами беспредельная глубь, теряющаяся в волнах лунного сияния, а за нами темные своды вековых пещер, вырытых неизвестною расой, в неведомые времена и неведомо в честь какой доисторической религии, – все это переносило нас в непривычный мир, в другие далекие эпохи… Вот пред нами сидят пять представителей пяти различных народов, пяти совершенно разных типов и в пяти разнообразных костюмах. Все пятеро известны в этнографии под генерическим названием индусов, вроде того как орлы, грифы, ястреба, коршуны и совы известны в орнитологии за «хищных», но представляют между собою такую же разницу. Каждый из этих пяти собеседников – раджпут, бенгалиец, мадрасец, сингалезец и махрат – потомок рас, о началах и происхождении которых европейские ученые спорят уже более полувека, не приходя ровно ни к какому между собою соглашению. Несмотря ни на чт, показания самих народов отвергаемы по большей части потому только, что они не гармонируют с предвзятыми понятиями; смысл древних рукописей их перековеркан и факт отдан в жертву фикции, коль скоро последняя исходит из уст неких излюбленных оракулов. Невежественный народ часто обвиняется в суеверии по той лишь причине, что создает себе вымышленных идолов в мире духовном; а между тем образованный мир, мир жаждущий познаний, мир просвещенный, поступает в отношении к своим авторитетам еще глупее обвиняемого им народа. Предоставив полдюжине увенчанных лаврами ученых право извращать факты по-своему, выводить собственные заключения по личному усмотрению, он побивает камнями каждого, кто осмелится восстать против резолюции этих якобы непогрешимых специалистов, называя его невеждой и глупцом. Вспомним, например, случай с Луи Жаколио, прожившим двадцать лет в Индии, изучившим в совершенстве язык и страну и смешанным однако же с грязью Максом Мюллером, чья нога никогда не была в Индии.
Самые древние народы Европы являются ребятами, еле вышедшими из пеленок в сравнении с племенами Азии, особенно в Индии. И, Боже мой, как жалки и бедны кажутся генеалогии самых старинных европейских фамилий сравнительно с генеалогий некоторых раджпутскихсемейств! По мнению полковника Тода, более двадцати лет изучавшего их на месте в Раджастхане, эти родословные, ведущие свои записи от 1000 до 2200 лет до Р. Х. и подтверждаемые во множестве случаев греческими писателями, являются самыми совершенными и самыми безошибочными между родословными всех древних народов. После долгих и тщательных разысканий и сравнений с ними Пуран и разнообразных надписей на памятниках, Тод пришел к заключению, что в одних рукописях Удайпурского архива (ныне уже кем-то припрятанных) найдется ключ не только к истории Индии, но и ко всемирной древней истории. Вот чт, между прочим, говорит он по этому поводу: «Дабы отыскать этот ключ, мы не должны следовать легковерному примеру многих археологов, незнакомых с Индией и потому воображающих, будто истории Рамы, Махабхараты, Кришны и пяти братьев Панду суть одни лишь „аллегории“. Тот, кто пожелает серьезно вникнуть в их легенды, очень скоро убедится, что эти так называемые „басни“ все до одной основаны на фактах истории, доказательством чему служат потомки их героев, племена, древние города и до сей поры существующие монеты. Разберем сперва надписи на колоннах Инды-Престхы, Пураса и Мевара, на скалах Джунагура в Биджоли, на Аравули и в древних, рассеянных по всей Индии джайнских храмах, где мы находим столько надписей на языке, до сей поры нам неизвестном языке, в сравнении с которым самые иероглифы являются игрушкой, – и только тогда мы получим право выразить наше окончательное мнение».
А между тем профессор Макс Мюллер, который, как сказано выше, никогда и не заглядывал в Индию, судит и рядит и устанавливает для нее хронологические таблицы по собственному усмотрению. Европа, принимая его слово за слово оракула, беспрекословно подчиняется его решениям. Et c'est ainsi que s'crit l'histoire…[66] Говоря о хронологии почтенного немецкого санскритолога, не могу утерпеть, чтобы не показать (хоть бы России), на каких хрупких началах основаны все его ученые доводы и как мало мы можем придавать веры его исчислениям, когда дело идет о давности той или другой рукописи. Быть может, что в этом поверхностном описании Индии, не имеющем ни малейшей претензии на ученость, сказанное мною покажется не идущим к делу; но в России, как, впрочем, и во всей Европе, об этом филологическом светиле судят лишь по знакам восклицания и одобрения его подобострастных последователей, а Веда-Бхашии, например,[67] свами Дайананда не читают, да может никогда и не слышали об этом сочинении, что профессору Максу Мюллеру, конечно, весьма на руку. Постараюсь передать суть дела как можно короче.
В своем санскритском сочинении Sahitya Grantha профессор Макс Мюллер, указывая, что арийское племя в Индии приобрело свои понятия о Боге постепенно и чрезвычайно медленно, желает этим доказать, что Веды совсем не такое древнее писание, как это утверждают некоторые из его коллег. Представив затем более или менее веские доказательства и подтверждение этой новой теории, он заключает их неопровержимым, по его мнению, фактом, указывая в Мантрах на слово hirannya-garbha, которое он переводит словом «золото», и при этом добавляет, что так как отдел Вед, называемый Chanda, появился 3100 лет тому назад,[68] то отдел Мантр не мот быть написан ранее 2900 лет. При этом он рассекает филологически и хронологически Мантру («Agnihi Poorwebhihi» etc.), в которой он находит выражение hirannya-garbha и затем торжественно уличает оное в анахронизме: «о золоте древние народы не имели никакого понятия (говорит он), стало быть, если в Мантре говорится о золоте, то эта Мантра сочинена и эпоху сравнительно современную» и пр.
Но тут именитый санскритолог сильно обрывается. Свами Дайананд доказывает, а за ним и другие ученые пандиты и даже самые ему неприязненные подтверждают, что Макс Мюллер совершенно не понял значения термина «Hirannya». Первоначально оно вовсе не означало, а в соединении со словом garbha и теперь не означает «золота» – слова современного и не существующего на старом санскритском языке Вед. Таким образом, все блестящие доводы профессора так и пропадают даром; слово Hirannya в этой Мантре должно переводить «божественный свет», символ познания (в мистическом смысле), подобно тому, как у алхимиков «свет» назывался сублимированным золотом, из лучей которого они надеялись составить объективный металл. А в соединении со вторым словом – Hirannya-garbha (буквально светозарное чрево), означает в Ведах первоначальный принцип, в утробе коего (как золото в утробе земной) покоится свет божественного познания и истины, эссенция освобожденной от греховного мира души. В Мантрах, как и в Чандах, постоянно следует искать двоякий смысл: 1) чисто-метафизический и отвлеченный и 2) чисто-физический, так как земное или существующее на земле тесно связано с миром духовным, из которого исходит и которым снова поглощается. Например, Индра бог грома, Сурья – бог солнца, Вайю – бог ветра, и Агни – бог огня; все четверо, подвластные этому первоначальному божественному принципу, исходят, по учению Мантры, из утробы Hirannya-garbha. В этом случае они (боги), подвластные единому принципу, суть духи или олицетворенные силы природы. Но посвященные в таинство адепты Индии весьма хорошо понимают, что вместе с этим бог Индра, например, просто звук, происходящий от столкновения электрических сил, или, вернее, само электричество; Сурья не бог солнца, а центр огня в нашей системе – эссенция того, из чего проистекают огонь, тепло, свет и т. д., то есть именно то, чего никто, даже из наших великих ученых, лавирующих между Тиндалем и Шрёпфером, не умел еще определить… Этого-то тайного смысла профессор Мюллер и не сумел доискаться, вследствие чего он и рубит сплеча, придерживаясь одной мертвой буквы. Каким же образом позволяет он себе определять давность Вед по собственным выводам и заключениям, когда он еще так несовершенно понимает язык этого древнего писания?…
Вот сущность ответа свами, к которому мы и отсылаем гг. санскритологов, если они только потрудятся заглянуть в его Rigveddi Bhshya Bhoomika[69] (книга 4, стр. 76).
В эту ночь все мои спутники, кроме меня, спали как убитые. Свернувшись возле догорающих костров, они нимало не обращали внимания ни на гул доносившихся с ярмарки тысяч голосов, ни на продолжительный, глухой, словно раскаты далекого грома, рев тигров, поднимавшийся из долины, ни даже на громкое моление пилигримов, шествие которых по узкому карнизу скалы, с которого мы чуть было не слетели днем, продолжалось взад и вперед всю ночь. Они приходили партиями по два, по три человека; иногда шли одинокие женщины. Так как им не было доступа в большую вихару, на веранде которой мы лежали, то, поворчав, они отправлялись в боковую келью, нечто вроде часовенки, с изображением Деваки-Мата (богини матери) и с наполненным водою танком. Подойдя к дверям, пилигрим простирался на земле, клал приношение у ног богини и затем или окунался в «святую воду очищения», или же, зачерпнув рукой воды из танка, мочил себе лоб, щеки, грудь; потом снова простирался и шел уже назад, спиной к дверям, где опять простирался, пока с последним воззванием к «мата, маха мата!» (матери, великой матери!) окончательно не исчезал в темноте. Двое слуг Гулаб Синга, с традиционными копьями и щитами из носорожьей кожи, получив приказание охранять нас от диких зверей до рассвета, сидели на ступеньке над пропастью. Не в состоянии уснуть, я следила за всем окружающим с возрастающим любопытством. Не спал в ту ночь и такур. Каждый раз, как я полуоткрывала отяжелевшие от усталости веки, мне бросалась в глаза гигантская фигура нашего таинственного друга…
Поместясь по-восточному (с ногами) на одной из всеченных в скале скамеек, у самой окраины веранды, он сидел неподвижно, обвив обеими руками приподнятые колена и вперив глаза в серебристую даль. Раджпут сидел так близко к краю, что малейшее неосторожное движение, казалось, должно было свергнуть его в зиявшую у ног его пропасть. Но он двигался не более стоявшей наискось от него гранитной богини Бхавани. Обливавшее все впереди его сияние месяца было так сильно, что черная тень под нависшею над ним скалой делалась еще непроницаемее, оставляя его лицо совершенно во мраке. Только вспыхивавшее по временам яркое пламя догорающих костров, обливая темно-бронзовое лицо горячим отсветом, дозволяло порой разглядеть неподвижные черты сфинксоподобного лика, да как угли светящиеся, такие же неподвижные глаза.
Чт это? спит ли он или замер? Замер, как замирают посвященные раджа-йоги, о которых он сам рассказывал утром… О Боже мой! хоть бы заснуть!.. Вдруг громкое продолжительное шипенье, раздавшееся у самого уха, как бы из-под сена, на котором мы свернулись, заставило меня внезапно вскочить с какими-то неясно определенными воспоминаниями о «кобре». Затем пробило раз, другой… То был наш американский дорожный будильник, как-то нечаянно попавший под сено. Сделалось и смешно, и стыдно за невольный испуг.
Но ни шипенье, ни громкий бой часов, ни мое быстрое движение, заставившее мисс Б*** сонливо приподнять голову, не пробудили Гулаб Синга, который все также висел над пропастью, как и прежде. Прошло еще с полчаса. Несмотря на долетавший издалека гул празднества, все кругом было тихо и неподвижно; сон бежал от меня все более и более. Подул свежий предрассветный и довольно сильный ветер, разом зашелестевший листьями и вскоре закачавший кругом нас вершинами торчавших из бездны деревьев. Все мое внимание было теперь сосредоточено на группе трех сидевших предо мною раджпутов: на двух щитоносцах и их господине. Не знаю почему, но оно было особенно привлечено в эту минуту длинными развивавшимися по ветру волосами слуг, сидевших сбоку веранды и более защищенных от ветра, нежели их саиб. При взгляде в его сторону, мне показалось, будто вся кровь у меня застыла в жилах: висевшую возле него и крепко привязанную к колонне кисейную вуаль (топи) хлестало со всех сторон ветром; длинные же волосы саиба лежали неподвижно, словно приклеенные к плечам: ни один волос не шевелился, ни малейшего движения в легких складках обвивавшей его белой кисеи; изваянная статуя не может казаться неподвижнее…
Да чт ж это такое? Бред, галлюцинация или изумительная, непонятная действительность? Крепко зажмурив глаза, я было решилась не глядеть долее. В эту минуту что-то захрустело в двух шагах от ступени, и длинный черный силуэт – не то собаки, не то дикой кошки – ясно очертился на светлом фоне неба. Животное стояло на краю обрыва боком, и высокий, трубою хвост то подымался, то опускался в воздухе… Оба раджпута быстро, но неслышно встали и повернули голову к Гулаб Сингу, как бы ожидая приказаний… Да где же сам Гулаб Синг? На месте, где за минуту до того он так неподвижно сидел, никого не оказалось; лежала лишь одна сорванная ветром топи… Страшный, продолжительный рев вдруг оглушил меня, заставив вскочить на ноги; рев этот, проникнув в вихару, казалось, разом пробудил уснувшее эхо и отозвался глухими раскатами вдоль всего обрыва. Господи… тигр! Не успела эта мысль еще ясно сложиться в уме моем, как захрустели деревья, и словно чье-то тяжелое тело покатилось в пропасть. Все мгновенно вскочили; мужчины схватились за ружья и револьверы; произошла страшная суматоха…
– Чт с вами? – раздался спокойный голос Гулаб Синга со скамьи, где он снова сидел, как ни в чем не бывало. – Чт это вас всех испугало?
– Тигр! Ведь это был тигр? – посыпались вопросы европейцев и индусов. Мисс Б*** дрожала, как в лихорадке.
– Тигр, или что другое, теперь это для нас очень мало значить. Чт бы оно ни было, теперь оно лежит на дне пропасти, – отвечал, зевая, раджпут. – Вы, кажется, особенно встревожены? – добавил он с легкою иронией в голосе, обращаясь к истерически рыдавшей англичанке, которая видимо колебалась, упасть ли ей в обморок дли нет.
– И почему это правительство не уничтожит всех этих ужасных зверей? – всхлипывала наша мисс, вполне веровавшая во всемогущество своего правительства.
– Вероятно потому, что наши повелители приберегают порох на нас самих, делая нам честь считать нас опаснее тигров, – отрезал Гулаб Синг.
Чем-то грозным и вместе насмешливым звучало это слово «повелители» в устах раджпута.
– Но каким же образом вы отделались от «полосатого»? – допытывался полковник. – Разве кто стрелял?
– Огнестрельное оружие только у вас, европейцев, считается единственным или, по крайней мере, самым верным способом одолевать диких зверей. У нас, дикарей, есть и другие средства, даже более опасные, – пояснил бабу Нарендро Дас-Сен. – Вот когда вы приедете к нам в Бенгалию, то будете иметь хороший случай познакомиться с тиграми; они приходят к нам непрошеные и днем и ночью, даже в городах…
Начинало светать, и Гулаб Синг предложил спуститься вниз и до первых жаров осмотреть другие пещеры и развалины крепости. В пять минут все было готово к завтраку, и в половине четвертого мы отправились другой, более покатой дорогой в долину, на этот раз без особенных приключений. Только махрат, не говоря ни слова, отстал от нас и исчез.
IX
Осмотрев Логарх, крепость, взятую Сиваджи в 1670 году у могулов, и ныне разрушенные покои, где вдова Нана Фарнавизы[70] под предлогом протекции и 12000 рупий пенсии со стороны Англии, сделалась de facto пленницей генерала Уелеслея (Wellesley) в 1804 году, мы поехали в богатую и когда-то укрепленную деревню Варгаон. Там мы решили переждать знойные часы (от 9 утра до 4 пополудни) и потом ехать в исторически знаменитые пещеры Бирзы и Баджах, милях в трех от Карли.
Часа в два пополудни, когда, обвеваемые огромными протянутыми через всю длину комнаты пнками, мы, несмотря на то, сильно охали от жары, неожиданно предстал нам исчезнувший с дороги приятель наш – махратский брамин. Сопровождаемый полдюжиной дакни (жителей Деканского плато), он тихо ехал верхом, сидя почти на ушах лошади, которая фыркала и очень неохотно шла; когда же он подъехал к крыльцу веранды и спрыгнул с коня, мы увидали в чем дело: поперек седла лежал, волоча по земле хвост, громадный тигр. Из полуоткрытой пасти висела кусками запекшаяся черная кровь. Его сняли и положили у порога.
Неужели это наш ночной посетитель? мелькнуло у меня в уме. Я взглянула на Гулаб Синга. Он лежал в углу на ковре, опершись головой на руку, и читал; брови его слегка нахмурились, но он не произнес ни слова. Молчал и брамин, привезший тигра, тихо отдавая приказание, словно он приготовлялся к торжественному таинству. По народному суеверию, то было действительно «таинством», как мы это скоро узнали…
Клочок шерсти тигра, убитого не пулей или каким-либо холодным оружием, а словом, считается самым верным талисманом против нападения ему подобных. «Такие случаи чрезвычайно редки, говорил нам махрат, так как чрезвычайно трудно встретить человека, обладающего этим словом. Отшельники йоги и садху не убивают их, считая убиение даже тигра и кобры грехом, а просто отстраняют от себя зверей. Есть только одно братство в Индии, члены коего обладают всеми секретами и для которых нет в природе тайн… А что тигр был убит не вследствие падения со скалы (они никогда не оступаются), не пулей и не каким-либо другим орудием, а просто словом Гулаба Лалл Синга, то в этом нам порукой тело самого зверя». «Я нашел его очень скоро», продолжал рассказывать брамин, «в кустах, где он лежал, прямо под нашею вихарой, и у подножия скалы, с которой он скатился вниз уже мертвым… Гулаб Лалл Синг, – ты раджа-йог, и я тебе кланяюсь!..», добавил гордый брамин, присоединяя дело к слову и простираясь пред такуром н землю.
– Не говори пустого, Кришнарао! – перебил его Гулаб Синг. – Вставай, и не представляй из себя шудры… Тигр просто свалился со скалы и сломал себе при падении шею. Иначе нам пришлось бы употребить в дело оружие, а не слова…
– Повинуюсь тебе, саиб, но… прости, что верю все-таки в свое… Ни один раджа-йог еще не сознавался, что он принадлежит к братству, с тех пор как существует гора Абу.
Он стал оделять нас клочками шерсти, вырываемой им у мертвого зверя. Все молчали. Со странным чувством любопытства я стала наблюдать над группой моих спутников. Полковник (президент нашего общества) сидел, потупив глаза в землю и очень бледный; секретарь его, мистер У***, курил сигару и лежал навзничь, вперив холодные, ничего не выражающие глаза в потолок. Он молча принял клочок шерсти и спрятал его в портмоне. Индусы стояли над тигром, а сингалезец чертил какие-то кабалистические знаки на лбу у зверя. Один Гулаб Синг продолжал лежать, спокойно читая в углу. Мисс Б*** тихо предложила мне вопрос: «Знает ли наше правительство о существовании этого братства, и дружелюбно ли расположены раджа-йоги к англичанам?»
– О, чрезвычайно дружелюбно! – серьезно отвечал раджпут, прежде чем я успела раскрыть рот, – если они только существуют: одни раджа-йоги мешали до сей поры индусам перерезать всем вашим соотечественникам горло; удерживая их… словом.
Англичанка не поняла.
Наши психологические исследования в Индии начинались, по-видимому, хорошо, обещая столь же богатую нашему обществу жатву, как и археологические.
Пещера Бирзы – около шести миль на юго-запад от Варгаона, вырыта по тому же плану, как и Карли. Сводообразный потолок храма поддерживается двадцатью шестью колоннами, 18 футов вышины, а портик – четырьмя в 28 футов, над коими высечена замечательной красоты группа лошадей, быков и слонов. Зала «посвящения», огромная овальная комната с колоннами и одиннадцатью кельями, идущими внутрь скалы. Пещеры Баджа древнее и красивее. Там сохранились надписи, доказывающие, что все эти храмы были высечены буддистами, или скорее джайнами. Нынешние буддисты признают, как известно, лишь одного Будду – Гаутаму, принца Капилавасту (VI века до Р. Х.), а джайны считают и признают за Будду каждого из своих двадцати четырех (Тиртанкара) божественных учителей, из коих последний был учителем (гуру) Гаутамы. Это разногласие чрезвычайно мешает верному определению древности некоторых вихар или чаитий. Секта джайнов неизвестной и глубокой древности; поэтому имя Будды, упоминаемое на надписях и таблицах, может относиться как к последнему, так и к первому Будде, жившему (по генеалогии, составленной Тодом) гораздо ранее 2200 лет до Р. Х. Первая надпись, например, в пещере Беире (гвоздеобразная) гласит так:
«Аскетом из Назики, уподобленному очищенному от грехов святому Будде, первобытному, небесному и великому».
Решают, что эта пещера вырыта буддистами.
Вторая надпись в той же пещере, над другою кельей, содержит в себе следующее:
«Благоугодный дар небольшого приношения движущейся силе (жизни), умственному принципу (душе), многолюбимому вещественному телу, плоду Ману, бесценной драгоценности, высшему и присутствующему здесь Небесному».
Выходит, что постройка принадлежит не буддистам, а браминам, признающим Ману.
Или вот еще эти две надписи (из пещеры Баджа):
1) «Благоугодный дар символа и колесницы (вместилища) грехоочищенного Сака-Сака».
2) «Дар вместилища Радды (жены Кришны, символ совершенства) Сугате, навеки ушедшему»
Сугата опять одно из имен Будды. Опять противоречие!
Здесь, возле Варгаона, после сражения Кхирхи, махраты схватили капитана Вогана (Vaughan) и брата его, которых и повесили.
В тот же вечер мы вернулись в Бомбей. Через два дня мы готовились пуститься в наше далекое путешествие в северо-западные провинции, и наш маршрут казался самым привлекательными. Мы приготовлялись увидать Бенарес, город 5000 храмов и стольких же обезьян; Канпур, прославленный кровавым мщением Нана-Саиба, и развалины города Солнца, разрушенного, по мнению Колебрука, около 6000 лет тому назад; Агру и Дельхи, и затем, объехав весь Раджастхан с его тысячами такурских укрепленных замков, крепостей, разрушенных городов и легенд, намеревались проехать в Лахор, столицу Пенджаба, и остановиться, наконец, в Амритсаре. Там, в Золотом Храме, построенном посреди озера «Бессмертия», должна была состояться первая встреча членов нашего «Общества» – браминов, буддистов, сикхов, словом, представителей тысячи и одной секты двухсот сорока пятимиллионной Индии, которые все, более или менее, сочувствовали нашему Теософическому Обществу братства со всем человечеством.
X
Бенарес, Праяга (ныне Аллахабад), Насик,[71] Хардвар, Бадринат, Матхура – вот те священнейшие места древней доисторической Индии, которые одно за другим мы собирались посетить, но, конечно, не так, как их обыкновенно посещают туристы vol d'oiseau,[72] с дешевым гидом в кармане и под командой сбивающего вас и с ног, и с толку чичероне. Нет, мы хорошо знали, что вокруг всех этих мест, словно плющ на развалинах старых замков, обвилось предание, веками наросли сорные травы фантазии, пока, наконец, по примеру этих паразитных растений, постоянно сдавливая в своих холодных объятиях стены, они совсем не разрушили первобытной формы здания, и археологу так же трудно по обезображенным, усыпающим окрестности остаткам судить об архитектуре когда-то целого здания, как и для нас из этой массы легенд отделить плевелы от настоящего зерна. До неискаженной истины, до первоначальной истории каждой интересующей нас местности нам, конечно, придется доискиваться самим, следуя собственным соображениям.
Современная Индия не представляет и бледной тени не только древней, то есть Индии дохристианской эры, но даже и Индостана под владычеством Аурангзеба, Акбара, Шах-Джахана. Словно кровавыми, окаменелыми слезами усеяны круглым красноватым булыжником окрестности каждого многократно истерзанного города, каждой разрушенной деревушки. Но не по природным камешкам, изранивая себе ноги, приближаетесь вы к высоким, окованным железом воротам старинных укрепленных городов, а по гранитным еще древнейшим обломкам, под которыми часто покоятся развалины третьего еще более древнего города. Нынешние названия даны им мусульманами, которые обыкновенно строили свои города на пепелище побежденных, взятых приступом городов; названия последних кое-как еще упоминаются в преданиях, но названия их предшественников исчезли из памяти людской еще до мусульманского вторжения. Кому когда удастся проникнуть в эти вековые тайны!..
Зная все это заранее, мы решились не терять терпения, и даже, если бы того потребовали обстоятельства, посвятить целые годы на частые экскурсии в одни и те же места, пока не добьемся более верных исторических данных, менее исковерканных фактов, нежели добытые нашими предшественниками. Последние должны были довольствоваться набором диких вымыслов, с трудом вызываемых из уст напуганного, неохотно отвечающего дикаря, или же враждебного, нарочно искажающего истину брамина. Нам же помогает целое общество образованных, заинтересованных теми же вопросами, как и мы, индусов; мы уже имеем положительное обещание быть допущенными хотя бы в некоторые тайны древних хранителей их, махантов, слышать не предание, а верный перевод старинных, чудом уцелевших хроник и грамот о некоторых городах.
История Индии давно исчезла из памяти ее сынов, она совершенно неизвестна ее завоевателям; но она несомненно существует, хотя, быть может, и в растерзанных частях, в тщательно оберегаемых от европейского глаза рукописях. Недаром брамины, в редкие минуты дружеских излияний, иногда проговаривались. Так не раз уже упомянутому мною англичанину Тоду стаый махант (настоятель) некоего древнего храма-монастыря раз заметил: «не теряй времени, сааб, в напрасных розысках: Индия беллати (Индия иностранцев, англичан) пред тобою, гупта Индию (то есть тайную) ты никогда не увидишь; мы, хранители ее тайн, скорее отрежем язык друг у друга».
И однако же Тод много кой-чего узнал. Правда, ни один англичанин не был так любим туземцами, как этот старый, храбрый друг Махарани Удайпурского; но зато и он любил туземцев и никогда не показывал презрения даже к беднейшему из них. Он писал до периода полного развития современной этнологии, и книга его до сей поры считается авторитетом во всем касающемся Раджастхана. Хотя, по собственной скромной оценке ее автора, она представляет «лишь свод добросовестно собранных материалов для будущего историка».
Так пусть же недоверчиво улыбаются наши друзья и наши недоброжелатели, даже смеются над нашею претензией «проникнуть в мировые тайны Арьяварты», как выразился недавно один критик. Смотря с самой пессимистической точки зрения, наши заключения если даже и не окажутся достовернее заключений и доводов Фергюсона, Вильсона, Уиллера и прочих археологов и санскритологов, трактовавших об Индии, то во всяком уж случае не будут бездоказательнее прочих. Нам замечают, что мы неблагоразумно затеяли то, пред чем ежедневно отступают археологи и историки, которым способствует здешнее правительство с его влиянием и неистощимой казной; что мы взялась де за работу, оказавшуюся не под силу даже Азиатскому Королевскому обществу…
Пусть так. Но у всех свежо в памяти, а у нас тем более, как бедный венгр, не только без средств, но почти нищий, отправился пешком в Тибет, чрез страны неизведанные, опасные, увлекаемый лишь любознательностью да желанием пролить свет на историческое начало своего народа. В результате вышло то, что были внезапно открыты неисчерпаемые рудники литературных сокровищ. Филология, дотоле бродившая в египетских потемках безвыходного лабиринта этимологий и уже важно предлагавшая ученому миру помириться с самыми фантастическими теориями, вдруг неожиданно напала на нить Ариадны. Она открыла, наконец, что санскритский язык если не праотец, то все же «старший брат» всех других древних языков, по выражению Макса Мюллера. В Тибете найдена неисчерпаемая литература на языке, о письменности которого не было ничего известно. Благодаря необыкновенному рвению Александра Ксомо де Кэрэш, она им частью переведена, а частью анализована и выяснена. Перевод же его доказал всему ученому миру, что, во-первых, подлинники Зенд-Авесты – солнцепоклонников, Трипитаки – буддистов, и Айтареи-брахманы – браминов, были в оригиналах своих написаны на том же древнесанскритском языке; во-вторых, что все три языка, то есть зендский, непалийский и современный или брахманосанскритский – более или менее диалекты первого; в-третьих, что от санскритского произошли все менее древние индо-европейские и современные языки и диалекты Европы; в-четвертых, что три самые значительные религии язычества: зороастризм, буддизм и брахманизм, хотя только ереси монотеистического учения Вед, но это не мешает им быть всем трем древними религиями, а вовсе не современными подлогами.
Мораль вышесказанного очевидна. То, чего не могли бы добиться целые поколения ученых, то есть проникнуть в ламасерии Тибета и получить доступ к священной литературе этого вполне изолированного народа, того добился бедный странник, без средств и без протекции; быть может, и даже вероятно, только потому, что смотрел на диких монголов и тибетцев, как на братий своих, а не как на низшую расу. И стыдно становится подумать, стыдно за человечество вообще, а за науку в особенности, что первый добывший такие драгоценные для науки результаты, сеятель столь обильной для нее жатвы, оставался почти до самой смерти тем же непризнанным бедным тружеником. Достигнув Калькутты по возвращении из Тибета пешком, без гроша денег, он сделался известен и его имя стало громко произноситься с почестями и хвалой лишь в то время, как, вследствие бескорыстной любви своей к науке, Ксомо де Кэрэш умирал в одном из беднейших кварталов Калькутты и, больной, на обратном пути пешком через Сикким в Тибет умер в Даржелинге, где и похоронен.
Само собою разумеется, что в пределах журнальных писем нельзя было серьезно начинать что-либо подобное затеваемому нами. Мы могли лишь надеяться, что заложим первый камень здания, дальнейшую постройку коего может взять на себя разве будущее поколение. Чтоб успешно опровергнуть установленные целыми двумя поколениями индологов мнения о древностях Индии, потребуется не менее полувека упорной работы. А для того чтобы заменить эти мнения другими, необходимо заручиться фактами, основанными не на хронологии и лжепоказаниях лукавых браминов, заинтересованных в невежестве европейских санскритологов (как то испытали, к своему горю, лейтенант Вильфорд, а за ним Луи Жаколио), а на неопровержимых доказательствах древнейших, доселе неразобранных надписей, ключа к которым европейцы еще не нашли, ибо он, как не раз уже указано, хранится в не менее древних, почти недоступных рукописях. Да если даже наши надежды и осуществятся, и мы получим этот ключ, то и тогда явится другая необходимость: начать систематическое опровержение, страница за страницей, каждого из многих десятков фолиантов, доселе опубликованных Королевским Азиатским обществом, гипотез. А на это потребовалось бы дюжины постоянно занятых ученых санскритологов, которые даже в Индии редки, как белые слоны.[73]
Сильно занятые подобными мыслями, мы, то есть один американец, три европейца и три туземца, заняли целый вагон Great Indian Peninsular Railroad, и отправились в Насик, один из древнейших, как уже упомянуто мною, городов Индии, и самый священный в глазах обитателей западного президентства. Насик заимствует свое имя от санскритского слова насика, то есть «нос», вследствие эпической легенды, уверяющей, будто Лакшман, старший брат обоготворенного царя Рамы, отрезал на этом самом месте нос у великанши «Сарпнаки», сестры царя Раваны, похитителя Ситты (троянской Елены индусов).
Поезд железной дороги останавливается в шести милях от самого города, и мы приехали в ночь; поэтому нам пришлось отправиться далее в час пополуночи в шести золоченых двухколесных таратайках, называемых экка, и на волах. Даже невзирая на поздний час ночи, рога этих животных были вызолочены и украшены гирляндами цветов, а на ногах звенели медные браслеты. Дорога пролегала неровными, ухабистыми оврагами, густо заросшими джунглями, в которых, по приятному показанию наших возниц, постоянно играли в прятки тигры и другие четвероногие мизантропы лесов. С тиграми в эту ночь мы не знакомились, но зато в продолжение всей дороги были угощаемы концертом целого общества шакалов. Неотвязно следовали они за нами, раздирая уши своим воплем, диким хохотом и лаем. Эти милые животные здесь до того дерзки и вместе с тем трусливы, что хотя они в ту ночь бегали вокруг стаями достаточно сильными, чтобы легко поужинать не только всеми нами, но и нашими златорогими волами, ни одно из них однако не осмелилось подойти ближе нескольких шагов. Достаточно было стегнуть одного из них длинным кнутом, которым мы запаслись от змей, чтобы вся стая с невообразимым визгом далеко отбегала прочь. И однако же погонщики не пренебрегли ни одним из своих суеверных средств против нападения тигров. Они хором пели заклинательные молитвы «мантры», сыпали бетелем по дороге в знак своего уважения к лесному «радже», и после каждого куплета заставляли волов становиться на передние колена и низко наклонять в честь высших богов голову, причем легкая, как ореховая скорлупа, экка грозила каждый раз, вместе с седоком, перекинуться вверх дном через рога животных. Это приятное путешествие в темную ночь длилось пять часов. Мы достигли «гостиницы пилигримов» лишь в шесть часов утра.
Настоящая причина святости Насика, как мы узнали, не в отрезанном хоботе великанши, а в местоположении города на Годавари, вблизи источников этой реки, называемых почему-то туземцами Гангой (Гангес). Этому магическому имени, вероятно, город и обязан своими многочисленными богатыми храмами и отборным классом браминов, поселившихся на берегах реки. Два раза в год пилигримы собираются сюда молиться, и число странников превышает в такие торжественные дни даже население Насика (35000). Чрезвычайно живописны, но столь же и грязны дома богатых браминов, построенные вдоль спуска, от центра города до самых берегов Годавари, по обеим сторонам которой тянутся целые леса узких пирамидальных храмов. И чт ни храм, то легенда, которую каждый брамин из массы этих наследственных жуликов рассказывает на свой манер, в надежде, конечно, на приличное вознаграждение.
Самое интересное в Насике – это пещерные храмы, расположенные в пяти милях от города.






