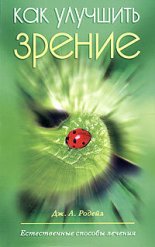В моей смерти винить президента... (сборник) Степнова Ольга

МАМОНТОВ
(диктуя, пишет):
– Господин президент! Страна на грани развала! Вернее, не страна, конечно, а лично я, но разве отдельно взятая личность – это не целая страна со своими возможностями, талантами, тараканами, гусями и кризисами?! Почему, господин президент, мою газету закрыли, а издательство, которое издаёт Давыдова, цветёт и пахнет?! Почему?!! Разве это справедливо, одним – всё, а другим пятнадцать сантиметров?! Извините, господин президент, я, конечно понимаю, что это не к вам... Это к доктору. Впрочем, всё – к доктору. К вам – только по существу. А по существу, это как? Вот у меня жена... того... с другом детства... в моей кровати. Вы не могли бы издать закон, согласно которому друга детства в такой ситуации можно было бы на месте, прямо в своей кровати, прямо на жене... шампуром в жизненно важные органы?! Ну да, это не выход. Так в стране никого не останется, может быть, даже вас, господин президент, потому что все мы чьи-то друзья...
Бросает ручку, отодвигает бумагу.
МАМОНТОВ:
– Это не выход. Но хоть одну-то зарубочку на теле друга можно сделать?! Одну малю-ю-ю-юсенькую зарубочку, чтобы она чесалась всю жизнь, и чтобы друг помнил мою кровать, мою жену и меня, его самого лучшего друга Володю Мамонтова! Э-эх! Господин президент, господин президент! Мне осталось жить всего пятнадцать минут. Пятнадцать минут новогоднего праздника в этой убогой, нищей стране, которой являюсь я сам! Вы не в курсе, почему все несчастья случаются одновременно?! Не успел я застукать друга детства с женой, как позвонила дочь и заявила, что она уезжает в Южную Африку спасать редких животных, занесённых в Красную книгу. И уехала ведь! Где только деньги взяла на билет, зараза! Скажите, вы не выдаёте денежные пособия девушкам, которые валят в Южную Африку спасать крокодилов? Правильно, не выдаёте, а то девушек в стране не останется, а редких животных всё равно больше не станет. В общем, где мой первый ребёнок, я точно не знаю. А второго ребёнка я не родил. Ланка говорит – возраст, фигура и всё такое. Я ей – а материнский капитал? Такие деньжищи и мимо! Квартиру расширим, ремонт сделаем, на даче баню построим. А она – на этот капитал два раза в Турцию съездить, а грудь обвиснет. Вот так, господин президент. Теперь она с грудью, и при Давыдове.
(Кладёт портрет жены лицом вниз).
– А я – с самопальной удавкой на шее и без материнского капитала. Нет, всё-таки нужно издать закон, что если найдёшь Давыдова в своей кровати, со своей женой, то с ним и его тиражами можно делать всё, что душа пожелает. Рвать, топтать, плевать, вытирать ноги, расчленять и жарить собаке на завтрак.
Слышится канонада фейерверков. Крики «Ура! С Новым годом!»
МАМОНТОВ
(взглянув на настенные часы):
– Идиоты. Ещё пятнадцать минут до Нового года! Ещё целых пятнадцать минут до моего повешания!
(Читает то, что написал на бумаге).
– Нет, ну что это? «Так в стране никого не останется, может быть, даже вас, господин президент, потому что все мы чьи-то друзья!»
Рвёт написанное, бросает под стол.
Встаёт и включает гирлянду на ёлке.
Ёлка мигает разноцветными огнями.
МАМОНТОВ
(задумчиво):
– Раз, два, три, ёлочка, гори. В детстве я верил, что Дед Мороз знает все мои тайные желания и...
(Наклоняется, шарит под ёлкой, достаёт какой-то свёрток и удивлённо на него смотрит).
– И дарит мне то, в чём я больше всего нуждаюсь.
Разворачивает блестящую упаковочную бумагу.
Из свёртка вываливается длинная верёвка и мыло.
Мамонтов потрясённо смотрит на пол, где лежит набор самоубийцы.
МАМОНТОВ
(хватая портрет жены со стола, шипит ей в лицо):
– Твои шуточки?!! Твои, да?!! Думаешь, я сразу в петлю скакну, если у меня нет жены и работы?! Думаешь... Впрочем, ты всё правильно думаешь.
(Поднимает верёвку и кидает её на стол).
– Только вот верёвка твоя мне не нравится. Синтетика! И, наверное, Китай. Не хочется умирать в китайской синтетике!
Гордо поправляет узел своей удавки, ставит портрет на место, садится.
Диктует себе, но не пишет.
МАМОНТОВ:
– Господин президент, вам дарили когда-нибудь на Новый год верёвку и мыло? А мне дарили. Собственная жена. И ведь что обидно – я точно знаю, она это не сама придумала, это Давыдов ей подсказал! Это его изощрённая писательская фантазия придумала для меня такой извращённый новогодний подарок!
Хватает верёвку, швыряет в ёлку.
Верёвка живописно повисает на зелёных, искусственных ветвях.
МАМОНТОВ:
– Хоть бы пистолет подарили! Или яду хорошего! Нет, боятся потратиться! И это с его-то бешеными гонорарами! Забыл, сволочь, как три раза мне пятьсот рублей не отдал?!! Забыл... Господин президент!
Хватает лист бумаги и быстро пишет.
МАМОНТОВ:
– Вы отдаёте свои долги? И я отдаю. Причём, с бо-ольшими процентами! С огромными! Брал в банке сто тысяч, а отдавать должен двести! Брал на машину, а машина моя теперь – где?! Правильно, в металлоломе. Вчера позвонил какой-то доброжелатель, сказал, что Ланка мне изменяет с моим же другом, в моём же доме. Я в машину прыгнул и помчался по встречке. Навстречу «Камаз» попался... не «Ока», не «Фолькскваген Жук», не квадроцикл какой-нибудь и не снегоход, а – «Камаз»! Точняк ему промеж фар влетел! На мне ни царапинки, но машина в хлам. А кредит ещё платить и платить, лямку тянуть и тянуть, пыхтеть и пыхтеть... А работы нет! Ничего нет!! И не предвидится. Кризис в голове, в сердце и во всём, что ниже. Ничего не могу и не хочу.
Бросает ручку, рвёт бумагу, бросает под стол.
МАМОНТОВ:
– Кризис – это затишье желаний. Можно пересидеть, конечно, забиться в свою норку и пересидеть, только – зачем?! Ведь одно желание всё-таки осталось – повеситься. И я с удовольствием этому желанию отдаюсь, господин президент. Вот только потолки...
(Задумчиво смотрит на потолок).
– Потолки тут безумно высокие. Ну, очень высокие потолки!
(Вскакивает).
– Господин президент, на хрена в нашей стране такие высокие потолки?! Ведь ни одна сволочь летать не умеет! Даже Давыдов. А уж у него – гонорары! М-да-а-а... А до Нового года ещё целых пятнадцать минут!
Хватает гантель, бьёт ею в стену.
В ответ незамедлительно стучит молоток.
Мамонтов бросает гантель.
Садится на пол и качается в такт ударов.
Ёлка мигает.
За окном снова салют.
Тихонько воя, Мамонтов заползает под ёлку.
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Затихнув, Мамонтов неподвижно лежит некоторое время.
Дрожит спиной, словно плачет.
Молоток перестаёт стучать.
Мамонтов поднимается, обнаруживая на лице улыбку.
Встаёт, забирается на диван с ногами, снова смотрит на потолок.
МАМОНТОВ:
– Пятнадцать минут до Нового года! Ещё пятнадцать минут личного и всемирного кризиса.
Спрыгивает с дивана, идёт к столу, хватает ручку, начинает писать размашисто и небрежно.
МАМОНТОВ:
– Господин президент! Вы не знаете, почему сука Давыдова ходит за ним по пятам, а моя всё время норовит сбежать? Когда я говорю «сука», я имею в виду собаку женского пола. Да, мы брали с ним три года назад девочек-лабрадоров из одного помёта, так его девка – Дэйзи, сука, то есть, боится Давыдова даже из виду потерять, а моя... Моя Рэйчел, господин президент, сбежала вчера третий раз за год! Уж я бегал, искал её! Звал. Умолял вернуться, на коленях в лужах стоял! Да, стоял, потому что я люблю её, Рэйчел, как самого близкого человека люблю. Она единственное живое существо на свете, которое лижет мне лицо и приносит тапочки, когда я пьяный.
Перестаёт писать.
МАМОНТОВ:
– Когда я пьяный, мы едим с ней из одной миски, спим на одной подстилке, а утром вместе выходим гулять. Это сближает, господин президент, очень сближает. И вот вчера Рэйчел сбежала. Учуяла кобеля. Или кобель её учуял, я не знаю, как у них там всё происходит в области чувств. Моя маленькая девочка Рэйчел сбежала! Это ли не повод повеситься?!
Понимаете, я в один день остался без жены, без собаки, без дочери, без друга, без работы и без машины! Я без всего остался!
Вскакивает.
МАМОНТОВ:
– Вы понимаете, господин президент, что значит остаться нищим, без будущего, без перспектив и без надежды?! Вы понимаете, что значит остаться без верёвки и с такими вот высокими потолками?!! А Давыдову – всё! И тиражи! И собака! И моя жена! И... Чёртовы сантиметры... Как вы думаете, господин президент, может быть, в них всё дело?!
(Хватает бумагу, бормоча, читает написанное).
– «Вы не знаете, почему сука Давыдова ходит за ним по пятам, а моя всё время норовит сбежать? Когда я говорю «сука», я имею в виду...» Ужас.
(Рвёт бумагу, бросает под стол).
– Вот уж никогда не думал, что писать предсмертную записку так трудно.
(Хватает портрет жены, кричит ей в лицо).
– Никогда не думал, слышишь?!
(Вешает портрет на стену).
– Это даже трудней, чем повеситься! Хорошо, что до Нового года ещё целых пятнадцать минут.
Садится за стол. Берёт новый лист. Бормочет, задумчиво грызя ручку.
МАМОНТОВ:
– Господин президент, господин президент.... Господин президент, мне так много хочется вам сказать, что даже слов не хватает, несмотря на богатый журналистский опыт. Ну, не хватает мне слов!
Вот почему мне в сорок четыре года вдруг иногда хочется покататься на карусели?! Почему я люблю есть мороженое тайком, а машину водить по встречке со скоростью сто двадцать километров в час? Почему я стесняюсь красивых женщин, а некрасивых боюсь?! Почему я двадцать лет люблю только жену, и даже ради любопытства не подумал ей изменить, хотя любопытства всегда было навалом?! Вам не кажется, что во всём этом есть доля вашей вины, господин президент?!
Замолкает, быстро пишет, зачёркивает и снова пишет.
МАМОНТОВ:
– Нет, ну и что это?! «Господин президент, почему бы вам не разрешить кризис в отдельно взятой стране, вернув мне жену, дочь, собаку, машину и кредит банку?!»
(Рвёт бумагу и бросает её под стол, где уже гора белых обрывков).
– «Вернув мне жену!» Что он, волшебник, что ли?! Гарри Поттер, или кто у нас там главный по волшебству? Снежная королева? Дед Мороз?! Нет, господин президент, вы не Дед Мороз, не Гарри Потер и уж, тем более, не Снежная королева...
(Вскакивает и начинает ходить по комнате, грызя ручку и теребя удавку на шее).
– Ну, а с другой стороны, какие ещё антикризисные меры можно предпринять, господин президент? Дать денег, вернуть жену и... убить Давыдова. Господин президент!
(Резко останавливается и молитвенно складывает на груди руки).
– Разрешите мне безнаказанно грохнуть популярного писателя-детективщика Никиту Давыдова! Буду искренне вам признателен! Может быть, тогда я даже воздержусь от самоубийства!
Хватает бумагу и что-то пишет. Комкает, бросает под стол.
МАМОНТОВ:
– Нет, нет, нет и нет! Всё не так, всё глупо, по-детски, шутовски, несерьёзно, а ведь я хочу, чтобы моя записка душу драла, сердце рвала... Чтобы слёзы сдавили горло и от сострадания стало трудно дышать! Чтобы мою записку опубликовали во всех газетах, чтобы её читали с телеэкранов, чтобы она стала хитом, бестселлером, чтобы Давыдовские детективы по сравнению с ней показались пресными, неинтересными и надуманными. Весь мир должен рыдать над моей запиской! Мне должны сочувствовать старики, дети, молодые девушки, зрелые женщины, банкиры, бомжи, собаки и... моя собственная жена. Господин президент, как вы думаете, жёнам знакомо такое чувство, как сострадание?
Комкает сразу несколько чистых листов и бросает под стол.
МАМОНТОВ:
– Через пятнадцать минут Новый год, господин президент, а у меня даже шампанского нет!
Берёт бутылку шампанского, открывает пробку и переворачивает бутылку, показывая, что она пустая.
МАМОНТОВ:
– А знаете, почему?!
(Хватаясь за голову, пробегает дистанцию от стола до стены и обратно).
– Потому что газета закрылась! Меня уволили! Денег нет! Собака сбежала! Жена и дочь тоже! Машина на свалке! А Давыдов пишет очередное говно, за которое ему заплатят сто моих бывших зарплат! Вот почему у меня нет шампанского! И вы в этом виноваты, господин президент! Вы! Потому что Вы, – только Вы! – отвечаете за всех, кто в Новый год бегает с верёвкой на шее!!
(Садится. Пытается отдышаться).
– И ведь, что самое интересное – никто особенно не расстроится, если я повешусь. А некоторые так даже обрадуются! Например, дятел.
Вскакивает и прислушивается к звукам за стенкой, припав к ней ухом.
МАМОНТОВ
(обеспокоенно):
– Эй, ты там жив, долбень?!
Бьёт ногой в стену.
В ответ незамедлительно получает канонаду молоточных ударов.
МАМОНТОВ
(удовлетворённо):
– Жив! Убью, сволочь! Сначала тебя убью, потом детективного гения, а уж потом сам повешусь. Вот ты мне скажи, что там можно прибивать три года подряд с утра до вечера?! Портрет президента к стене? Так это – удар, и готово! Портрет жены – три удара, готово! Портрет тёщи – пять ударов, готово! А у тебя, долбень, сколько родственников на портретах?! Сколько президентов, я спрашиваю?!! Жизни от тебя, дятел, нет...
Молоток продолжает стучать.
МАМОНТОВ:
– Господин президент! Если вы не издадите указ о нормировании портретов на одну российскую семью, я буду вешаться снова и снова!
Молотит гантелью в стену.
Молоток замолкает.
МАМОНТОВ
(подняв палец вверх):
– О!
(Приложив палец к губам, на цыпочках подходит к ёлке).
– Тс-с! Тс-с!!!
За окном гремят салюты, слышатся вопли «С Новым годом!»
МАМОНТОВ:
– Вот придурки, до Нового года ещё целых пятнадцать минут, а они уже празднуют. Лишь бы поорать...
(Заглядывает в коробку с игрушками, начинает наряжать пустую половину синтетической ёлки. Бормочет).
– Игрушки все старые. Сто лет не покупал новых игрушек. А всё потому, что Алинка выросла. Вот родился бы у меня сын... Родился бы сын, я бы всю ёлку ему танками и автоматами обвесил. Я когда маленький был, мечтал, чтобы на ёлке автоматы висели.
(Хватает конец удавки, изображает стрельбу).
– Ты-ды-ды-ды-ды! Ты-ды-ды-ды-ды-ды!!!
(Снова наряжает ёлку игрушками).
– Как хорошо, что до Нового года ещё пятнадцать минут! И ёлку нарядить успею, и предсмертную записку написать, и повеситься. И повеситься...
(Усердно крепит к ёлке шары).
– Эх, хорошо бы на ёлке повеситься! Как новогодний шарик... Давыдов бы оценил мой чёрный юмор. Но ёлка не выдержит моего веса.
(Отходит на шаг, любуясь своей работой).
– Я даже не уверен, что люстра выдержит. Попросить, что ли у соседа молоток, чтобы укрепить люстру? У этого дятла и стремянка наверняка есть.
Обходит вокруг стола, задрав голову и глядя на люстру.
Убегает за кулисы, возвращается с щёткой на длинной ручке.
Встаёт на табуретку и на цыпочках начинает сметать с люстры пыль.
МАМОНТОВ:
– Давыдов наверняка ухохочется, если я повешусь на грязной люстре. Более того, я совершенно уверен, что этот замечательный факт он вставит в свой следующий детектив! Слабовольный журналист-неудачник вздёргивает себя на люстре, даже не удосужившись протереть её.
(Опускает щётку, облокачивается на неё подбородком).
– Но потом непременно окажется, что журналист-неудачник вовсе не собирался вешаться на грязной люстре, несмотря на то, что от него к лучшему другу ушла жена, собака сбежала, дочь уехала в Африку, машину он разбил, банку задолжал, а сексуально журналист-неудачник проигрывает большей половине мужского населения страны. Нет, окажется, что неудачник вовсе не собирался вешаться, его повесил... лучший друг! Так, для профилактики, чтобы их всеобщая жена не вздумала вернуться к журналисту. И чтоб этот журналист в пылу борьбы за своё счастье не грохнул лучшего друга. А на столе, тем временем, опытные криминалисты найдут предсмертную записку, где неудачник обвиняет в своей смерти мировой финансовый кризис. Да, кризис! На него всё можно свалить. Даже невоспитанность собаки и распущенность жены. Давыдов непременно отразит этот конъюнктурный момент в своём детективе. И получит за это деньги, скотина, несмотря на мировой финансовый кризис...
Отбрасывает щётку, садится за стол, хватает бумагу и ручку. Пишет.
МАМОНТОВ:
– Господин президент! Я ненавижу Давыдова! Я ненавижу свою жену, дочь, собаку и свой кредит! Я ненавижу свою жизнь! Господин президент, вам не кажется, что в этом есть ваша вина?! Неужели трудно издать закон, что если в твою машину впендюривается «Камаз», то ты за эту машину банку уже ничего не должен?! И «Камазу» не должен! И камазист мне должен быть в законном порядке благодарен, что я к нему не имею претензий!
И неужели трудно в том же законном порядке объявить мою собаку в федеральный розыск, дочь не выпустить за границу, а Давыдова посадить лет на пятнадцать за преступные фантазии на страницах своих романов?! Неужели трудно президентским указом открыть газету, в которой я работал, и назначить меня главным редактором?!
Рвёт бумагу, бросает под стол.
МАМОНТОВ:
– Я в вас верил, господин президент. Верил, как в Деда Мороза! Как в Красную Шапочку и Серого Волка! А вы всё твердите про мировой финансовый кризис.
Вскакивает на стол, орёт.
МАМОНТОВ:
– Мировых кризисов не бывает!!! Бывает только твой личный человеческий кризис!!! Как у меня! У меня кризис работы, кризис жены, кризис детей, кризис машины, кризис лучшего друга и кризис шампанского!!! Всё это у меня было, но сбежало, ушло, уехало или просто не родилось! Это ли не повод повеситься?!!
Снимает с шеи удавку, и, подпрыгивая, петлёй пытается зацепить рожок люстры.
Наконец, это ему удаётся.
Люстра падает возле стола.
СЦЕНА ЧЕТВЁРТАЯ
Мамонтов растерянно смотрит на разбившийся плафон, потом на крючок в потолке.
МАМОНТОВ:
– Ну вот, а теперь у меня ещё и кризис люстры. До крючка мне точно не допрыгнуть.
(Спрыгивает со стола и обегает вокруг него три раза).
– Это что мне теперь – не повеситься?!! Не свести счёты с жизнью?!!
(Останавливается и смотрит на потолок).
– Возмутительно высокие потолки!
Снимает удавку с люстры, надевает себе на шею.
Комкает предыдущую бумагу, бросает под стол.
Берёт новую, что-то быстро и размашисто пишет.
Комкает, бросает.
Снова пишет, комкает, бросает.
Комкает-пишет-бросает.
Комкает-пишет-бросает.
Под столом уже горы бумаги.
Звонит телефон.
МАМОНТОВ
(мрачно):
– Да, слушаю.
(Отбрасывая ручку, радостно).
– Алина, доченька, здравствуй, моя дорогая! С Новым годом тебя, с новым счастьем! Спасибо, спасибо! Как хорошо, что ты позвонила, как хорошо! Да, мы с мамой празднуем! Мама в вечернем платье, я в галстуке.
(Дёргает себя за удавку).
– Да, на столе оливье, селёдка под шубой, утка с яблоками, маринованные грибочки и ёлка. Нет, елка, конечно не на столе, а рядом. Нам с мамой очень жаль, что в Новый год мы не вместе с тобой! Как у тебя дела, доченька?! Что?! Хорошо?! Всё замечательно?! Плохо слышно, говори громче! Позвать маму?! Мама не может подойти к телефону, она... выпила лишнего. Что значит, наша мама не пьёт?! Это она при тебе не пьёт, а без тебя... очень даже закладывает и лыка не вяжет. Да, такую маму ты ещё не видела.
(Вытирает пот со лба рукавом).
– Дядя Никита? Да, он тоже у нас, нет, подойти не может. Выпил лишнего, лыка не вяжет. Кто? Давыдов не пьёт?! Он в шестьдесят втором году, в детском саду не пил, а всё остальное время... Да нормальный у меня голос, весёлый. Новый год через пятнадцать минут, чего грустить-то?! Что?!! Ты возвращаешься?!
(Вскакивает, срывает петлю с шеи).
– Когда?! Через неделю?! Но почему?! Африканские львы не оценили твоей заботы? Чёрт... чёрт... чёрт... Нет, почему же, я рад. И мама рада, и дядя Никита тоже чрезвычайно рад. А Рэйчел от радости виляет хвостом! Что? Ты приезжаешь не одна? С мужем? Подожди, что это такое – Халубанабусира?! Имя твоего мужа?!! Конечно, пусть поживёт у нас, конечно...
(Надевает на шею петлю, затягивает).
– А ты случайно от него не беременна, от этого Халубанабусира?! Ну конечно, беременна, конечно... Правильно, иначе зачем бы ты ехала домой...
Кладёт трубку.
Берёт свободный конец верёвки и бегает по комнате, прилаживая его к часам, к фотографии, к ёлке, к столу, к шкафу, к дивану, к стулу.
МАМОНТОВ
(бормочет):
– Халубанабусира... Халубанабусира... Халубанабусира... Халубанабусира...
(Хватает со стола чистый лист бумаги и спрашивает у него).
– Господин президент, а оно нам надо?!
(Отбрасывает бумагу и носится по комнате).
– Халубанабусира и куча маленьких халубанабусирят?! Вот здесь?!
(Тычет в диван).
– И здесь? (Тычет в стул, часы, шкаф, стену, потолок). И здесь?! И здесь?! И здесь?! В этой крошечной комнате?! Мама... мама-а... Стоп.