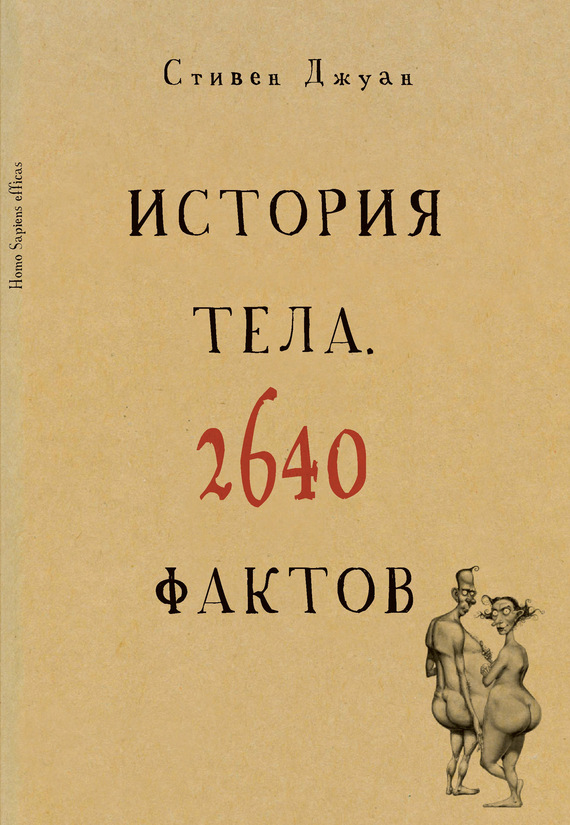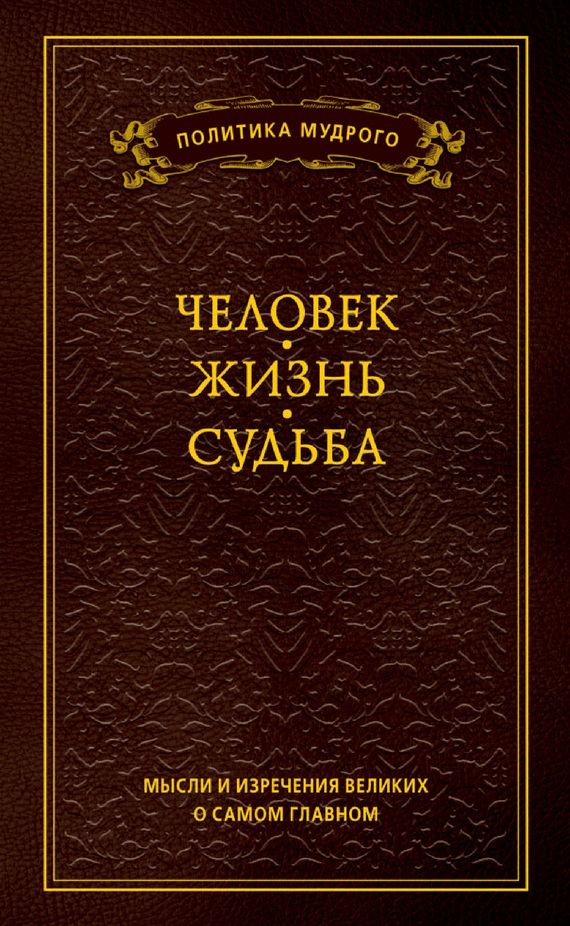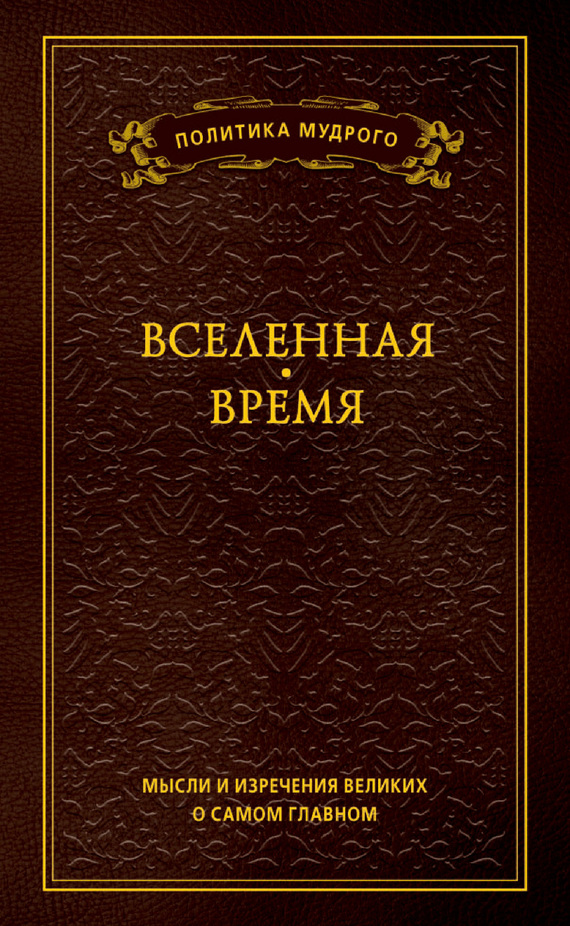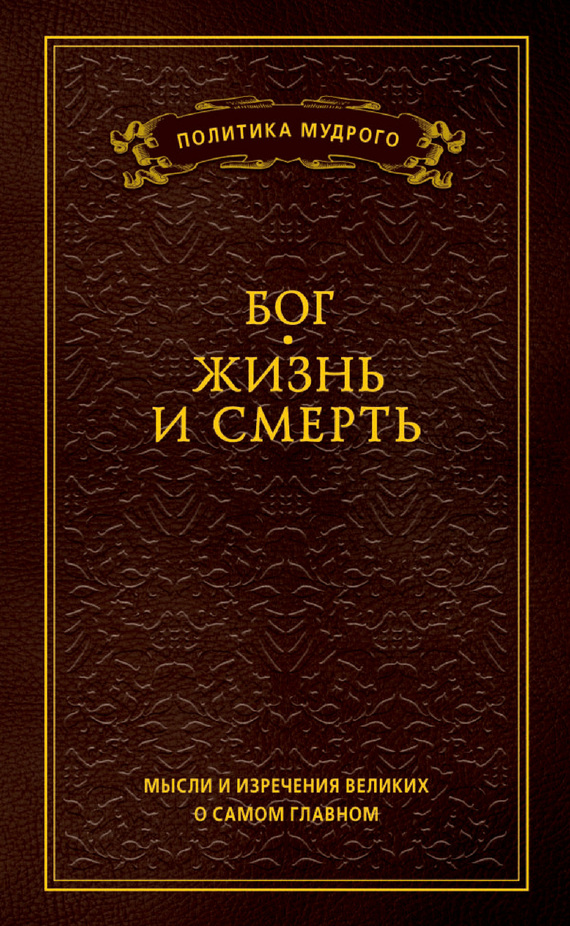Багряный лес Лерони Роман

Анна присела у его ног и стала снимать обувь, потом сняла с него брюки и плавки, и, когда он остался сидеть полностью обнаженным, она стала гладить руками его грудь, прикрыв от наслаждения свои волшебные глаза. Ее руки были приятно и ласково прохладными, а их прикосновения необычайно нежными. От этой ласки, как ему показалось, всё пространство вокруг них наполнилось музыкой, которую могли слышать только влюбленные, аккомпанируя ей возбужденным стуком своих сердец.
Она отошла от него, стала в середине комнаты и стала также неторопливо снимать с себя одежду. Словно в замедленном кино, к ее ногам падал пояс, юбка, были стянуты сапоги. Анна осталась в одной белоснежной длинной сорочке.
— Иди ко мне, — протянула она к нему руки.
Саша, не чувствуя ног, встал с кровати и пошел, словно притягиваемый магнитом ее рук. Он шел до тех пор, пока ему не показалось, что всего в несколько шагов ему удалось преодолеть вечность, и наградой за этот нелегкий путь была прохлада и ласка ее рук.
— Стой здесь, — прошептала она. — Закрой глаза и подними вверх руки. Не бойся ничего. Будь спокоен, если произойдет что-то необычное. Так надо.
Он закрыл глаза, безропотно подчиняясь силе ее чарующего голоса, уверенности ее слов, присутствию ее рук на своем теле. Они ласкали его, пьянили, и как только он закрыл глаза и поднял руки, так почувствовал, как мягко проваливается куда-то в теплую и ласковую глубину. Это ощущение можно было сравнить с тем, которое обычно принимается за предчувствие счастья: когда его еще нет, но уже есть радость и легкость, которые заставляют душу соединиться с сердцем и замереть до того самого мгновения, когда, наконец, будет достигнуто главное и важное, то, к чему так долго стремился…
Его падение было необыкновенным. Саша чувствовал, что стоит на тверди, но в то же время отчетливо ощущал, как воздух, сначала пушистым, едва ощутимым касанием омывал его тело, но с каждым мгновением его струи становились более упругими и реально ощутимыми. Он продолжал падать, стоя на чем-то твердом, с улыбкой слушая свист теплого воздуха в ушах и боясь пошевелиться, чтобы не отстраниться от прохлады женских ладоней, которые по-прежнему были на его груди. Он боялся открыть глаза, чтобы не разочароваться, когда увидит обыкновенную, непременно обыкновенную после такого сказочного полета, светлицу.
— Где я? — сказал он, и даже не сказал, а глухо, зачарованно простонал.
— Ты со мной, — ответил все тот же ласковый и одновременно отчужденный голос Анны. — Не бойся, я буду с тобой.
Это было сказано так, словно это была единственная и последняя возможность убедить безнадежно больного человека в скором выздоровлении. И ощущение скорого счастья стало как будто ближе. Александр не только чувствовал его приближение, но и даже через закрытые веки видел его свет: где-то снизу, разгораясь с каждым последующим мгновением падения, бил свет и вскоре он стал настолько сильным, что растворил веки, наполнив их розово-золотым блеском до той степени, что стал вливаться в сознание.
— Ты будешь со мной, — на выдохе вырвалось у него. — Ты будешь со мной всегда?
Последнюю фразу он прокричал, уже погружаясь в упругое, но ласковое золото загадочного, но долгожданного свечения. В самое его ядро.
— Ты будешь всегда со мной?
И в его крике было требование. Подчиняясь чужой и могущественной воле, он почувствовал свою собственную, которая зверем, учуявшим свободу, рвала все оковы, чтобы стать свободной и не менее могущественной. Мгновение счастья наступило… Нет, оно обвалилось на Александра, опрокинулось светом из-под ног и накрыло его полнотой и бесконечной радостью. Он закричал, выдыхая из груди весь воздух, чтобы наполнить ее вздохом нового, но насыщенного до предела счастьем. Это было ощущение полноты могущества и равности с кем-то, кто если и был велик, то только потому, что был невидим. Он мог быть невидимым, но его сила уже принадлежала человеку. Еще раз вздохнув как можно глубже, пьянея от распирающего грудь воздуха, Саша закричал, переходя от необыкновенной, предельно возможной радости, на переливы и визг… И это был крик дикаря, победившего доисторического дракона.
Ее рук уже не было на его груди. Они не были ему нужны. Он мог обойтись без них, а своими мог помочь кому угодно, и даже не руками, а единственной силой мысли. Думалось, что только пожелай, только подумай и толкни эту мысль, и где-то взлетит в воздух мост, небоскреб, рухнет небо, или, наоборот, зацветут деревья, зазеленеют луга, заржавеет оружие, разлезется, словно от гнили, военное обмундирование, превращая могущественных генералов в жалких карликов с выпяченными круглыми животами. Чья у него была сила? Ему не нужен был ответ, ему не нужен был ничей совет. Он стала самим…
— Ты будешь со мной! — уже сквозь смех своего могущества кричал он.
— Открой глаза, — прозвучал ее голос, но для него он был сейчас далек, словно звучал из дали, и докатывался до его слуха едва слышимым шепотом. И эта даль заставила его дрогнуть. Он имел могущество, силу, но с ее обретением отдалился от той, благодаря которой он стал таким счастливым и таким всемогущим. И к его силе стал примешиваться страх утраты.
— Я… я… я, — уже захлебываясь, уже не имея сил кричать, раздавленный собственным могуществом, старался произнести он. И, вдруг, напрягшись, произнес: — Я не хочу тебя терять. — Стало легче дышать. Покой разлился по телу, и Александр сказал: — Ты далеко, но я не хочу тебя терять. Где ты?.. Где?
Открой глаза.
Голос Анны прозвучал совсем рядом и с радостью, как голос матери, которая нашла потерявшегося ребенка. И для него он явился первым указателем пути к только что потерянному счастью.
Он открыл глаза…
Ее не было видно, но Александр чувствовал ее близость, как человек чувствует дыхание любимого рядом с собой в темноте.
Это была не светлица, даже не хутор. Это было совершенно другое место, ему незнакомое.
Он стоял на высоком холме, который одиноко возвышался над безжизненной пустыней, земля которой парила, растекалась в пространстве раскаленным воздухом. Под ногами была горячая, покрытая густой сетью глубоких трещин черная земля. Высь была мертвой, выжженной огромных размеров светилом, которое было настолько низко над землей, что можно было рассмотреть на его поверхности аляповатые черные пятна и взвивающиеся на сотни тысяч километров в высоту языки протуберанцев. Это было солнце. СОЛНЦЕ-УБИЙЦА.
На холме, рядом с обнаженным странником, коим был сам Александр, способный видеть себя со стороны, стоял огромный дуб. Ствол дерева был необъятен и высота недосягаема. Возможно его размеры и позволили ему выстоять в этом испепеляющем аду, и при полном безветрии бумажно шелестеть сухой безжизненной листвой.
— Ты видишь? — спросил голос невидимой Анны.
Саша закружился на месте, надеясь, что увидит ее. Но никого не было рядом ни на холме, ни у его подножия. Только растерянный странник, мертвый гигант дуб и вливающаяся в пыльный горизонт пустыня. Ни ветра, ни тени, даже под дубом, ни шороха, ничего, только пустота царства смерти и зноя.
— Ты видишь? — словно из воздуха рожденный, затаенно спросил голос женщины, которая оставалась по-прежнему невидимой, но была где-то рядом.
— Нет, — совершенно растерявшись ответил он.
— Ты видишь? — голос женщины зазвучал громче, злее.
— Нет, — в тон ему ответил Александр.
— Ты видишь? — уже в ярости кричала она, и молила: — Ты должен видеть!
— Я тебя не вижу! — не менее яростно воскликнул он. — Где ты, ведьма? Где? Я хочу тебя видеть.
— Не меня, — устало выдохнула она. — Ты видишь?
Он еще раз осмотрелся. Все было, как и прежде: дуб, сопка, пустыня и солнце…
— Зачем здесь дуб?
Этот вопрос молнией пронзил его мозг. Великан никак не вписывался в этот безжизненный ландшафт. Его не должно быть здесь. Он чужой.
— Да, я вижу! — Радость вернулась к Александру, а вместе с ней и могущество, с которым он попал в этом мир.
— Выбор, — произнес голос. И в нем была тоскующая обреченность. — Ты должен сделать его. СДЕЛАЙ!!!
Ее последний вскрик был материальным. Он толкнул Александра с дубу с каким-то пренебрежением, как толкают школьники своего слабого и беспомощного одноклассника. В душе Саши вспыхнула тлеющей искрой обида, но тут же она была раздута до ревущего реактивного огня гордостью: его, всемогущего, всесильного и непобедимого, толкают, как бродячего пса!..
Он закричал, и его крик стал ревом разъяренного чудовища. Земля под ногами задрожала и подернулась пыльной вуалью. Ненависть горела в душе Александра, и он направил ее на могучего великана, на дуб.
Он даже не прикоснулся к нему. В этом не было необходимости, когда сила была в одной только мысли. Дерево-великан затрещало и застонало, закачалось и стало выпирать из земли своими толстыми витыми корнями, готовое вот-вот рухнуть, как сломленный стебель травы, но вдруг все остановилось, и дуб ухнул на место, осыпаясь твердой и жесткой листвой.
Дуб был одинок, и Александр почувствовал это, припоминая свои дни в палате сумасшедшего дома. И там он был, как этот дуб, окруженный безжизненной пустыней, — окружен пустым и больным сознанием пациентов, и так же, как и это солнце, круглые сутки в палате горела ослепительная электрическая лампа, лишая последних капель разума, выпаливая его.
Один взмах руками, одна мысль, и быстро, словно цунами, от всех горизонтов, на холм побежала огромная зеленая волна. Небо мгновенно затянули серые низкие тучи, а тишину пустыни разбил треск молний, почву смочили упругие ливневые струи, и все это стал перекрывать густой и живой зеленый шум.
Тело Александра стало расти, постепенно ускоряя свой рост, сначала он достиг роста баскетболиста, потом стал Колоссом Родосским, и все продолжал расти, возвращаясь туда, откуда пришел. Он уже не радовался собственному могуществу, так как стал мудрым, и эта мудрость, сила мироздания, поднимала его над миром, который его волей стал вновь живым. С высоты своего могущества Саша видел свой мир, леса и реки на нем, когда еще совсем недавно его окружало мертвое плато ада.
Он закрыл глаза, когда понял, что достиг пика своего роста, и стал взлетать…
— Открой глаза.
Он открыл и увидел перед собой прекрасное женское лицо. Все происшедшее настолько овладело им, его воображением и сознанием, что он не узнал Анну, но когда он, наконец, понял, что вернулся в светлицу, то повалился на пол под ноги женщины, почти умирая от изнеможения. Она не успела подхватить его, а присела рядом, стала гладить его мокрое от дождя тело и шептать сквозь слезы оправдавшихся надежд:
— Ты сделал то, что нужно. Молодец.
Уже засыпая, вновь проваливаясь, но теперь в темный бархат сна, он почувствовал нежность ее поцелуев на своем теле.
— Ты будешь со мной? — едва шевеля растрескавшимися губами, чуть слышно прошептал он и уснул, так и не дождавшись ответа.
Вечер наступил рано. Солнце спряталось за черную кайму туч, которые окружали все горизонты. Это выглядело неестественно, словно с дальних границ на Зону наползала сама материализовавшаяся тьма. Тучи почти ровной линией, ограничивающей круг чистого неба над Зоной, медленно, но неотвратимо стискивали эту чистоту. Солнце еще поливало краем своего раскаленного диска округу, наполняя ее блеском чистой меди, но этот свет становился с каждым мгновением более скупым, и скоро всё видимое пространство стали затапливать густеющие сумерки.
— Будет буря, — сказала Анна, когда они проходили по проселочной дороге, минуя застывшие, тихие, словно нежилые хаты хутора. Ни в одном окне не горел свет, хотя уже было достаточно темно, чтобы тянуть с зажиганием свечей, коими на этом хуторе освещали помещения.
Они направлялись к церкви. Ее саму в сумерках еще не было видно, но был слышен тихий звон колоколов на ее звоннице. Такой тихий, что казалось, звонарь устал, и лишь лениво раскачивал чугун колоколов, извлекая из них едва заметное монотонное звучание, очень похожее на стон умирающего человека. Это был голос обреченных людей, огромный их хор.
Уже подходя к церкви, Саша увидел ее открытый вход, наполненный изнутри вялым золотым светом, который выливался на ступени порога, и делал окружающую темноту более плотной. У входа в церковь, в окружающей ее темноте, тихо покачивалось рассыпанное море маленьких желтых огней. При приближении к ним Александр заметил дрожание огней и их отблески, отражение на застывших в масках тревоги и ожидания женских лицах. У церкви собралось все население хутора, все женщины.
— Идут. Идут, — пронеслось ветром, словно лесным ночным лиственным шорохом вокруг, когда Анна со своим спутником подошли. — Идут. Идут…
Женщины расступились, образуя ровный проход к свету, льющемуся из церкви в темень ночи. Но Анна остановилась.
— Дальше ты пойдешь сам, — произнесла она, уступая Александру дорогу, отходя в сторону и низко кланяясь. — Ступай. Тебя ждет хозяин.
Он испытал неловкость, когда заметил, как разом дернулось и медленно оплыло вниз море огней горящих в руках женщин свечей. Они все кланялись ему, как кому-то необыкновенно могущественному, а не простому человеку. Если бы он не знал, для чего он здесь — Анна, когда он проснулся, все ему рассказала, — то, наверняка бы, сейчас же развернулся и побежал прочь от этого нереального, но одновременно существующего мира. Побежал бы, туда, где всё до простого ясно, в настоящую и привычную жизнь!.. Но после всего, что узнал здесь, он не имел никакого права отступать. Слишком многое зависело от него.
— Ступай, — тихо, почтительно повторила Анна. — Он тебя ждет.
Саша пошел по проходу. Стал подниматься по ступеням, и уже видел яркий свет свечей внутри церкви, игру их сотен огней на золотой фольге украшений иконостаса, темные лики бога и святых, еще нечитаемые, но обязательные, когда дорогу ему перегородил бушующий огонь. Пламя оглушительно гудело, вырываясь откуда-то с боков и было настолько плотным, что пройти сквозь него было невозможно. Сильный жар ударил по коже и заставил отпрянуть. Отойдя на пару шагов назад, Александр обернулся, надеясь увидеть Анну, которая должна была дать совет, как делала это всегда. Но позади ничего не было, кроме черноты, такой глубокой, что казалось, здание церкви парит над самим провалом вечности. Огни свечей едва читались в этой темноте, и принимались как дрожание звезд в космическом просторе.
Огонь ударил сильнее.
— Пусти, — поворачиваясь к нему, произнес Александр. Но пламя разгорелось еще сильнее, и гудело почти у самого лица, иссушая и опекая кожу. Человек прикрылся рукой. Он крикнул громче, надеясь на свою силу, которую он недавно приобрел: — Пусти!
Пламя немного поубавилось, но продолжало гореть, перекрывая путь. Когда он сделал шаг к нему, то тут же был вынужден отскочить назад. Огонь ударил с прежней яростью.
— Оставь то, что не должно сюда прийти с тобой.
Этот голос звучал спокойно и уверенно, даже как-то обыденно, и принадлежал мужчине, который должен был находиться за этой взбесившейся стеной смертельного огня.
— Что я должен оставить? — Александр спросил, полагая получить совет. Но особой надежды на это у него не было. Он уже понял, что в этом мире все сплетено и держится, живет, имеет право существовать только мудростью — не той, которой человек привык называть свои умственные способности, свой способ течения мыслей, свою неординарность, а той, которая являлась стержнем всему, что было известно, и всему, что было еще не познано.
Что с ним было такое, что не давало ему войти в этот храм?
Обреченность. Покорность своей участи.
Ненависть. Которая возмущением прожигала душу. Ненависть к тому человеку, который был болен той же самой болезнью — ненавистью.
Любовь… Разве она была? Ее место в сердце занимала пустота неуверенности. Не любовь, а неопределенность.
Надежда. Нет, не было той надежды, которая бы позволяла чувствовать себя уверенно, надеяться на помощь со стороны. Вместо нее было море вакуума, сосущего с алчной жадностью одиночества все силы.
Вера. Чего стоит она, если обращена внутрь мающегося сердца.
Страх. Поле, засеянное колючими и ядовитыми растениями паники…
Он шагнул в огонь.
Боль была мгновенной, она всепроникающим пламенем достигла сердца, обожгла сознание, но тут же откатилась назад, в никуда.
Задержав дыхание и крепко зажмурив глаза, Саша услышал, как смолк смертельный гул свирепого огня. И воздух, зажатый в груди, готовый вырваться вон в смертном крике, был спокойно выдохнут. Препятствие было преодолено.
Он оказался в полной темноте. Не было больше ни яростного огня, ни дрожания свечей за спиной, ни золотого света, который еще мгновение назад струился из раскрытого входа в церковь. Саша постоял немного, давая глазам привыкнуть к темени, рассчитывая, что скоро что-нибудь увидит. И тут же тонкая игла далекого огня сверкнула где-то впереди. Он пошел ему навстречу. Но его движение было странным, словно было разбросано во времени, нисколько не обращая внимания на его законы: каждый шаг был словно гигантским, хотя ощущался естественным — огонь, светившийся в темени где-то вдали, только от одного шага человека стал вдвое ближе. Еще шаг, и Саша видел уже, что огонь — это толстая и высокая свеча. Ее пламя было абсолютно неподвижным, словно нереальным, приклеенным к свече. Свеча стояла на длинном столе, но не освещала всю его длину. Александр сделал шаг вдоль стола, минуя свечу, и тут же заметил, что оказался возле другой свечи, которую из-за расстояния не мог рассмотреть раньше. Он обернулся. Прежней свечи уже не было видно. Он продолжил свой путь, всё ускоряя шаг. Это была обыкновенная, простая ходьба, но стоящие на столе свечи, их огонь слился в непрерывную плотную линию.
Последняя свеча была маленькой и стояла в небольшом золотом подсвечнике. Ее пламя было живым и дрожало, словно его тревожило чье-то дыхание. Подойдя ближе, Александр увидел, что за столом сидит довольно молодой человек и приветливо ему улыбается. Человек встал и направился навстречу гостю. И тут же темнота растаяла. Снова была церковь, сотни дрожащих огней на свечах и лампадах, блеск золота, мечущиеся размытые тени. Стена иконостаса, с ликами бога и святых, как и прежде застывших с закрытыми глазами, словно они намеренно не хотели видеть того, что происходило в этом мире.
Саша посмотрел на стол.
Это был простой стол, покрытый парчовой, кровавой, тканью. Он был небольшой, и его любую сторону можно было пройти за какой-то шаг. На кровавой поверхности стола стоял ряд маленьких свечей. Это обстоятельство заставило Александра изумиться.
— В непознанном пути все кажется бесконечным, — произнес человек, подходя к гостю.
Саша теперь мог рассмотреть его полностью. Высокого роста, одетый в дорогой костюм, в котором привычнее видеть высокопоставленного государственного чиновника, чем священнослужителя. Больше всего внимание привлекало его лицо. Оно было четко огранено в чертах, словно было вырублено из огромного куска гипса, с той лишь разницей, что имело естественный цвет и нормальную, живую подвижность, но все равно угадывалось, что это лицо не принадлежало человеку, а было маской, хотя и мастерски выполненной.
Еще были глаза…
У человека они были вылиты из темноты. Их чернота была абсолютной и глубокой. И их бездонность смотрела на Александра ноющей тоской, выливалась вон холодом вечности, усталостью еще не пройденного вечного пути.
— Как тебя зовут? — спросил Саша.
Человек, стоящий против него, едва заметно усмехнулся.
— У меня много имен.
— И имя тебе легион?
Черты лица человека заострились, и прикоснувшись к его носу можно было, казалось, серьезно пораниться. И улыбка, которая пробежала по губам человека, разбила этот неживой лик черной трещиной.
— Нет. Я старше него.
— Кто же ты?
— Я Ярый. Я Ярило. Я Вий. Я Дажбог. Я прошлое этой земли.
— Если ты прошлое, зачем же ты здесь? Твое место там, куда смотрят твои глаза, Ярый — в вечности.
Человек запрокинул голову и громко засмеялся. Его смех громом разметался в выси храма, тонко звенел в золотой фольге икон, позвякивал в хрустале. И это сопровождение делало его необыкновенно мелодичным.
— А ты очень наблюдателен, смертный! — говорил Дажбог, продолжая смеяться. — Увидел вечность в моих глазах!.. Ха-ха-ха!
— Нет.
И это одно слово Александра опустило на них покрывало тишины. Стало так тихо, что было слышно, как уверенно и размеренно стучит сердце в груди. Единственное живое сердце.
Лицо Ярого стало растрескиваться по граням, покрываться черной сеткой глубоких резко-ломаных морщин-трещин. Оно становилось ломким и хрупким, и крошилось, опадая под ноги с легким шорохом. От его головы, сбоку, отвалился большой кусок и с фарфоровым стуком ударился и покатился по каменному полу церкви.
— Что же ты видишь? — рот Вия стал обваливаться, превращаясь в черную острогранную дыру, пещеру, дышащую темнотой и холодом.
— Вижу боль отчаяния. Вижу поверженного.
После этих слов раздался протяжный стон, исходящей от Ярого. Воздух дрогнул и отчетливой, видимой волной, искажая предметы и пространство, прокатился до стен церкви. Маска, и весь Вий раскрошились на тысячи осколков, которые, разлетевшись по залу, заискрились бенгальскими огнями, превращаясь в ничто, сгорая до пустоты. Огромные крылья, с блестящими черными перьями, распахнулись за спиной того, кого уже нельзя было назвать человеком. Они достигали стен церкви, и казалось, что им не хватит места, чтобы развернуться здесь полностью; они сильно ударили по воздуху, но не затушили свечей, а, наоборот, заставили их разгореться гудящим факельным огнем. Еще взмах, и черное чудовище с оскаленным и зубастым ртом, распахнутыми бездонными глазами, взмыло в воздух.
— А теперь кого ты видишь?
Того, чье самолюбие уязвлено до предела, и он поражен этим настолько, что забыл, что он собирался делать.
Александр вспомнил сопку и дуб. И вновь он был там, но вместо сопки стояла церковь, а вместо дуба — этот крылатый демон. Саша вновь почувствовал свое могущество, свою подконтрольную воле силу. И она была большей, чем у Ярого…
Демон взлетал все выше и выше. И с высоты раздавался его вой, полный отчаяния и бессилия.
Человек был силен над прошлым потому, что был полон силы того, чьих крестов не было в этой церкви. Он увидел, как открылись озерные внимательные глаза на лицах святых, их лики вытянулись за грани икон, обрели объем, стали с мудростью и сожалением осматривать убранство святилища. Они мелко кивали своими бородатыми, косматыми и седыми головами, словно осуждали все, видели, и когда их умные и все понимающие глаза останавливались на Александре, то их головы начинали, стыдя, покачиваться на плечах.
Шепот десятками ровных голосов, шорохом тысячелетий зашелестел в пространстве церкви, и в нем, в этом шепоте, была досада, но и понимание: они говорили о нем, но не осуждали.
Все происходящее было настолько реально, что у Саши закружилась голова, и он, закрыв глаза, зашарил рукой, чтобы найти спасительную опору, стол, чтобы не упасть перед ожившим иконостасом. Его подхватили чьи-то сильные руки, и уверенный голос с мудростью в каждом слове произнес:
— Ты прав во всём.
Он обернулся на голос. Это был Ярый. У него уже не было крыльев. Его лицо было обыкновенным, человеческим. Только в его глазах по-прежнему была черная глубина не испитой тоски вечного пути.
— Тебе надо идти, — вздохнул с сожалением Вий.
— Да, — согласился Александр, и вдруг произнес: — Прости.
Ярый уже вел его к дверям в иконостасе.
— За что? — Его изумление было искренним.
— Мне незачем было говорить о том, что и так видно.
Они остановились возле дверей. В тишине было слышно, как что-то монотонно гудит за ними, и в этом звуке была угроза скорых мук.
— Ты ни в чем не виноват, человек… Каждый из нас, даже бог, должен пройти свой путь, и услышать имя своей судьбы, как итог своих дел. Ты назвал мой путь. Но тебе еще предстоит пройти собственный. Ты готов?
Он взялся за золотую ручку на двери, и Александр увидел, как вспыхнула яркими и трескучим огнем эта рука, будто она была из пересушенного дерева. Ярого изломало судорогой от боли.
— Я должен тебе напомнить, — кричал он, стараясь перекричать свою муку, — что ты имеешь полное право отказаться от этой дороги!
— Нет.
Александр отвечал, стараясь быть спокойным, но то, что он оставил там, за стеной огня при входе в храм, снова возвращалось. Его охватывал страх, когда он видел, как сгорает рука того, кто даже не был подобен его человеческой плоти. Вий был когда-то богом, идолом, но только от одного прикосновения к тому пути, который предстояло пройти простому смертному, он превращался в ничто.
— Мало кому из нас дано пройти это путь, человек! Ты готов — еще раз тебя спрашиваю?
— Да!
Это согласие прозвучало слабо, неуверенно и жалко. Оно требовало не открывать двери, а пожалеть его, и увести отсюда обратно.
— Я готов!!! — закричал он что было сил, но голос его ужаса был сильнее.
— Ты можешь уйти, — искушал его Ярый, извиваясь от боли. Его рука уже горела по локоть.
— Нет!!!
— Ты имеешь полное право отказаться…
— НЕТ!!!
— Человек!..
— НЕТ!!!
— Тогда ступай и помни, — умиротворенно, не обращая внимания на ужасную боль, произнес Ярый, — что редко кто возвращался. Ступай и будь благословен. Твой господь с тобою.
Дверь распахнулась с оглушительным грохотом взрыва. Ужасная сила, испепеляя все вокруг себя, вырвалась наружу, схватила, сжала, раздавила, смяла, разорвала, изломала тело человека. Но, как только она захватила эту добычу, с жадностью века голодающего чудовища, как обвилась вокруг него, повертела в раскаленном воздухе, наслаждаясь криком жертвы и тут же рванулась обратно. Едва с металлическим оглушительным ударом, сотрясшим все пространство, закрылась дверь, как исчезла церковь, а вместе с нею и хутор.
Ведьмы прошли на том место, где еще недавно стояла церковь, а теперь была простая заросшая высокой травой поляна, и обступили распластанное тело того, кто лежал, неловко подогнув под себя ногу и раскинув широко в стороны огромные черные крылья. Они окружили его и стояли, скорбно наблюдая при дрожащем свете свечей за неподвижным телом, которое стало медленно просачиваться в землю. Он уходил в нее, растворялся в ней, а трава на том месте поднималась высоко, что-то благодарно шепча во время этого неестественно быстрого роста.
Было тихо. И в этой тишине раздавался женский плач. Плакала единственная ведьма, которая не присоединилась ко всем. Но никто не обращал на нее никакого внимания.
Пошел дождь. Это был ливень. Который разом затушил все свечи. И когда стало полностью темно, пространство пронзил вой ветра. Он был настолько сильным, что многие не удержались на ногах и попадали в мокрую траву. Лес стонал и трещал, пробиваемый бурей. Сквозь грохот необузданной стихии раздавался еще один, леденящий сознание звук. Хор голосов. Ледяных, жадных и бешеных. Из леса катилась черная волна нечистой силы. Тучей, пробивая косые ливневые струи, летели упыри. Под ними рыжей лавиной, освещая путь светом голодных глаз, неслись вурдалаки, неся на спинах синеватые, трупные тела мавок. И вся эта орда неслась на женщин. Когда до ведьм оставалось совсем немного, женщины взмыли в воющий воздух, оставляя за собой пустое и разочарованное щелканье хищных челюстей. Туча упырей предупредительно раздалась, испуганно засвистела, уступая пространство для ведьм. Загорелись огни. Они полетели впереди нечистого воинства, освещая ему дорогу в стремительном движении. Лавина катилась на хутор, запущенный, но обитаемый, на одинокие огни в хатах, туда, где была долгожданная добыча…
— Ненавижу такую мерзкую погоду, — проскрипел прокуренным голосом Валя, высокий бандит, выглядывая в окно, стараясь рассмотреть в нем что-то, но за окном была ночь и бушующая буря.
Он только что встал из-за стола, за которым сидел, играя в карты с тремя своими товарищами.
— А как по мне, — с ехидным смешком, тасуя засаленную колоду карт, произнес другой, стараясь одновременно достать из рукавов карты, (делал он последнее незаметно и профессионально — до того, как попасть в леса Зоны, Хлощ, был профессиональным каталой[56]). — Как по мне, — повторил он, когда, наконец, произвел подмену карт, — эта погода так и шепчет: налей, да налей… Эй, Куб, ты бы не спал, а наливал!..
Он похлопал по плечу другого своего товарища, который сидел рядом, задумчиво, даже печально рассматривая давно нечищеное стекло керосиновой лампы.
— Тебе бы только пить, дура! — беззлобно выдавил тот из своей немощной груди. Кубу было около пятидесяти лет, и он страдал от одиночества и болезни. Отбывая двадцать лет назад свой пятилетний срок, он работал на "химии", на нефтеперегонном комбинате, и во время аварии наглотался какой-то гадости. Попал в больницу. Вылечили. После освобождения он старался быть повнимательнее к своему здоровью, и болезнь отступила. Но, когда от него ушла жена (убежала к какому-то молодому ублюдку), он подался сюда, в Зону. Он давно завязал с преступным промыслом, но потрясение в личной жизни толкнуло его опять в эту темную стихию, и за три года болезнь не только дала о себе знать, но и стала прогрессировать. Мало того, что жестокий кашель изводил его по утрам в течение нескольких часов — у него иногда открывалось горловое кровотечение. По своему обыкновению быть ко всему абсолютно безразличными, его товарищи пророчили ему скорую смерть. Да, Куб это и сам понимал. Не жить ему долго. И от этих мыслей, особенно, когда в голове шумело от выпитого, им овладевала тоска. Думал о том, что ему страшно не повезло в жизни, и о том, что несправедливая судьба не оставляла ему ни единого шанса что-либо поменять в будущем, которого попросту не существовало.
Он взял бутылку и разлил ее содержимое по помятым алюминиевым кружкам. Одну из них пододвинул товарищу:
— Пей, гад. Может, утопишься.
— Тот нехорошо засмеялся, поднимая емкость:
— Ты всегда был особо ласковым человеком. Злишься, что не поживешь еще…
— Ты бы заткнулся, — попросил его Валя, отходя от окна и обходя большую лужу на раскисшем от избытка влаги полу. Через давно прохудившуюся крышу дождевая вода протекала ручьями. Обувь у обитателей этой хаты постоянно была сырой, а кожу ног покрывали язвы. В остальных жилищах дела обстояли не лучшим образом, разве что в хате Бузуна, в которой крышу отремонтировал какой-то заезжий тип за определенную плату. — Что-то ты стал длинным на язык, Хлощ.
— А чего ты на меня в претензии? — с улыбкой невинного человека ответил Хлощ и опрокинул содержимое кружки в свой беззубый рот. После он громко крякнул и отрыгнул, вытирая рот грязным рукавом. — Ему жить-то часа два осталось, так его завидки берут, что ему кранты, а нам еще пожить можно. Собака гнилая!
Куб взревел и поднялся над столом, выхватывая из-за пояса пистолет и направляя его на обидчика. Хлощ также вскочил и поднял автомат.
— Ну, что — пальнем, браток? — скаля воспаленные десны, брызгая слюной, заерничал он. — Сдохнем разом, чтобы там веселее было в компании. Может и Валю попросим присоединиться, а? Валя, как ты на это смотришь?..
Тот резким рывком выхватил оружие из рук своих товарищей.
— Болваны, — спокойно произнес он, складывая оружие на мокром подоконнике. — Я устал от ваших концертов. Если хотите стреляться — ступайте на двор. Мне будет меньше работы — не собирать ваши кишки по хате.
Он сел за стол, спиной к окну, за который бушевала непогода. Сели и остальные. Разлили еще из бутылки. Валя выпил дважды — один раз за пропущенный, когда стоял у окна, изучая дождливую ночь за стеклом.
— Я вот что кумекаю, — протянул он. — Наша нора стала вообще худой. Надо завтра переселиться в бузунскую. Там уютно. Атаман сделал ноги со своими попами, гад, но оставил прикид по хате и шмотье.
— Гад! — сплюнул Куб. Хлощ только согласно кивнул. — Сволочь!.. Так с братвой поступить!
— Как? — спросил Валя. — Он предлагал всем. Почему же ты побоялся свой зад поднять и пойти за ним?
— Заткнись, — огрызнулся Хлощ.
— Я тебе не радио, чтобы меня вырубать по желанию, — не глядя в его сторону, сказал Валя, и тут же замер, прислушиваясь. Ему показалось, что за спиной, за окном, в шумящей дождем ночи, кто-то пробежал — послышался быстрый топот чьих-то ног по лужам и раскисшей земле.
Насторожились и все остальные.
— Что? — прошептал Хлощ, заметно бледнея. Он также слышал это звук.
— Ничего, — отмахнулся Валя, поднимая свои карты, чтобы увидеть, что "пришло" в этот раз. Он был самым молодым в этой компании, поэтому ему хронически не везло. Его соперники были не только старшими по возрасту, но слыли самым опытными карточными игроками. Он подозревал, что все дело было не в опыте, а в умении виртуозно подтасовывать карты и заниматься другими шулерскими штучками. Он не принадлежал к славной когорте воров. Валя был мокрушником, наемным убийцей, которого после последнего задания подставили сами же заказчики, чтобы самим выйти сухими из возможных проблем. Серьезная проблема вышла. Из-за нее он и подался искать спасения в Зоне. Правда, не рассчитывал оставаться здесь очень долго, готовил проход за границу, на войну, в качестве солдата удачи. Он был профессионалом в своем деле, и здесь его побаивались, уважали, зная, что убить сможет и простой ложкой. — Ничего, мне просто показалось.
— И мне тоже, — неслышно для других прошептал Хлощ, также рассматривая свои карты. — А ты, Куб, долго будешь пялиться на лампу или возьмешь карты и будешь играть?
По столу ударили первые карты.
— Поднимаю до ста тысяч, — протянул Валя.
— Мало, удваиваю. Твое слово, Куб.
— Еще пятьдесят.
— А не пожалеешь потом? Впрочем, тебе бабки незачем…
— Ты допросишься, гад!
— Всё, всё, мир, — улыбнулся своей "очаровательной" улыбкой Хлощ. — Я это так, просто к слову… Валя, ты когда-нибудь расскажешь, как ты оказался здесь? Ты парень не простой. Сразу видно, что ходок не имел, но и на фраера не похож.
— Те, кто обо мне много знал, уже червями не только переварены, но и выс…ны.
— Да мы же тут все свои. Нам можно доверять. Правда же, Куб?
— Пошел ты!..
— Вот и наш друг Куб соглашается, правда, в своей манере. Ну, так как, расскажешь? До чертиков хочется послушать.
— А сдохнуть не хочется?
— Неужели все так серьезно? Я слышал, что ты братков мочил…
— И таких, как ты, болтунов. Ты будешь играть? Триста в банке. Предупреждаю: если найду в твоих рукавах карты — кастрирую. Мне надоело проигрывать. Я уже продул полтора миллиона.
— Не умеешь играть — не садись. Ты такое слышал, пацан? Вот, только не пойму, почему сразу яйца? Они-то здесь при чём?
— Тогда голову отшибу.
— А это уже чисто деловой разговор…
Он онемел, когда увидел, как разлетелось со звоном окно за спиной Вали, и как чья-то огромная тень навалилась на него. Хлощ смотрел на все это и забыл дышать от охватившего его ужаса. Валя задергался, когда его схватили и стали раздирать чьи-то черные руки. Его еще живого с глухим рычанием обгладывали чьи-то свирепые рыжие морды.
Разлетелось, словно от взрыва, второе окно, и в хату, вскочили две обнаженные женщины, сразу хватая онемевшего от происходящего Куба. Они стали полосовать его своими длинными зубами, разбрызгивая горячую кровь, заливая ею свои синюшные тела, а он лишь дергался, еще продолжая держать в руках веер карт. На его лице было написано изумление. Он словно спрашивал: это на самом деле происходит со мной?.. Но потом лицо опрокинулось куда-то вниз. Это отвалилась отгрызенная голова, звонко хлюпнувшись в жидкую грязь под столом. И тогда Хлощ закричал, выдавливая из груди весь воздух. Крик получился длинным и жутким, но на второй вдох у него не хватило сил. Из его вспоротого живота вывалились кишки, и их тут же стали растаскивать какие-то рыжие полулюди-полусобаки.
Все произошло в течение какой-то минуты. И скоро пустую хату, залитую и забрызганную кровью, освещала одинокая керосиновая лампа, а в разбитые окна врывался сильный ветер с дождем, заливая стол и разбрасывая карты.
Тысячи теней, размытых темнотой, дождем и бурей, устремились к остальным хатам, где еще ютились в своём жалком одиночестве живые люди.
Где-то в другом месте Зоны, таком же ненастном, разбитом крупными и частыми каплями дождя и пронзенном воющим ветром, по полю одичавшей самозасевающейся пшеницы с криком ужаса бежало около десятка человек. Хлопая мокрыми крыльями, тихо свистя от радости скорой добычи, над ними кружились черные фигуры упырей. Нечистые, один за другим, на мгновение застыв в воздухе, выбирая жертву, камнем падали на нее, обнимали ее своими кожистыми крыльями и вонзали в задохнувшегося от страха и безумия человека свои длинные клыки, и торопливо, жадно сосали горячую кровь, пока трепыхающееся тело не застывало в мертвых тисках смерти.
Еще где-то бежали по лугам другие, путаясь в высокой траве. Люди один за другим исчезали в ней, когда невидимые руки полевых русалок хватали их за ноги, валили в мокрую траву, жадно и торопливо разрывали на несчастных одежду и тонкими пальцами щекотали… Жуткий смех-крик, захлебывающиеся в безумной радости голоса людей замирали один за другим, и всё накрывала своим воем ночная буря, а русалки, легко скользя в траве с помощью своих чешуйчатых хвостов, спешили к новым жертвам.
На дороге, с разгона бросаясь на колонну легковых автомобилей, забуксовавших в размокшей грязи дороги, вурдалаки разбивали стекла и сразу же впивались зубами в тела обреченных вольных. Многочисленная стая этих ужасных и предельно разъяренных от невыносимого голода чудовищ разделалась с тремя десятками беглецов, разорвав на куски не только их тела, но и разбив машины. Один автомобиль загорелся. Пламя было настолько сильным, что его не мог затушить даже яростный ливень. Свет от бушующего на ветру огня освещал размытую дорогу, ближайший лес и на какое-то мгновение выхватил рыжее море вурдалаков, которое разлилось между деревьев, мчась через лес на другую дорогу, где, надрывно ревя перегретыми двигателями, крутясь в жирной грязи, буксуя в ней, двигалась другая колонна машин, везя в своих ненадежных корпусах обреченные человеческие души.
Множество едва обжитых хуторов Зоны в эту ночь постигла одна и та же участь. В них, в полуразваленных хатах, сараях и просто шалашах умирали на своих кроватях, подстилках и лежаках, исходя в предсмертных судорогах, пуская густую пену из оскаленных в удушье ртов, сотни беглых… На их спинах, груди, боках сидели маленькие волосатые фигурки домовых. Длинные руки нечистой силы мертвой хваткой сдавливали шеи несчастных. Эта смерть была тихой. Не было слышно ни вскрика, ни стона, а хруст ломаемых кадыков и стук бьющихся в агонии тел заглушала буря.
Разыгралась, разошлась в своем разгульном пиру нечистая сила, разлила вместе с дождем по Зоне ужасную смерть. А жуткий праздник продолжался…
Ночь только начиналась.
Он вернулся в свой штабной автомобиль только что, и прямо в блестящей от дождевой воды накидке устало опустился на удобный диван. Усталость отравляла сознание пустотой бездумности. Не было сил думать, не хотелось думать… Лица, лица, лица. Тысячи лиц прошли мимо него за эти неполные сутки, но среди них, растерянных, уничтоженных лихим поворотом судьбы, безразличных к своей участи и просто безумных, не было того, которой уже не только призраком виделся в беспокойных снах, но и грезился наяву.
Очистка Зоны проходила строго по плану. Никаких неожиданностей не было, и если ничего непредвиденного не случиться, то к полудню от преступной вольницы не останется и следа. Зона вновь будет Зоной, где мир будет отдыхать, ожидая очередного насилия над собой человеком, который будет пахать, сеять, жать строить и гадить…
Переверзнев, стараясь обезопасить всю операцию, благоразумно послал вертолетный десант в Припять, на АЭС, чтобы военный и милицейский спецназ в случае чего, мог пригодиться охране станции, если туда нагрянут ведомые отчаянием вольные. Люди в состоянии аффекта способны на самые безумные поступки.
Он вяло улыбнулся. Успех операции его совершенно не радовал. Ему нужно было совершенно другое. Ему нужен был Гелик. Ему нужна была жизнь этого человека, чтобы он сам, Переверзнев, мог жить и любить. Улыбка Олега ожила, когда он представил образ той, которую любил. Он не знал, что такое любовь, до того самого момента, как увидел ее, стройную, гордую и красивую, в кабинете ее отца, даже не мог представить, что подобное может произойти с его очерствевшим сердцем. Как сразу много случилось в тот момент, как сразу стала ценной каждая секунда жизни, как сразу важным стало будущее, которое было под угрозой — в руках уже полумертвого старика, черт бы его побрал!.. Судьба издевалась над ним. Олег это знал определенно. Она дарила ему самый важный, самый главный подарок в жизни, но и реально грозила его забрать. Но Переверзнев был бы не Переверзневым, если бы не знал, как решать подобные проблемы. Однажды он уже заработал настоящее своё положение с помощью двухсот одиннадцати жизней. Они стоили того, чтобы он жил хорошо. Но нужна была, необходима, еще одна, двести двенадцатая, чтобы его жизнь расцвела счастьем. В этом Олег был полностью уверен.
Сброшенная накидка с шорохом упала на пол. Олег встал и потянулся, стараясь напряжением мускулов выдавить томную усталость из тела. Он прошел к столу, на котором стоял компьютер, и стал просматривать сообщения. По его распоряжению, перед началом операции всем ударным отрядам были розданы размноженные фотографии Гелика, и подчиненным было строго наказано сразу ставить начальство в известность, если в поле зрения попадется человек более или менее схожий с запечатленной на фотографии личностью, либо в какой-то мере соответствующий описанным приметам на обороте фотографии. Сообщения сыпались на компьютер Переверзнева, как снег в зимний буран. Оказалось, что такой внешностью и приметами в Зоне обладали сотни вольных. И министр лично метался по фильтрационным пунктам, рассматривая тех, на кого указывали приметы. Это было утомительно, но другого выхода не видел.
Чтобы хоть как-то облегчить свою роль в розыске Гелика, Олег Игоревич приказал, чтобы всех подозреваемых, отвечающих приметам этого человека, направляли на ближайший к штабу фильтрационный пункт.
Сев к компьютеру, он, однако, не поспешил просмотреть список очередных "геликов", а открыл файл, в котором оперативная следственная группа докладывала о том, как идет "горячее", по горячим следам, дознание задержанных преступников. В этот раз было подготовлено уже свыше восьмидесяти обвинительных заключений. А всего с начала операции было добыто свыше трехсот. Бегло просмотрев их, Переверзнев дал команду компьютеру связаться с Генеральной прокуратурой. В здании Генеральной прокуратуры этой ночью тоже мало кто мог пойти домой, чтобы лечь в постель и отдаться покою заслуженного сна: время не могло ждать — задержанные высокопоставленные чиновники должны быть освобождены через сорок восемь часов с небольшим.
Прокуратура ответила сразу, и, тихо журча носителем информации, винчестером, компьютер стал передавать на киевский сервер будущие приговоры. Во время обратной связи министр узнал, что обвинения предъявлены уже более чем пятидесяти задержанным. Работа шла превосходно. И ей было суждено войти в Историю.
Теперь пришла очередь другого файла…
Безучастными строками сообщения компьютер информировал:
"… вашим требованиям на 06.05. <02:35> этого года, по фильтрационному пункту 43-ИН, отвечают 28 задержанных. Из указанного числа только 9 могли представить действительные документы. Это…