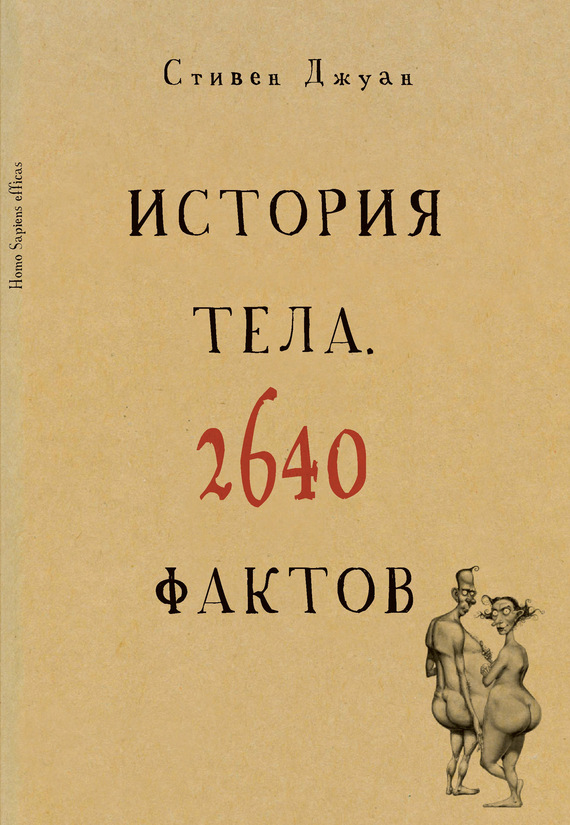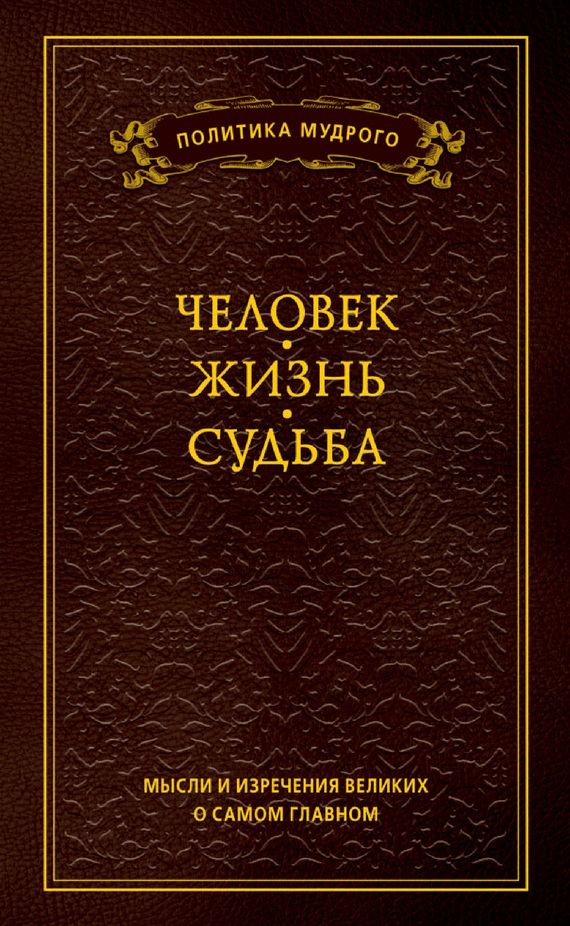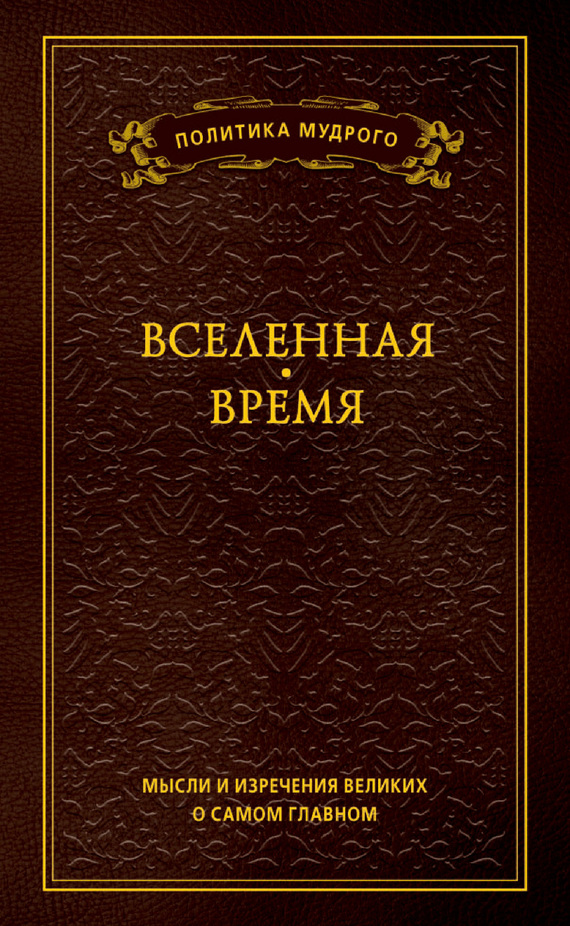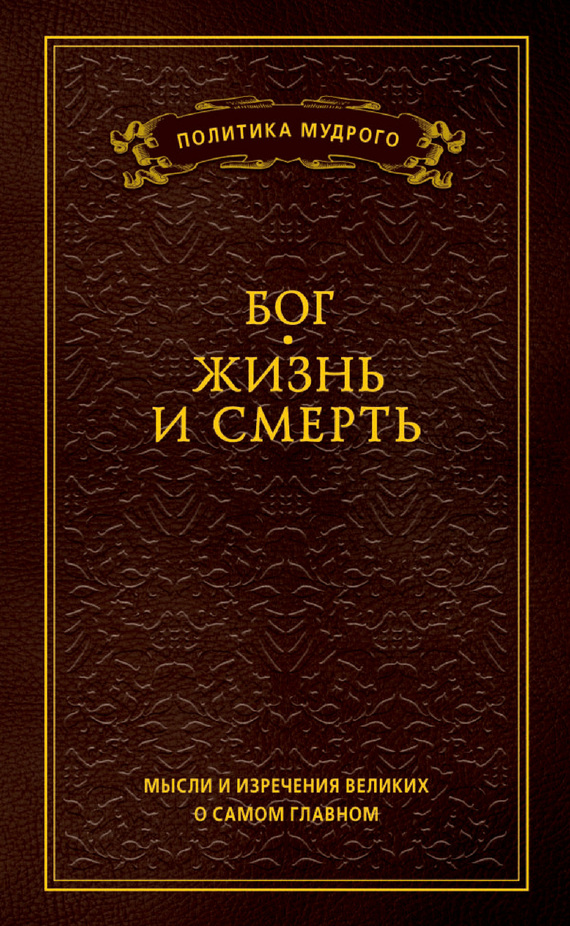Багряный лес Лерони Роман

Ее лицо, фигура, движения — все было возвышенно идеальным. И справедлива была растерянность Александра, который не мог представить себе, что эта дева могла запросто идти после утренней дойки с ведром молока по сельскому двору, когда ей место было в королевском дворце! Еще он испытал легкую панику от осознания того, что эта богиня должна была войти в дом, в котором находился он.
Она вошла, стала на пороге и широко улыбнулась — вспыхнула, ослепила своей красотой.
— Вы так рано встали? — Голос ее журчал весной, звучал хорошим настроением в тихом уюте светлицы, и уже невозможно было представить другого места, где он мог бы так раскрыться до каждой своей поющей струнки, разлиться нежностью и полнотой. — Я предполагала, что вчерашнее ваше приключение даст вам более щедрый сон. — И спохватилась, занялась с завидным хозяйственным опытом, когда нет ни единого лишнего, суетливого движения, процеживанием молока. — Вы ж голодны! А я, глупая, потчую вас болтовней…
Вскоре на столе стоял кувшин с парным молоком, рядом лежали щедро нарезанные ломти каравая. Так и не сказав ни слова, Саша сел за стол и стал есть. Голод оказался сильнее растерянности. Женщина также села за стол напротив своего гостя, но не ела, а наблюдала за ним. И когда Александр было набирался решимости, чтобы взглянуть на нее, он всегда сталкивался с ее взглядом, в котором была ласка и любование.
— Меня зовут Анной.
Он был уже сыт, и слегка хмелен от этого. И мог смотреть на нее, не пряча глаз. Он нашел еще одно определение красоты этой женщины: она была стержнем всего того, что было вокруг них: хаты, убранства, цветения сада, солнечного нового дня, весны… Если бы не было Анны, вполне могло оказаться так, что была бы скупая на краски, черно-белая и холодная зима.
— Меня — Александром, — ответил он. — Вот только не знаю, благодарить вас или нет… Я не знаю, как и почему я оказался здесь.
Анна как-то излишне скрупулезно стала стирать ладонью крошки со стола. Было видно, что она серьезно над чем-то размышляет.
— Вы мой гость, — неуверенно, не смотря на него, произнесла она.
— По тому, как я попал сюда, можно сказать, что я пленник, а не гость… От приглашения у меня на теле остались такие синяки, что повернуться, поверьте, совсем не просто.
— Вас это сильно беспокоит? — обеспокоилась она.
— Можно терпеть.
Она протянула руку и коснулась его руки, лежащей на столе. Касание было полно ласки настолько, что хотелось продлить это мгновение на века, но Александр руку убрал.
— Почему я нахожусь здесь? — Он решил быть более конкретным.
— Вы не пленник, и в любой момент можете выйти отсюда, но прошу вас не торопиться использовать такую возможность. — Она продолжала собирать со стола крошки хлеба.
— Вы уговариваете меня остаться? Ради чего?
Анна встала и прошла к раскрытому окну, протянула руку с крошками, и в следующее мгновение помещение заполнил звонкий и густой птичий гам. Воробьи, синички, и еще какие-то мелкие птицы налетели на корм и клевали его прямо с руки женщины. Она при этом счастливо улыбалась, пальцами другой руки осторожно поглаживала маленькие птичьи головки. Саша сидел, открыв рот от удивления. Ему приходилось кормить белок и птиц с рук в городских парках, но как он ни старался, но добиться полного расположения от животных и пернатых не мог. Любая его попытка коснуться их была напрасной — птицы улетали, а белки проворно заскакивали на ближайший ствол дерева.
Анна повернула лицо к Александру и тихо, шепотом произнесла:
— Подумайте о своей мечте более ярко. Попробуйте!
Он не понял, о чём она говорила. Анна, видя его растерянность, пояснила.
— Вы только что мечтали о чем-то, Саша. Точно мечтали. Захотите эту мечту так, как никогда не желали. Сделайте ее главной в этот момент!
Он еще больше растерялся: о чем он мечтал? Кажется, совсем ни о чем, скорее совсем наоборот, завидовал любви птиц к этой женщине… И тут догадка озарила его: а не может ли быть зависть той же самой мечтой?
И сразу же оказался в середине галдящего птичьего вихря, который влетел из другого окна. Птицы рассаживались на плечах, руках, голове Александра, а он смеялся от счастья и радости, отламывая от каравая крошки и кормя птиц. Он гладил их, брал в кулак, целовал в клювики.
— Как это возможно? — восклицал он и продолжал смеяться. К его смеху пристраивался женский, звонкий и такой же счастливый. — Это невероятно!
Вдруг все птицы разом вылетели в окна. Анна прошла и села на свое место за столом.
— Вы видели их? — спросила она.
— Еще бы! — воскликнул он, медленно остывая от той неожиданной детской радости, которая охватила его. — Но к чему это всё? Это ведь не ответ на мой вопрос. И кто ты?
Он перестал смеяться и внимательно всмотрелся в женщину. Она не отвела своего взгляда, а прожгла им, бездонным, мудрым, насквозь, до неприятного холодка в груди, до замирания сердца.
— Я ведьма, Саша…
— Ты?!
— Ты готов все увидеть, а увиденное понять?
— Ты ведьма?! — Он словно не слышал ее вопроса. — Что за бред?
Она поднялась со своего места, и ее лицо наполнилось таким выразительным гневом, что Александр, было уже засмеявшийся, осекся на половине первого звука. Мгновением позже у него от изумления отвисла челюсть…
Кувшин с молоком легко поднялся в воздух над столом, покачался и перевернулся вниз горлом, но молоко при этом не вылилось!.. Потом он так же спокойно вернулся на место.
Представление продлилось достаточно долго, чтобы была возможность увериться, что это не фокус, а что-то настоящее, действительное…
Саша зажмурил глаза. Потом открыл, проверяя, не кончился ли это кошмарный сон.
— Ты не спишь, — уверила его Анна, и спросила с каким-то затаенным злорадством: — Не хочешь ли увидеть того, кто похитил тебя вчера ночью? Не боишься?
— Чего мне бояться? — неуверенно ответил он, чувствуя неприятную сухость во рту. — Можешь пригласить и ту, которая выманила меня…
— Как скажешь, — перебила его женщина, и позвала, повернувшись к входным дверям: — Виорика! Иди сюда!.. И приведи с собой злого, пожалуйста…
Хотя все было произнесено с вежливой интонацией, но уважения было излишне много, отчего фраза прозвучала как повеление, которому невозможно было не подчиниться.
Послышались шаги в сенях, шорох. Они приближались. И Александр почувствовал возвращение того неясного, ужаса, который он испытал ночью, когда увидел, как Виорика выходит из ночной темени навстречу лунному свету.
Они вошли вместе.
— Да, мама…
— Да, хозяйка…
Он был высоким и красивым мужчиной. Так считали женщины, с которыми он встречался. Но о своей внешности он думал совершенно иначе. Да, рост его был великолепным — почти два метра. Он мог гордиться этим. Но, в общем, его, нельзя было назвать красавцем: плешивость — на макушке, среди светлых, почти соломенных волос, вдруг открывался участок, слегка заросший едва заметным пушком… Что здесь могло быть красивого? И черты лица были весьма заурядными, даже совсем некрасивыми: крупный нос, постоянно выпяченные и влажные, слюнявые губы, выпирающие скулы, покатый высокий лоб. Может быть немного глаза, того самого цвета, который обычно пресно называют зелеными, а у него они были изумрудными, и постоянно светились, но не как драгоценный камень, а тайным огнем лютой злобы. В них пылала неуемная жажда власти. Скорее всего, женщины и называли его красивым из-за этих особенных глаз, из-за этого самого свечения. Опасно было для них говорить обратное, правду.
Неханко было от роду тридцать шесть лет, и он прожил нелегкую жизнь. Из этого значительного для человеческой жизни числа лет почти десять забрал закон, заставляя Григория Валентиновича пробивать вязкую вечность минут на нарах камер предварительного заключения, затем тюрем и зон. Трижды был судим за разбойное нападение. Отсидел полностью два срока, а по последнему приговору суда был через три года освобожден по амнистии. Он хорошо помнил свое состояние в тот момент, когда на день Конституции ему объявляли УДО в "кумовской конторе[28]". Если бы закон имел более определенное лицо, а не те вялые, усталые от однообразия работы лица судей, прокуроров, адвокатов и кумовьёв[29], то он бы рассмеялся в это лицо и оплевал его: какая изощренная в своей простоте глупость — давать отпетому рецидивисту милость свободы! Ха!.. Ведь он уже не мыслил жизни без воровских законов (которым, впрочем, следовал только в тех случаях, когда это было выгодно), без разбоя. С детства он привык брать то, что хотел. Его родители были людьми с хорошим достатком, которые хотели и умели работать, но не научили своих детей видеть в труде главный рычаг к достатку (младший брат Григория также стал вором, но был убит в тюремной драке несколько лет назад). Работать для Неханко — означало попусту тратить время, что было просто невозможно, по его мнению, когда хорошо понимаешь, что молодость никогда не вернется, и самые лучшие впечатления и радость жизни может дать только она. Зачем трудиться, творить, если можно просто пойти и взять, и пользоваться, а когда надоест — взять новое или несколько, столько, сколько надо! Проще и эффективнее! А если не отдают, сопротивляются — можно убить, покалечить и не испытывать по этому поводу никаких угрызений совести. Здесь была своя оправдывающая философия: зачем ему жить, когда у него уже все было… теперь жить буду я. Убивал Неханко, но никому не удалось доказать эту кровь, и почувствовал, остро осознал Григорий, что в этом мире такому как он можно жить, и жить красиво.
Зону, не Чернобыльскую, он любил и уважал. Когда сел первый раз, было горькое ощущение несправедливости судьбы к нему. В чем он виноват, если брал, что хотел?! И тюрьма быстро укрепила его в этой мысли, дополнила важным весом: виноват в том, что попался. Понял и сразу успокоился. Своим бесстрашием, с которым он встречал все невзгоды и испытания неволи, он заслужил уважение у авторитетов преступного мира, хотя особо не ценил их, понимая, что они такие же, как и он, люди, и в любой момент могут подохнуть от пера[30] под лопаткой, и этим самым бесстрашием, отчаянным безрассудством, которое сами преступники назвали более точно и объемно "беспределом", Григорий получил прозвище "Бузун". Новое имя очень ценил, как прошедшие войну ветераны ценят ордена.
В Зоне, вольным, оказался из-за своей любви. Крепко влюбился, как никогда в своей жизни. Красивой и ладной была та женщина, на которую были направлены его чувства, и молодой — на пятнадцать лет младше Бузуна. И строптивой… Последнее портило все. Он привык, что ему может принадлежать все, на что упадет его взгляд. Но в этом случае что-то не получалось. Девушка его не любила. Он это видел, но не мог своим эгоистическим сознанием представить это, как возможное. Не привлекали ее ни те вещи, которыми он старался завоевать ее сердце — отталкивала их, и его с ними, невыносимо больно раня его изнеженное вседозволенностью самолюбие. Не выдержал. Решил наказать. Организовал групповое изнасилование, но сам не участвовал. Она же после всего закончила жизнь самоубийством. И вновь этот "гнилой" безликий закон стал дышать ему в спину. Скрываясь от розыска, от правосудия подался в Зону. Еще в тюрьме он слышал, что существует в Украине некий анклав[31], в котором вольготно живет любой преступник, живет годами, и хорошо, сам себе хозяин. Правдами и неправдами пробрался сюда, и не только освоился в здешнем жестоком мире, но и стал преуспевать: сколотил вокруг себя различный сброд и делал вылазки за Зону, в основном на дороги, где захватывал и угонял грузовые автомобили, предпочитая контейнеровозы с заграничными номерами. Удалось также приобрести верных друзей, сбытовиков краденого, и — особая удача! — расположение сильных мира сего. Среди последних было много людей, фамилии которых имели определенный вес и в правительстве, и Верховном Совете. Такая дружба была ценна тем, что защищала Бузуна и его людей от притязаний закона. Эти люди, если реально оценивать ситуацию, были авторами и отцами преступной чернобыльской вольницы. Правда, это расположение стоило вольным недешево: например, только в этом месяце "оброк вольности" составил для Бузуна два миллиона долларов, но Бузун не был бы Бузуном, если бы не умел скрывать хорошие куски добычи от рук и глаз своих покровителей.
Жизнь была бы здесь прекрасной полностью, если бы месяц назад в Зоне не стали происходить события, заставившие многих вольных добровольно покинуть эти края и сдаться в руки закона. Для них тюрьма и лагеря стали теперь более безопасными.
Междоусобные войны между бандами вольных в Зоне были делом обыкновенным. Менее удачливые старались захватить краденое добро у более удачливых. Самым же везучим был в Чернобыле именно Бузун со своими тремястами отчаянными головорезами, которых называли здесь не иначе, как "черным казачеством атамана Бузуна". Лихой смысл был в этом имени, но еще более лихими были сами "казаки", не говоря о самом "атамане". Неханко смог подчинить себе, своему контролю хороший кусок территории Зоны, но были еще "атаманы" — не менее влиятельные и могущественные своим вооружением, снаряжением и "зазонными" связями. А, как известно, преступный мир особо славен своими схватками за раздел сфер и территорий влияний. Кровавыми были эти стычки, но Бузуну удавалось либо удачно выигрывать сражения, либо доблестно отражать атаки. Меньше всего досаждали милицейские патрули. Об этом позаботились "отцы" Зоны. Недостаток финансирования привел к тому, что милиционеров было недостаточно, и они были плохо оснащены, и те неприятности, которые они могли доставить таким как Бузун, можно было сравнить с укусом блохи. Эти неприятности были терпимыми и разрешимыми. Вольных же из Зоны гнало другое, против чего не могла выступить ни человеческая сила, ни его власть, ни его оружие.
Бузун для своей банды облюбовал поселок Перчаны, находящийся в семнадцати километрах от заброшенного города Припять. Это расположение рядом с мертвым городом было выгодно в первую очередь тем, что позволяло более надежно прятать награбленное добро, а в случае нападения милицейских отрядов растворяться среди заброшенных зданий, а при острой необходимости уйти за реку, в глухие леса, чтобы кануть там, и вести партизанскую войну против обидчиков. Атаман предусмотрел, кажется, все варианты на все случаи.
До последнего месяца единственной неприятностью в Зоне была нехватка женщин. Их время от времени привозили из внешнего мира — похищали прямо на улицах. Но сколько времени могли выдержать десятка два женщин, удовлетворяя своими телами банду численностью свыше трех сотен человек. И закономерно было то, что их растерзанные изуверским насилием трупы топили в водах реки Припять. Были, конечно, в банде и "законные" бабы, но их было ничтожно мало на всех, и кроме того, существовало правило, нарушение которого каралось весьма жестоко: с "законными" вольными женщинами сходиться только при обоюдном согласии. Этот закон все почитали ревностно. Но день назад рядом с Перчанами появился еще один поселок, на два десятка чистеньких и красивых, ухоженных, как с рождественских открыток, хаток с садами, огородами, хаток, в которых поселились приветливые бабенки. Как-то сразу и нашлось определение новому поселку: "чистый". И зачастили туда "казачки"… Сам же Бузун, как бы не было велико искушение — женщины были красивы необыкновенно, — не шел в новый хутор в поисках любовных утех, хотя с большой радостью променял бы свою, уже надоевшую постоянными требованиями "законную" суку, на дородную красавицу, которыми был полон чистый хутор.
Был утренний час, когда за Бузуном пришли старшие помощники. У всех был странный вид. Пока Григорий одевался в хате (а "законная" сука спала голяком на кровати, нисколько не стесняясь того, что в доме находятся посторонние мужчины — таковы были они все, пресыщенные мужской любовью), они стояли на пороге, топча грязными ногами дорогой, из вчерашнего "завоза", ковер, виновато опустив головы, чтобы прятать страх и растерянность в глазах.
— Мы их предупреждали, Бузун, — бубнил один, сжимая в руках автомат. — Но они не слушали нас и пошли…
Натягивая джинсы, Григорий выматерился, нашарил в карманах сигареты и зажигалку, закурил.
— Двенадцать братков, — прошептал он с тем тихим возмущением, с которым говорят люди, пораженные нехорошими новостями. — В среднем около десятка в день. У нас осталось не больше полутора сотен… Черт! Черт! Черт! Через две недели от нас не останется ничего. Уже сегодня любой болван может брать нас голыми руками. Заметут одними вениками!
Он уже кричал, распаляясь:
— А вы на что! Бакланы!.. Пидары!!! Вам бы только на тюремном насесте петухами кудахтать!..
Бузун резко бросил окурок и втоптал его босой ногой в ворс ковра.
— Что будем делать? — спросил он спокойно, хотя никогда не прислушивался ни к чьим советам. Он медленно обвел глазами стоящую тройку людей, пронизывая их своим отчаянием. Бузун действительно не знал, что делать. Надеяться на совет тех, кого выучил, как говорят, кнутом и каленым железом, не думать, а только в точности исполнять все его распоряжения? Он не верил в интуицию, или, тем более, в какое-нибудь дополнительное чувство, но с того самого момента, как появился этот чистенький хутор, понимал, что основная опасность исходит оттуда. Вначале это была просто угроза. Из своего лихого жизненного опыта, атаман знал, что действительно сильные люди живут спокойно: им нет нужды демонстрировать свою силу ("рисоваться" или "понтоваться", как это делают фраера[32] или придурки[33]), они ее просто используют, когда для этого наступает крайняя нужда. Вот и бабенки хуторка жили спокойно и приветливо, словно не замечая рядом с собою орды бешеных и вооруженных до зубов бандитов. Уже только в этом спокойствии и бесстрашии была угроза, но, кажется, ее никто не чувствовал кроме него. Но бандиты — это не солдаты, а банда — не батальон или полк, не армия, где при желании можно запретить подчиненным все. Атаман не мог требовать от своих разбойников не заниматься разбоем и насилием. Они бы его сразу свергли, убили.
Бузун встал, накинул на плечи длинное кожаное пальто, застегнул на поясе ремень с двумя тяжелыми пистолетами, взял в руки автомат и широким шагом вышел из хаты, сразу направляясь по дороге в край села. Подчиненные мелкими из-за неуверенности шагами поспешили за ним, но не нагоняли и не обгоняли, опасаясь попасться на глаза атаману, который был особо лют в минуты раздражения.
Неханко шел, высоко подняв голову, как ходят люди уверенные в своих силах. Он едва заметными кивками отвечал на приветствия знакомых и приближенных, и постоянно косился в сторону чистого хутора, который находился всего в каких-то ста метрах от Перчан. Так близко, что было видно, как на огороде первого двора, стройная молодуха занимается прополкой грядок. Атаман видел, как она выпрямилась, оперлась о сапу, приложила ладонь ребром ко лбу, закрывая глаза от солнечного света, наверняка, чтобы внимательней всмотреться в идущего по дороге человека, и совершенно неожиданно замахала, как бы приглашая, рукой. Григорий зло сплюнул и выматерился, и дальше шёл, осматривая только свой хутор.
Хутор Перчаны прорезала загаженная вылитыми помоями и фекалиями дорога, мертвая от отсутствия даже мало-мальского клочка травы. По обочинам, кренясь, почти разваливаясь, тянулись ряды давно небеленых и от этого серых или рыжих хат. Во многих домах не было стекол в окнах, и они были затянуты мутной полиэтиленовой пленкой, через которую невозможно было ничего рассмотреть, кроме дня и ночи. Всё выглядело серо и пустынно из-за того, что на растопку печей зимой были вырублены все деревья во дворах и за дворами в селе, выкорчеваны кусты, разобраны сараи и заборы. Не было ни травы, ни цветов, несмотря на буйство поздней весны — все вытаптывалось ногами сотен людей и раздавливалось колесами машин. Кроме ворон, никакая живность не подавала голоса жизни в этом поселке, только ночами на ребрах жердей полуразваленных крыш заводили свою заупокойную песню сычи. В Перчанах была церковь, деревянное строение, от которого остался практически один остов — спасаясь от лютых крещенских морозов в январе, бандиты разбирали на топливо и ее, ленясь брать пилы и топоры, чтобы идти за дровами в лес — далеко и лень ("примета плохая — лесоповал на воле, что же будет в зоне?"). Не добрались только до куполов, которые торчали в небо покосившимися ржавыми крестами. То тут, то там прямо на земле, в грязи и помоях, можно было увидеть распластанные тела "казачков" — верная примета, что вчера был удачный "завоз" (взяли два грузовика: с мебелью и спиртными напитками). И все это вместе имело такой несчастный и убогий вид, что даже в ясную и солнечную погоду хутор выглядел серым, пасмурным. Насколько знал сам Бузун, дела в подобных хутору Перчаны населенных пунктах Чернобыльской зоны обстояли подобным же образом. Никто из вольных нисколько не заботился о благоустройстве своего жилища, хотя некоторые жили здесь уже по три-четыре года. Возможно причина была в том, что вор, привыкший паразитировать, не имел чувства собственности. Алчность — острое чувство, но оно не имеет ничего общего с собственностью, жадность — постоянное стремление к насыщению, беспрестанное утоление голода наживы, против же нее чувство собственности — это прежде всего забота, возможная только в том случае, если человек приобрел собственность за вознаграждения, полученные за свой труд. Человек, не умеющий заботиться о своих обретениях, в итоге ничего не будет иметь. Не поэтому ли говорят: "Как пришло, так и ушло"? И не поэтому ли большинство воров не имеют ничего, хотя постоянно грабят?
В конце села было особое место, где судили по своим законам воров. Небольшая круглая площадка с вкопанным в центре бетонным столбом, оборудованным под виселицу. Сейчас на одной из перекладин виселицы висели посиневшие и уже распухшие зловонные трупы. Два вора были повешены по личному распоряжению Бузуна за то, что во время последней вылазки за Зону пытались уйти. В воровском мире отступничество карается особо строго: "Если принял воровской закон — тяни его до конца, который только смерть завяжет[34]". Это было лобное место. Кроме воров, провинившихся перед своими товарищами, смерть свою здесь встречали и попавшие в плен милиционеры из разведочных дозоров, водители угнанных грузовиков, фраера…
Возле столба стояло около двух десятков вооруженных человек. Они плотно сгрудились над чем-то, лежащим на земле. Когда подошел Бузун, все молча расступились, и он увидел два трупа. Одно тело было обнаженным и белым до невозможности. Никаких видимых повреждений, причинивших смерть, на теле не было, кроме двух небольших дырочек на шее, как раз на том месте, где проходит под кожей сонная артерия. Григорий склонился над трупом, отвернул мертвому голову в сторону, чтобы внимательнее рассмотреть ранки. За последний месяц он видел десятки подобных тел, поэтому в этот раз не испытывал никаких волнений. Атамана поражала только предельная, до прозрачности, бледность трупа, который в грязи выглядел, как разлитый известковый раствор — настолько был силен контраст. Второе тело представляло собой горку обглоданных конечностей и костей. Какое-то неизвестное и жестокое чудовище убило человека и жрало его вместе с одеждой. Останки несчастного лежали на грязном и окровавленном куске автомобильного брезента. Подобное в Зоне встречалось гораздо чаще, чем первое. Растерзанных находили по утрам десятками.
— Это все? — словно сомневаясь, спросил Григорий, продолжая смотреть на трупы.
После продолжительной паузы из толпы раздался низкий, словно угнетенный страшным несчастьем, голос:
— Да, Бузун. После сегодняшней ночи мы нашли только этих двух.
Атаман обернулся к помощникам, которые стояли позади него, нерешительно переминаясь с ноги на ногу.
— Сколько ушло вчера на "чистый" хутор?
— Двенадцать, — ответили ему.
— А нашли только двоих?
— Да.
Бузун резко развернулся и пошел назад, прикуривая на ходу. Когда его окликнули, он остановился, но не обернулся, а стоял и ждал, пока подойдут.
Подошел один из его помощников, один из тех, которые разбудили его сегодня.
— Атаман…
— Борода! — рявкнул Бузун, обращаясь к подошедшему. — Какой я тебе атаман? Что за дурная привычка! — Он повозмущался некоторое время, давая отток желчи, которой накопилось довольно много там, возле виселицы, пока рассматривал трупы, но потом уже спокойно спросил: — Чего тебе?
Тот, которого звали Бородой, был молод настолько, что не имел на лице достаточной растительности, чтобы оправдывать свое прозвище. С Бузуном был знаком давно, еще с его второй ходки. В тюрьме и познакомились. Вместе же и оказались в Зоне.
Борода легко перекинул автомат из руки в руку.
— Мы вчера на Дибровы ездили с кодлом[35]…
— Так и что? — проявлял нетерпение Бузун, которому хотелось как можно быстрее попасть в свою хату, выпить полбутылки краденого бренди и завалиться в постель к своей суке — надеялся, что хотя бы таким образом удастся на время забыть о проблемах, которых жизнь городила частоколы.
— На дороге надыбали[36] милицейский патруль…
— Порешили[37]?..
— Одного. Больно вредный попался. А второй стал о вещах крутых бакланить[38], чтобы мы, мол, его пощадили.
— О чем нёс[39] этот мент поганый?
— Не знаю. Я, правда, толком ничего не понял, но решил не кончать его, хотя канючил он нехило, достал… Сюда его приволокли, чтобы ты его послушал.
— Где он? — резко спросил Бузун, поглаживая автомат. Он понял, что лучшей возможности восстановить настроение, чем застрелить мента, у него сегодня не будет
Борода указал на одну из хат.
— Там, где и должен быть — в яме[40].
— Идем.
Пошли.
— Ещё надыбали на автобус с пассажирами. — Продолжал рассказывать о вчерашних приключениях Борода, шагая за своим предводителем.
— Выставили[41]?
— Нет, не сразу. Мы их пасли[42] до Припяти. Они заныкались[43] в детском садике. Мы ждали пока они массу придавят конкретно[44], а потом навалились[45]…
— Ну? — отрешенно слушал его Бузун.
— Когда они в сарае катили[46], мы думали, что они фраера, но когда свалка[47] началась, они половину моих пацанов сделали[48].
Тут Бузун остановился, и, резко развернувшись, уставился тяжелым взглядом в помощника, который от этого предупредительно отступил на пару шагов. У него не было никакого желания упасть с проломленным черепом от удара прикладом автомата. Подобное с Бузуном происходило довольно часто, чтобы относиться к нему серьезно. Можно было, конечно, ничего не сообщать главарю, но Борода знал, как Бузун обходился с теми, кто скрывал что-то важное от него. В этом случае светила участь сгнить в веревочной петле на уже знакомом столбе. Был еще один вариант, самый благорассудный: дождаться момента, когда у атамана будет более хорошее настроение, и тогда рассказать всё, но Борода не имел на этот вариант времени — узнанные новости торопили.
— Решил грехи передо мной замолить, падла? — взревел Бузун, делая шаг к Бороде.
— Не реви, дурак! — от страха тоже повысил голос Борода. — Я тебе дело толкую!.. Мы думали, что это фраера, но у них с пушками было всё грамотно. Они ушли от нас, но мы одного из них взяли.
Он говорил быстро, чтобы загрузить разъяренное сознание главаря информацией, отвлечь от кровавого замысла.
— Что — бакланит? — Остановился Бузун.
— Ничего пока. Я шел к тебе на хазу, заходил в яму — он был еще без сознания. Идем, может он уже оклемался[49]. — Он по-дружески взял под локоть атамана, и они продолжили свой путь. — Во время свалки они свой автобус рванули. Такой фейерверк был!
— Куда они посунули[50]?
Борода передернул плечами.
— Они нам крепко всыпали. Мы не решились им еще раз на хвост падать. Но, кажется, дернули в Чернобыль, по реке. У них все было готово — играли уже готовую песенку…
— У нас под рылом? — удивился Бузун. — Говоришь, в городе?
— Натурально!
В сознание он пришел мгновенно и сразу застонал от сильной головной боли. Она пронизывала длинным стержнем мозг и влажно копошилась на затылке, в том самом месте, куда пришелся удар. Ныло всё тело, но не от боли, а от холода — Гелик, разминая затекшие от долгой неподвижности руки, ощупал твердь под собой и понял, что лежит на земле. Было темно. Дмитрий Степанович несколько раз крепко зажмурил глаза и открыл их, но так ничего и не увидел, кроме прежней вязкой темноты. От этих незначительных упражнений стержень боли в голове стал как будто толще, и до монотонного звона в ушах распирал мозг изнутри. По щекам Лекаря потекли слезы. Он не хотел плакать, но то, что он стал слепым, вывело его из привычного, приобретенного за десятилетие в психушке, терпения. Когда-то от кого-то он слышал, что человек может мгновенно ослепнуть от удара по голове, тем более, если удар пришелся по затылку.
Он слабо всхлипнул в своей темноте. И сразу услышал возню, очень похожую на то, как бы если бы кто-то полз, шурша одеждой по земле. А когда его коснулись, обшаривая, чьи-то руки, ледяные, как и все в этой глубинной темени, он вздрогнул. И сразу раздался чей-то возбужденный шепот:
— Отец Николай, он пришел в себя…
Лекарь, у которого со слепотой обострился слух, услышал, как в темноте завозился еще один человек. Шелестя одеждой, тот приблизил своё лицо к лицу Гелика — Дмитрий Степанович почувствовал прикосновение волос на своей коже и тепло человеческого дыхания. Тот, кого звали отцом Николаем, застыл, явно прислушиваясь к дыханию Гелика.
— Да, вы правы, отец Феодосий — он пришел в себя. Дыхание у бедняги хоть и поверхностное, но ровное. Он, наверняка, крепко спит. Надо бы его отнести в тот угол, где есть немного соломы, иначе — заболеет пневмонией. Это как пить дать!..
Голос второго "отца" звучал глубоко и уверенно, как у человека, который досконально знает исследуемую проблему, в этом — случае лежащего на земле Гелика. Так говорят врачи у койки больного на обходе.
— Хорошо бы было, если бы он не спал, — с сожалением произнес Феодосий. — Его надо осмотреть — узнать причину его столь долгого беспамятства. Прошлый осмотр ничего не дал. Кости у него целы, но если его избивали эти изуверы, дело могло закончиться повреждением внутренних органов.
Он приложил ухо к груди Гелика.
— Сердце работает превосходно, — заключил он после прослушивания. — Просто удивительный факт! У него великолепное здоровье… Но все-таки надо бы его перетянуть в тот угол, на солому. Вы мне не поможете, уважаемый отец Николай? Я не справлюсь одной рукой.
— Сильно беспокоит?
— Как всякий перелом, — бесцветным тоном, словно разговор шел не о его страдании, ответил Феодосий. — Так вы мне поможете?
— Непременно! — живо с готовностью ответил Николай.
У отца Николая голос был молод, звонок, правда, последнее, как определил Гелик, было следствием принудительной бодрости — человек находился в тяжелом положении, но не позволял себе падать духом. Насколько была успешной эта борьба — трудно было сказать, но хотя бы внешне этот человек держался отменно.
— Почему так темно?
Вопрос Гелика прозвучал в темноте, как гром. Все звуки разом погасли. Не было слышно даже слабого, тайного дыхания. Стало понятно, что он ошеломил своих соседей.
— Я не хотел вас пугать, — извинился он.
— Пресвятая Дева Мария! — воскликнул тот, кого звали Феодосием. — Ведь вы нас действительно напугали. До смерти, уважаемый!.. А темно, — он сделал короткую паузу, — потому, что темно. Мы в подвале, а наши мучители не очень-то заботятся о том, чтобы дать отраду нашим глазам.
— Просто нет света? — радостно воскликнул Дмитрий Степанович.
Феодосий вяло хмыкнул:
— Вы, наверняка, счастливый человек, если радуетесь этому…
— Я?! — изумился Лекарь. — Я радуюсь тому, что не слеп!..
Он бы рассмеялся, если бы не боль в голове, которая стала гудеть набатом, с того самого момента, когда он начал говорить.
Он поднялся, хотел встать на ноги, но тут же ударился головой… о низкий потолок. Удар был не сильным, но и его оказалось достаточным, чтобы Гелик вскрикнул и громко застонал. Он едва не упал, но заставил себя удержаться на четвереньках — здесь, в темноте, можно было стоять только таким образом.
Отцы сразу бросились к нему.
— Простите нас. Из-за этой темноты столько неудобств. Мы не видели, и не могли даже предположить, что вы собираетесь вставать. Предупредили бы вас. Вы не сильно ушиблись?
Они взяли его под руки и так, на четвереньках, повели куда-то.
— Еще совсем немного, уважаемый, — приговаривал молодой отец. — Вот сюда, сюда, правей… Прошу осторожнее — здесь ямочка. Наверняка, прежний пленник искал путь на свободу.
Действительно, через несколько метров, которые пришлось преодолеть на четвереньках, лежало совсем немного сырой соломы. От нее сильно пахло прелостью. Но все равно на ней было сидеть и лежать гораздо теплее, чем на голой земле, еще не прогревшейся с зимы.
Лекарь сразу лег, так как удар и движения, необходимые для преодоления этого короткого расстояния, обессилили его почти полностью.
Отец Феодосий сразу взялся за осмотр. Делал он это, как опытный врач.
— Не думаю, что у вас что-то серьезное, — наконец заключил он. — На затылке наблюдается довольно большой отек от ушиба. Вас, уважаемый незнакомец, просто оглушили. Не тошнит?
— Нет, — сказал Гелик. — Слегка кружится голова и очень сильная слабость.
— Не беспокойтесь, — успокоил его Феодосий. — Сотрясения мозга у вас, по всей видимости, нет. Эти симптомы пройдут в ближайшие два-три часа. Наберитесь терпения. Это единственное, что мы можем противопоставить нашему положению.
— Где-то я уже это слышал, — проговорил Дмитрий Степанович, и нараспев, по-церковному, продолжил: — "Смирение", "терпение"… Хорошие слова, но они не для жизни… Вы, господа, случайно, не являетесь священнослужителями? Я спрашиваю потому, что слышал, как вы обращались друг к другу "отец".
— Вы полностью правы, — ответил отец Феодосий и представился: — Отец Феодосий, к вашим услугам. А это отец Николай. Будем рады быть полезными вам.
— Спасибо, — ответил Гелик, соблюдая этикет и назвался в свою очередь. — Сколько времени вы находитесь в этой яме?
— Вы говорите так, словно принадлежите к этой своре отступников, — с предубеждением в голосе произнес отец Николай.
— Принадлежал, — поправил его Дмитрий Степанович. — Десять лет, господа. Десять лет. За это время я полностью изучил смысл слов "смирение" и "терпение", прочувствовал их собственной шкурой.
— В вас говорит обида, а от обиды до мести — меньше шага…
— Знаю, знаю, — поспешил перебить его Лекарь. — "И Аз воздам". Но прошу вас больше не говорить на подобные темы.
— Как пожелаете, — с готовностью ответил священник. — Но мне думается, что вы все-таки не совсем поняли смысл этих великих слов, которые выражают собой не только набор звуков, но несут в себе смысл великого подвига…
— Вот как!
— И не сомневайтесь, уважаемый Дмитрий Степанович.
— Вы меня заинтриговали.
— Рад, что смог развлечь.
Гелик не выдержал и рассмеялся:
— У вас превосходное чувство юмора, отец.
— Благодарен за комплимент. Но то, что смирение и терпение являются подвигом — это есть факт. Когда мы вас с отцом Феодосием вели на это замечательное ложе, помните, что мы вас предупредили о ямке, которую, в надежде сделать подкоп, рыл голыми руками какой-то несчастный? Она-то и является доказательством подвига через смирение и терпение…
— Занимательный поворот.
— Если бы он не смирился, занимался бы он подкопом? Думаю, что он бы просто сидел и надеялся на милость этих головорезов. А его кротость — не что иное, как средство трезво оценить собственное положение, понимание того, что никакой милости ждать не следует, и надо действовать, рассчитывать на свои силы. А рыть подкоп голыми руками, ковырять землю, ломая ногти, раздирая кожу об острые камни — это уже терпение…
Они разговорились. Беседа позволяла Дмитрию Степановичу на некоторое время забыть о собственных невзгодах. Давно замечено, что люди образованные, одаренные или эрудированные, и обязательно сильные духом, хотя и с трудом, с серьезными душевными муками (физические вообще не принимаются во внимание, так как они обязательны для всех невольников) встречающие несвободу, тем не менее медленно, но прочно вживаются в её ограниченный быт и мир, и живут полной жизнью, зачастую занимаясь самообразованием. В истории человечества подобных примеров более чем достаточно: необыкновенные люди почти постоянно становились первыми жертвами различных социальных или политических катаклизмов. Достаточно полистать страницы произведений Александра Солженицына, повествующие о временах Сталинских репрессий.
— Неволя — это мир собственного "я", — говорил отец Феодосий. — Вы знаете, уважаемый Дмитрий Степанович, в этой яме я понял, что наши мучители могут причинить нам страдания только в том случае, если мы хотим, чтобы над нами издевались.
— Вы говорите об эгоизме?
— Об ином и не думаю. Да, именно о нём, но о самом предельном, который позволяет заняться самосозерцанием. И эта темнота… Это тоже инструмент самопознания. При свете, перед зеркалом мы видим только собственную оболочку, а наши внутренние качества дают о себе знать неуверенным, неясным голосом чувств — языком очень слабым. Но неволя, время и темнота — они растворяют ее, она становится невидимой, неопределимой, выворачивая для нашего сознания душу наизнанку. В этом случае, хочешь ты этого или не хочешь, узнаешь себя всего полностью, со всеми лучиками душевного света, темными зонами и тенями.
— Увлекательное занятие.
— Более чем! И только теперь я понял тех схимников, отшельников, кто добровольно себя замуровывал в подземельях. Но они были не абсолютными эгоистами, почти преступниками…
— Перед кем?!
— Да перед нами же, людьми, перед нашим миром!.. Они познавали себя, совершенствовались, выявляя своим поступком настоящее мужество. Но разве они пришли в этот мир к нам, и стали нас учить тому, как быть чистыми и мудрыми? Нет. Они продолжали сидеть в своих норах, наслаждаясь собственной чистотой, а что творилось вокруг них — это их не касалось…
Отец Николай рассказал историю о том, как и почему они оказались в Чернобыльской зоне. Его повествование было наполнено изрядной мистикой. Гелик, видевший в своем недавнем прошлом факты, доказывающие существование метафизической стороны мира, слушал его, нисколько не сомневаясь в словах священника.
Оказалось, что отец Николай до своей бытности священником, был в Херсоне преподавателем филологии в университете, а отец Феодосий, что было, впрочем, понятно с самого начала, был заведующим ортопедическим отделением в одной из столичных клиник, и этому благородному делу хирурга посвятил почти пятнадцать лет своей жизни. О причине столь резкой перемены жизненного пути отцы решили не распространяться — причины могли быть весьма интимными. Ведь мало кто знает, почему те или иные люди становятся монахами, отрекаются от довольства мирской жизни? Но можно точно и определенно сказать, что в большинстве случаев это происходит вследствие тяжелых жизненных потрясений, реже — разочарований, еще реже — действительно по призванию, велению души… Главным остается тот факт, что они этот путь выбрали.
Настоящие же священники выбирали свою дорогу дважды. Однажды став богослужителями, и получив под свое начало солидный приход в городских церквях, они решили, что следует служить там, где божье слово будет более полезным, необходимым. Они знали о Чернобыльской преступной вольнице, и перебрались в эти дикие края, чтобы "возвращать отступников на путь истинный".
— Но это же полное безрассудство! — возмущался Дмитрий Степанович.
— Совсем наоборот, — спокойно возражал отец Николай. — Они те же самые люди, которые совершили когда-то ошибки, и их тяжесть ожесточила их. И все из-за того, что их некому простить. Мы пришли им доказать обратное. Не стоит думать, что наше дело было совершенно безрезультатным. Конечно, обращенных были жалкие единицы, но и они доказали нам, показали, что с остальными мы были недостаточно убедительными. Здесь следует говорить не об их греховности, невозможности вернуться к нормальной жизни, а о нашей несостоятельности, неспособности понять их души, предубеждении — грехи некоторых настолько тяжелы, что даже слово "прощение" в их присутствии произнести — все равно, что богохульствовать…
— Вы сумасшедшие упрямцы, господа, — печально покачал головой Гелик. — Я не священник, и никогда им не буду, так как считаю, что у каждого человека есть бог в душе. У кого-то он сильный, громогласный, а у кого-то… сами понимаете. Все мы разные. Разве можно дальтоника заставить видеть красный цвет не голубым, а именно таким, какой он есть на самом деле? Нет, это невозможно. Разве только заставить его этот голубой называть красным. Их невозможно научить жить правильно, так как они самой природой запрограммированы на неправильную жизнь. А обращенные вами, я даю голову на отсечение, остались прежними волками, но только в овечьих шкурах.
Отцы ничего не ответили ему, но в этом молчании было больше несогласия, чем в словах.
Они не могли точно вспомнить, сколько времени провели в плену с того самого момента, когда банда Бузуна ограбила и сожгла восстановленную отцами церковь в одном из хуторов Зоны. Когда Гелик назвал число месяца, которое должно было быть в этот день, как предполагал сам Дмитрий Степанович (он не был уверен, что его беспамятство продлилось только одну ночь), оказалось, что заключение церковников длится больше двух месяцев.
Их разговор прервали шаги людей, раздававшиеся над головами узников. Открылся люк, через который по глазам режущей болью ударил свет солнечного дня.
— Эй, фраера, — позвал чей-то хриплый и пьяный голос, — вылезай по одному! Живо!..
Бузун показался Гелику смертельно уставшим человеком. Серость покрывала лицо бандита словно толстой корой, делая черты неподвижными и застывшими.
— Ты кто, фраер? — пресным голосом спросил он.
Дмитрий Степанович рассказать собственный сценарий собственных приключений, понимая, что если будет узнана его причастность к милиции или госбезопасности, с ним долго церемониться не будут и сразу воткнут нож под лопатку. И оказалось, что он обыкновенный пассажир, оказавшийся заложником террористов, которые захватили рейсовый автобус.
Атаман слушал молча, с закрытыми глазами, облокотившись о резной, дорогой стол в своей хате. Казалось, он совершенно не слышит слов пленника. Спит.
Допрос вел не один предводитель банды. С ним был еще один бандит, которого все называли Бородой. Этот-то вообще не поверил рассказу Гелика, тем более тому, что старик — так называли Лекаря здесь, возвращался в Киев, домой, после отсидки…
— Бузун, — не выдержал Борода, вскакивая со своего места за столом, — этот дядя горбатого лепит! — И, уже обращаясь непосредственно к узнику, угрожающе шипя, произнес: — Почему же ты стрелял, гад? Ведь по своим палил, сволочь!..
— Не брыкайся, пацан! — огрызнулся Гелик. — Еще никто не обвинил Лекаря в его песнях[51]. Что мне оставалось делать? Мы с еще одним мужиком глушим охранника и собираемся делать ноги, когда в тумане в нас начинают палить. Как бы ты станцевал тогда, а?
Борода даже опешил после такого "равного" отпора, но потом злорадно улыбнулся:
— Если ты не песенник, может у тебя и ксива[52] есть об освобождении?..
Он застыл, надувшись от превосходства, но у него вскоре от удивления вытянулось лицо: допрашиваемый полез в карман и достал листок бумаги, бережно упакованный в полиэтиленовый пакет. Как бы хорошо не знал этот документ Борода, но не поленился самым тщательным образом изучить его. Насколько он смог определить, справка оказалась настоящей. Он протянул ее своему главарю, но тот даже не посмотрел в ее сторону, продолжая сидеть с закрытыми глазами.
— За что тебя закрыли? — медленно, лениво спросил он.
— За то, что едва не кончил человека, который потом стал министром МВД…
— Да ну! — воскликнул с недоверием Борода и рассмеялся. — Прямо так и самого министра? Бузун, а старик-то наш сказочник!..
— Закройся, — безлико бросил ему атаман, и задал Гелику новый вопрос: — Сколько отрубил?
— Червонец.
— Не нашего ли министра мочил?
— Его самого, Переверзнева.
— А до срока кем был?
— Инженером-атомщиком.
На мгновение, как показалось Лекарю, липкая тень на лице бандита как бы растворилась, и тонким зеленым огнем сверкнули глаза. Этот факт явно заинтересовал главаря, но он вскоре был так же безразлично сер, как и мгновением раньше. Только вяло уточнил:
— И крепко волочешь в этом деле?
— Было время, когда я два года работал на Чернобыльской АЭС.
Бузун пододвинул к себе стакан и налил его по края коньяком из богато украшенной бутылки. Он протянул стакан Лекарю и указал на стул за столом:
— Выпей пока, старик… Мы с тобой ещё потолкуем.
Гелик заметил, как нехорошо посмотрел на него Борода, которого такой резкий поворот явно не радовал. Бандит нехорошо прищурил глаза и медленно провел грязным пальцем по горлу, таким простым жестом пророча узнику незавидную участь. Гелик сделал вид, что этого не заметил, но решил вести себя с этим человеком предельно осторожно. Больница научила его относиться к угрозам серьезно. И еще он знал определенно, что отказываться от угощения воров нельзя, чтобы не накликать на себя беду. Они не любят, когда брезгуют их обществом и гостеприимством.