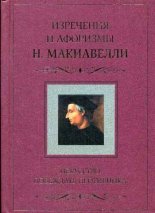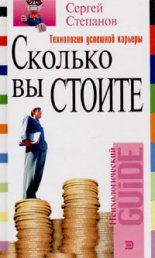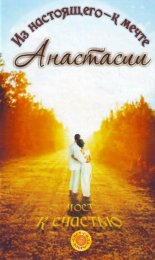Смерть героя Олдингтон Ричард
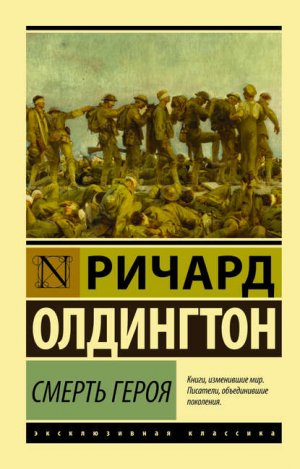
Ричард Олдингтон.
Смерть героя.
Смотрите, как мы развлекаемся! Но когда же и повеселиться, как не в молодости: ведь живешь только раз, да еще в Англии; и то и другое не пустяк, от любой из этих бед можно поседеть в одночасье; потому что, да будет вам известно, нет на свете другой страны, где было бы так много старых дураков и так мало молодых.
Гораций Уолпол[1]
Олкотту Гловеру[2]
Дорогой мой Ол! Памятуя о Джордже Муре[3], не терпевшем предисловий, все, что я хочу здесь сказать, я, пожалуй, лучше изложу в письме к тебе. Хоть ты и постарше меня, мы все же принадлежим к одному поколению — к тем, кто детство и отрочество свое, точно юный Самсон, провел в попытках разорвать путы викторианства[4] и чье возмужание совпало с мировой войной. Многое множество наших сверстников унесла безвременная смерть. Нам повезло — или, быть может, не повезло: мы уцелели.
Я начал эту книгу почти сразу же после перемирия, в крохотной бельгийской деревушке, где мы тогда квартировали. Помню, все вокруг утопало в снегу, а угля у нас почти не было. Потом началась демобилизация, немалого труда мне стоило вновь приспособиться к мирной жизни, и на этом книга моя погибла. Я забросил рукопись и больше уже не брался за нее. Попытка оказалась преждевременной. Но ровно десять лет спустя, чуть ли не день в день, я вновь почувствовал, что должен приняться за эту книгу. Я знаю, по многим причинам ты прочтешь ее с сочувствием. Но я не могу ждать той же снисходительности от других.
Эта книга — не создание романиста-профессионала. Она, видимо, вовсе и не роман. В романе, насколько я понимаю, некоторые условности формы и метода давно уже стали незыблемым законом и вызывают прямо-таки суеверное почтение. Здесь я ими совершенно пренебрег. Единственное мое оправдание: всякий волен писать, как ему заблагорассудится. Говорят, в этом романе я допускаю ошибки столь же чудовищные, как если бы ты в своих драмах ввел монологи и реплики «в сторону» или вдруг сам вышел бы на сцену и принял участие в спектакле. Ты знаешь, как я был бы рад, если бы ты это сделал: я — враг всяких правил, произвольно навязываемых искусству. Стандарт в искусстве мне так же ненавистен, как в жизни. Грешил ли я экспрессионизмом и сюрреализмом или не грешил — этого я не знаю и знать не хочу. Я знал, что хочу сказать, – и сказал это. И я ничуть не старался быть «оригинальным».
Техника этой книги, если тут вообще можно обнаружить какую-либо технику, та же, что я изобрел, когда писал свою длинную современную поэму под названием «Простак в лесу» (тебе она нравилась). Кое-кто называл ее «джазовой поэзией»; а теперь я написал, очевидно, джазовый роман. Ты увидишь, насколько это соответствует моей теме.
Надеюсь, во всяком случае, что явный или скрытый в этой книге идеализм найдет в тебе отклик. Я испытал много сомнений, колебаний, взгляды мои менялись, но всегда я сохранял известный идеализм. Я верю в людей, верю в некую изначально присущую им честность и чувство товарищества, – без этого общество не могло бы существовать. Как часто честность извращают, как часто товарищество предают, ты знаешь не хуже меня. Я не верю в трескучие фразы и в деспотизм, даже в диктатуру интеллигенции. Думается, мы с тобой имеем некоторое представление о том, что такое интеллигенция.
Кое-кто из молодежи, – те, кому предстоит «вершить благородные дела, о которых мы забыли», с этим не согласны. Они полагают, будто с трескучими фразами можно бороться при помощи сверхтрескучих фраз. Искренность давным-давно устарела. Неважно, что именно говорить; важно только внушать другим, что ты прав. И остается одна надежда: запретить всем читать, за исключением немногих избранных (кем и как избранных?), а уж они будут указывать нам, простым смертным, что делать и как жить. Да неужели же мы в это поверим? За тебя, так же как и за себя, смело отвечаю: конечно нет! А впрочем, может быть, это ирония, и молодым людям просто не дают покоя лавры Свифта.
Но, как ты увидишь, эта книга, в сущности, – надгробный плач, слабая попытка создать памятник поколению, которое на многое надеялось, честно боролось и глубоко страдало. Другие, вероятно, поймут это совсем иначе. Почему бы и нет? А мы добиваемся только одного: пытаемся сказать правду, верим, что это правда, и не боимся ни противоречить себе, ни признавать свои ошибки.
Всегда твой
Ричард Олдингтон
Париж. 1929
ОТ АВТОРА
Этот роман в напечатанном виде несколько отличается от рукописей. К моему удивлению, издатели сообщили мне, что некоторые слова, выражения, обороты и даже отдельные отрывки оказались сейчас в Америке под запретом. Я описывал в этой книге только то, что наблюдал в жизни, говорил только то, что безусловно считаю правдой, и у меня не было ни малейшего намерения тешить чье-либо нечистое воображение. Для этого моя тема слишком трагична. Но я вынужден послушаться совета тех, кто знает законы о печатном слове. Поэтому я просил издателей изъять из книги все, что, по их мнению, может показаться предосудительным, и заменить точками каждое пропущенное слово. Пусть лучше книга выйдет изуродованной,[5] но я не стану говорить то, чего не думаю.
En attendant mieux[6]
Р. О.
P. S. Справедливости ради должен прибавить, что в этом американском издании сокращения гораздо меньше и малочисленней, чем те, которых от меня потребовали в Англии.
ПРОЛОГ
Morte d'un eroe[7]
Allegretto[8]
Военные действия давно уже прекратились, а в газетах все еще появлялись списки убитых, раненых и пропавших без вести, – последние спазмы перерезанных артерий Европы. Разумеется, никто этими списками не интересовался. Чего ради? Живым надо решительно ограждать себя от мертвецов, тем более — от мертвецов навязчивых. Но утрата двадцатого века огромна: сама Юность. И слишком многих пришлось забывать.
В одном из этих последних списков, под рубрикой «Пали на поле брани», стояло следующее:
«Уинтерборн, Эдуард Фредерик Джордж, капитан 2 роты 9 батальона Фодерширского полка».
Новость эта была встречена с таким равнодушием, и забыли Джорджа Уинтерборна с такой быстротой, что даже он сам удивился бы, – а ведь ему был свойствен безмерный цинизм пехотинца: пехотные циники всегда прикидываются этакими безмозглыми бодрячками и этим вводят в заблуждение многих не слишком проницательных людей. Уинтерборн почти надеялся, что его убьют, и знал, что его безвременную смерть в возрасте двадцати лет с небольшим оставшиеся в живых уж наверно перенесут стоически. Но то, что произошло, все же немного уязвило бы его самолюбие.
Говорят, жизнь — все равно что светящаяся точка, внезапно возникающая из ниоткуда. Она прочерчивает в пространстве и времени сверкающую причудливую линию — и затем так же внезапно исчезает. (Любопытно было бы поглядеть на огни, исчезающие из Времени и Пространства во время какого-нибудь большого сражения: Смерть гасит свечи…) Что ж, это наша общая участь; но мы тешим себя надеждой, что наш довольно путаный и не слишком яркий след будет еще хоть несколько лет светить хоть нескольким людям. Я думаю, имя Уинтерборна появилось на какой-нибудь мемориальной доске в память павших воинов, скорее всего в церкви при той школе, где он учился; и, конечно, во Франции он получил, как полагается, вполне приличный надгробный камень. Но и только. Его гибель никого особенно не огорчила. У людей сдержанных и притом небогатых друзей не много; и Уинтерборн не слишком надеялся на своих немногочисленных приятелей, а меньше всего на меня. Но я знал — он сам говорил мне, – что есть на свете четыре человека, которым как будто не совсем безразличен он и его судьба. Эти четверо — его отец и мать, его жена и его любовница. Знай он, как все они приняли весть о его смерти, я думаю, это его раздосадовало бы, но и позабавило, а пожалуй, у него и полегчало бы на душе. Он избавился бы от ощущения, что он все же за них в ответе.
Отец Уинтерборна, – я немного знал его, – отличался непомерной сентиментальностью. Тихий, беспомощный, с претензией на аристократичность, он был эгоистом из породы самоотверженных (иными словами, вечно ставил себе в заслугу, что «отказывается» от чего-нибудь такого, чего в глубине души боялся или не хотел) и обладал особым даром портить жизнь окружающим. Просто удивительно, сколько непоправимого вреда может причинить добрый, в сущности, человек. Десять отъявленных мерзавцев натворят меньше зла. Он испортил жизнь жене, потому что был с нею чересчур мягок; испортил жизнь детям, потому что был с ними чересчур мягок и сентиментален и потому что потерял свое состояние — непростительный грех со стороны родителя; испортил жизнь друзьям и клиентам, без всякого злого умысла пустив их по миру; и совсем испортил свою собственную жизнь. Это — единственное, что он на своем веку сумел сделать добросовестно, основательно и до конца. Он устроил из своего существования такую путаницу, что ее не сумела бы распутать целая армия психологов.
Когда я сказал Уинтерборну все, что думал о его отце, он почти во всем со мною согласился. Но, в общем, он любил отца, должно быть, обезоруженный его кротким нравом и слишком снисходительный к этой тихой эгоистической сентиментальности. Быть может, при других обстоятельствах, отец иначе воспринял бы известие о смерти Джорджа и иначе вел бы себя. Но он был до того напуган войной, до такой степени не способен примениться к жестокой, неотвратимой действительности (он всю свою жизнь упорно от нее уклонялся), что ударился в набожность, доходящую до юродства. Он свел знакомство с какими-то елейными католиками, и зачитывался елейными брошюрками, которыми они его засыпали, и хныкал и изливал душу елейному до отвращения духовнику, которого они ему сосватали. Итак, в разгар войны он был принят в лоно католической церкви; он без конца читал молитвы, и слушал мессу, и составлял правила поведения для тех, кто стремится к жизни вечной, и даже находил в себе сходство со святым Франциском Сальским, и молился о канонизации сверхъелейной Терезы Лизьеской,[9] — и, будем надеяться, обрел во всем этом утешение.
Известие о гибели Джорджа застало старика Уинтерборна в Лондоне, где он «работал на оборону». Он никогда бы не взялся за дело, которое требовало решимости и энергии, если бы его не довела до этого жена, пилившая его без передышки. Ее воодушевлял не столько бескорыстный патриотизм, сколько злость: возмутительно, что он вообще существует на свете, да еще мешает ее любовным похождениям! А он всегда с гордым и скорбным достоинством повторял, что его религиозные убеждения запрещают ему с нею развестись. Религиозные убеждения — прекрасный предлог, чтоб делать людям гадости. Итак, она нашла для него в Лондоне оборонную работу и поставила его в такое положение, что он не мог отказаться.
Телеграмма военного министерства — «с прискорбием извещаем… пал на поле брани… соболезнование их величеств…» — пришла на адрес загородного дома и попала в руки миссис Уинтерборн. Какой повод для переживаний, едва ли не приятное разнообразие: в деревне сразу после перемирия скука была изрядная! Миссис Уинтерборн сидела у камина, зевая в лицо своему двадцать второму любовнику, – роман тянулся уже около года, – когда горничная подала телеграмму. Телеграмма была адресована мужу, но жена, разумеется, ее вскрыла: она подозревала, что какая-нибудь «такая» женщина охотится за ее супругом, который, впрочем, по трусости своей был, к сожалению, вполне добродетелен.
Миссис Уинтерборн обожала в жизни театральные эффекты. Она вполне убедительно взвизгнула, прижала руки к довольно рыхлой груди и сделала вид, что падает в обморок. Любовник, образцовый молодой англичанин — спортсмен и славный малый, из тех, что звезд с неба не хватают и дают водить себя за нос каждой юбке, тем паче каждой образцовой англичанке, подхватил ее машинально и не слишком охотно, но воскликнул с чувством, подобно какому-нибудь герою Этель Делл[10]:
— Что случилось, дорогая? Неужели он опять оскорбил вас?
Бедняга Уинтерборн-старший был совершенно не способен кого-либо оскорбить, но у миссис Уинтерборн и ее любовников так уж повелось: возмущаться мужем, который ее «оскорбляет» и «издевается» над нею, хотя он в худшем случае позволял себе горячо молиться о том, чтобы супруга, вкупе со всей «несчастной заблудшей Англией», обратилась к истинной вере.
Низким томным голосом, в подражание героиням душещипательных романов, миссис Уинтерборн простонала:
— Он умер, умер!
— Кто? Уинтерборн?
(Хлопотавший вокруг нее Сэм Браун кажется, немного испугался — ему, конечно, придется предложить руку и сердце — и предложение того и гляди примут.) Мой сыночек! Эти гнусные, мерзкие гунны убили моего мальчика!
Сэм Браун, все еще ничего не понимая, взял телеграмму и прочел ее. Потом вытянулся, отдал честь (хотя на нем не было фуражки) и сказал торжественно:
— Славная, честная смерть. Смерть, достойная англичанина.
(Когда убивают гунна, в этом нет ничего славного и честного: так им, подлецам, – не при дамах говорится «стервецам», – и надо.)
Слезы, проливаемые миссис Уинтерборн, были не слишком искрении, и их довольно быстро удалось осушить. Она трагически бросилась к телефону. Трагическим голосом сказала в трубку:
— Подстанция? (Всхлип.) Дайте мне Кенсингтон десять тридцать. Да, да, номер мистера Уинтерборна (всхлип). Наш милый сын… капитан Уинтерборн… погиб… его убили эти (всхлип) звери, (Всхлип. Пауза.) Благодарю вас, мистер Крамп, я не сомневалась, что вы посочувствуете нашему горю. (Всхлип. Всхлип.) Такой неожиданный удар. Мне надо поговорить с мистером Уинтерборном. У нас здесь сердца разрываются (всхлиписсимо). Благодарю вас. Я буду ждать звонка.
И в телефонном разговоре с супругом миссис Уинтерборн также оставалась верна себе:
— Это ты, Джордж? Да, это я, Изабелла. Я сейчас получила печальное известие. Нет, о Джордже. Приготовься, дорогой. Боюсь, что он очень болен. Что? Нет, Джордж, Джо-ордж! Ты что, оглох? Ну, вот так-то лучше. Так вот, слушай, дорогой, ты должен приготовиться к тяжкому удару. Джордж очень болен. Да, да, ваш Джордж, наш малютка. Что? Ранен? Нет, не ранен, очень опасно болен. Нет, дорогой, надежды почти никакой. (Всхлип.) Да, дорогой, телеграмма от их величеств. Прочитать тебе? Ты приготовился к удару. Джордж, да? «С глубоким прискорбием… пал на поле брани… со6олезнования их величеств…» (Всхлип. Долгая пауза.) Ты слушаешь, Джордж? Алло, алло! (Всхлип.) Алло, алло! Ал-ло-о! (Сэму Брауну.) Он повесил трубку! Этот человек надо мной издевается! Когда я в таком горе! Это невыносимо! А я еще старалась смягчить удар! (Всхлип. Всхлип.) Но ведь мне всегда приходилось сражаться ради моих детей, а он только сидел, уткнувшись носом в книгу, или твердил молитвы!
К чести миссис Уинтерборн надо сказать, что она не очень-то верила, будто молитвы помогают в практической жизни. Однако ее неприязнь к религии коренилась в другом: эта женщина терпеть не могла делать то, чего ей делать не хотелось, и глубоко ненавидела всякое подобие мысли.
Услыхав роковое известие, мистер Уинтерборн упал на колени (не забыв, однако, дать отбой, чтобы не слышать больше эту фурию) и воскликнул: «Упокой, господи, его душу!» После этого мистер Уинтерборн еще долго молился за упокой души Джорджа, за себя самого, за свою «заблудшую, но возлюбленную супругу», за других своих детей — «да спасутся и да внидут по милости своей, господи, в лоно истинной веры», за Англию (то же), за своих врагов — «ты, господи, веси, я чужд вражде, хоть и грешен, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ave Maria…»[11]
Некоторое время Уинтерборн простоял на коленях. Но на кафельном полу в прихожей молиться было жестко и неудобно, а потому он пошел в спальню и преклонил колена на мягкой молитвенной скамеечке. Перед ним на аналое, покрытом весьма благочестивой вышивкой — даром «сестры во Христе», – лежал раскрытый требник в весьма благочестивом переплете, с яркой весьма благочестивой закладкой. На подставке стояла раскрашенная дева Мария с тошнотворным младенцем Иисусом, копия статуи из монастыря Сен-Сюльпис; в руках младенца болталось святое сердце, истекающее кровью и окруженное сиянием. Еще выше водружено было большое распятие — довольно дешевая подделка под бронзу, справа — репродукция «Тайной вечери» Леонардо да Винчи (цветная), слева — репродукция с картины Холмана Ханта[12] (еретика) «Светоч мира» (одноцветная). Все это служило мистеру Уинтерборну неиссякаемым источником утешения и спокойствия духа.
За обедом он ел мало, с горьким удовлетворением думая о том, что скорбь явно отнимает у людей аппетит, а пообедав, отправился к своему духовнику, отцу Слэку. Здесь мистер Уинтерборн дал волю чувствам и приятно провел вечер. Он пролил много слез, и оба усердно молились. Отец Слэк выразил надежду, что Джордж под влиянием отцовских молитв и добродетелей перед смертью покаялся, а мистер Уинтерборн сказал, что хоть Джордж и не был принят в лоно святой церкви, в нем жил «луч истинного католика» и однажды он даже прочел одну проповедь Боссюэ[13]; а отец Слэк сказал, что будет молиться о душе Джорджа, и мистер Уинтерборн оставил ему пять фунтов стерлингов на мессы за упокой души Джорджа, – поступок щедрый (хоть и глупый), так как доходы мистера Уинтерборна были весьма скромные.
После этого мистер Уинтерборн каждое утро и каждый вечер тратил на молитву на десять минут больше прежнего, так как молился о спасении души Джорджа. Но, к несчастью, однажды он, погруженный в размышления о блаженном мученике отце Парсонсе[14] и еще более блаженном мученике отце Гарнете, герое Порохового заговора, переходя мостовую у самого входа в Хайд-парк, попал под колеса. Пяти фунтов хватило не надолго, и больше некому было молиться о спасении души Джорджа; так что, насколько известно святой римской апостольской церкви и насколько сие от нее зависит, бедняга Джордж пребывает в аду и, надо полагать, там и останется. Впрочем, последние годы его жизни были таковы, что он, вероятно, и не заметил разницы.
Так принял смерть Джорджа его отец. «Реакция» матери (так это называют психологи) была несколько иная. Миссис Уинтерборн на первых порах нашла, что это событие очень возбуждает и подстегивает, особенно в смысле эротическом. Эта женщина обожала драмы и всю свою жизнь разыгрывала как драму. Она жаждала быть в центре всеобщего внимания, точно какой-нибудь итальянский офицер, ей необходимо было, чтобы ею восхищались все без разбору. В доме у нее удерживались дольше месячного испытательного срока только те слуги, которые готовы были пресмыкаться перед нею и не гнушались самой грубой лестью, превознося каждый ее шаг, каждое слово, каждую прихоть, ее наряды и безделушки, ее друзей и знакомых. Но миссис Уинтерборн была необыкновенно капризна и сварлива, так что ее друзья-приятели то и дело становились ей врагами, а заклятые враги неожиданно оказывались ее не слишком искренними друзьями, – поэтому от корыстных наемников, оставшихся верными ей только ради прибавки жалованья или подачек, которыми она вознаграждала особенно удачную лесть, требовались такая гибкость и такт, каким позавидовал бы любой дипломат.
Миссис Уинтерборн была уже вполне зрелая матрона, однако она предпочитала воображать себя очаровательной семнадцатилетней девушкой, страстно любимой пылким и неотразимым, точно шейх,[15] но притом конечно же «чистым» (чтобы не сказать «честным») молодым британцем. Она так и сыпала мнимореволюционными фразами, «подрывающими основы» семьи и собственности (в этом стиле разглагольствуют нередко «просвещенные» служители церкви), а в сущности, это была самая заурядная мещанка, напичканная предрассудками, ограниченная, жадная, скупая и злобная. Как всякая мещанка, она угодничала перед теми, кто занимал лучшее положение в обществе, и помыкала стоящими ниже ее. Рамки мелкобуржуазной морали, естественно, делали ее лицемеркой. В игривые минуты (а она очень любила резвиться, совершенно не понимая, насколько это ей не к лицу) она охотно намекала, что способна «нарушить все запреты». А в действительности бурные порывы сводились к тому, что она с удовольствием выпивала, была лжива, нечистоплотна в денежных делах, бранилась со всеми по пустякам, с азартом билась об заклад и заводила интрижки с нагловатыми молодыми людьми, которых только при ее романтически буйном воображении можно было именовать «чистыми и честными», хотя, без сомнения, они были истинными британцами и, разумеется, славными малыми — более или менее нагловатого типа.
Она столько сменила этих чистых и честных молодых шейхов, что даже бедняга Уинтерборн совсем запутался — и когда принимался за очередное драматическое послание, начинавшееся неизменно словами: «Сэр! Похитив у меня привязанность моей жены, вы поступили, как мерзкий пес, – да не будут эти слова истолкованы в нехристианском духе…» — письмо это, как правило, было обращено к шейху прошлому или позапрошлому, а не к тому, кто пользовался ее благосклонностью в данное время. Однако увещания, непрестанно появлявшиеся в дни войны на страницах газет и журналов, а главное — опасность из зрелой матроны превратиться в перезрелую, настроили миссис Уинтерборн на серьезный лад, и с безошибочным чутьем она мертвой хваткой вцепилась в Сэма Брауна — вцепилась и уже не отпускала несчастного до конца его дней (конца безвременного, который она же и ускорила). Что и говорить, Сэм Браун был безупречен — такое встречается только в сказках. Если бы я не видел его своими глазами, я бы в него просто не поверил. Это был оживший — вернее, отчасти оживший — стереотип. Представление о жизни у него было самое примитивное, едва ли достаточное для четвероногого, и мыслительными способностями природа наделила его крайне скупо. Это был великовозрастный бойскаут, приготовишка в блистательной броне тупоумия. Все в жизни он воспринимал и оценивал по готовой формуле, – что бы ни случилось, а соответствующая, заранее предусмотренная формула всегда найдется. Итак, хоть и не достигнув особо высоких степеней, он, в общем, преуспевал, благополучно скользил по укатанным дорожкам где-то на втором плане. Если его к этому не вынуждали, он никогда сам не заговаривал о том, что был ранен, награжден орденом или о том, что уже 4 августа пошел в армию добровольцем.[16] Словом, скромный, воспитанный и прочая и прочая английский джентльмен.
На случай, когда умирает сын замужней любовницы, формула предписывала суровую мужественность и нежное сочувствие, целительное для ран материнского сердца. Миссис Уинтерборн сперва не выходила из роли — пылкий, но нежный Сэм Браун всегда настраивал ее на лирический лад. Но, как ни странно, смерть Джорджа пробудила в ней прежде всего чувственность. На многих женщин война повлияла именно так. Смерть, раны, кровь, жестокость — все на безопасном расстоянии — подхлестывали их страсти, разжигали их пыл до пределов фантастических. Разумеется, в эти нескончаемые годы, 1914-1918, женщины поневоле вообразили, что смертны одни лишь мужчины, а им даровано бессмертие; и они, новоявленные гурии, старались обольстить каждого попадавшегося под руку шейха, – вот почему их так привлекала «работа на оборону» с ее широкими возможностями, А кроме того, еще и первобытный физиологический инстинкт подсказывал: назначение мужчины — убивать и быть убитым, назначение женщины — рожать новых мужчин, чтобы все продолжалось в том же духе. (Правда, этому нередко мешает наука, ибо она идет вперед, а именно — создает противозачаточные средства, за что ей великое спасибо.)
Итак, не удивляйтесь, что волнение миссис Уинтерборн, вызванное смертью сына, почти немедленно приняло эротическую окраску. Она лежала на кровати в пышных белых панталонах с длиннейшими оборками и в целомудренной, но необычайно нарядной сорочке. Сэм Браун, сильный, молчаливый, сдержанный и нежный, смачивал ей лоб одеколоном, а она большими глотками все чаще прихлебывала коньяк. Разумеется, приличия требовали, чтобы к ее горю относились с уважением, и это было даже приятно, а все-таки… лучше бы Сэма не приходилось каждый раз подталкивать на первый шаг. Неужели он не видит, что ее нежная натура нуждается в утешении — в капельке Истинной Любви, – и притом сейчас же, немедленно?
— Я его так любила, Сэм, – тихо молвила миссис Уинтерборн с искусно сделанной дрожью в голосе. – Я была совсем девочкой, когда он родился, – детка с деткой, говорили про нас, – когда мы с ним росли вместе. Я была такая юная, что еще два года после его рождения ходила с косичками.
(Уверения миссис Уинтерборн относительно ее непреходящей юности были так шиты белыми нитками, что не обманули бы даже читателей «Джона Бланта»[17], – но все шейхи попадались на эту удочку. Бог весть, что они думали, – воображали должно быть, что Уинтерборн «оскорбил» ее, когда ей было десять лет.)
— Мы с ним были неразлучны, Сэм, мы были настоящими друзьями, и он никогда ничего от меня не скрывал.
(Бедняга Джордж! Он терпеть не мог свою мамашу, за последние пять лет своей жизни он едва ли виделся с нею раз в год. А уж насчет того, чтобы с нею откровенничать, – куда там, самый простодушный из простодушных дикарей тотчас заподозрил бы, что она привирает. Когда Джордж был еще мальчиком, она снова и снова так подло предавала его, что он наглухо замкнулся в себе и уже не мог довериться ни жене, ни любовнице, ни другу.)
— А теперь его больше нет… — Тут в голосе миссис Уинтерборн зазвучали столь недвусмысленные призывные нотки, что даже бестолковый шейх заметил это и ощутил смутное беспокойство. – Теперь его уже нет, а у меня остался только ты, Сэм, в целом свете только ты один. Ты слышал, как этот низкий человек сегодня оскорбил меня по телефону. Поцелуй меня, Сэм, и обещай, что ты всегда будешь мне другом, настоящим другом!
Формулой поведения шейха не предусмотрено было в этот день заниматься любовью; скорбящую мать полагается утешить, но «святость» ее материнского горя недопустимо осквернять плотской близостью — хотя и эта близость между «чистым» молодым британцем и «безупречной» женщиной, у которой только и было, что муж да двадцать два любовника, тоже странным образом оказалась «священной». Но где уж всем сэмам браунам в мире устоять перед несокрушимой волей таких вот миссис Уинтерборн — и особенно перед их волей к совокуплению! И он — да будет позволено так выразиться — возвысился до требований момента. И он тоже испытал странное, извращенное наслаждение, нежничая и занимаясь любовью над свежим трупом; а между тем будь он способен пораскинуть мозгами, он понял бы, что миссис Уинтерборн — не только садистка, но некрофилка.
В ближайшие месяц-два смерть Джорджа стала для его матери источником и других, почти ничем не омраченных радостей. Миссис Уинтерборн простила — разумеется, временно — самых заклятых своих врагов, чтобы можно было написать побольше писем о своей тяжелой утрате, – она сочиняла их с увлечением и искусно украшала пятнами слез. Многие без пяти минут аристократы, обычно избегавшие миссис Уинтерборн, как ядовитейшую разновидность скорпиона в образе человеческом, явились к ней с визитом — правда, самым кратким — и выразили свое соболезнование. Ее посетил даже приходский священник, и был встречен с любезностью чрезвычайной; ибо, хоть миссис Уинтерборн и уверяла всех, будто пренебрегает мнением общества и исповедует агностицизм (столь крайние взгляды появились у нее, впрочем, лишь после того, как перед нею захлопнули двери почти все добропорядочные и благочестивые обыватели), она сохранила суеверное почтение к служителям официальной церкви.
Другая радость миссис Уинтерборн была — переругиваться с Элизабет, женой Джорджа, из-за его жалкого «наследства» и оставшихся после него вещей. Уходя в армию, Джордж думал, что как ближайшего родственника должен назвать отца. Позже он понял свою ошибку, и, отправляясь вторично во Францию, указал, что его ближайшая родственница — жена. Военное министерство заботливо сохранило оба документа — либо там вообразили, что существуют два Джорджа Уинтерборна, либо первая бумажка, не изъятая официально, сохранила юридическую силу. Так или иначе, часть вещей, оставшихся после гибели Джорджа, были отосланы по загородному адресу на имя отца — и мать без зазрения совести их присвоила. Остальные личные вещи и еще причитавшееся ему офицерское жалованье отправлены были жене Джорджа. Миссис Уинтерборн-старшую это привело в неописуемую ярость. Экий дурацкий бюрократизм! – возмущалась она. Да разве ее сыночек не принадлежит ей, матери? Не она ли носила его под сердцем и тем самым до конца своего земного существования обрела право владеть безраздельно им самим и всем, что ему принадлежало? Да разве может женщина, кто бы она ни была, занять в мыслях и в сердце мужчины такое же место, как его родная мать?! А стало быть, ясно, что она — мать — и есть его ближайшая родственница и наследница и что все его имущество, включая вдовью пенсию, должно достаться ей и только ей: Q. Е. D.[18]. Из-за этого наследства миссис Уинтерборн не давала ни минуты покоя своему злосчастному супругу, пыталась втянуть в драку Сэма Брауна, – однако его хватило лишь на «прямое и честное» письмо к Элизабет, но та нокаутировала его в первом же раунде, – и даже обратилась к столичному юристу. Из Лондона миссис Уинтерборн-старшая возвратилась вне себя от бешенства. «Этот человек» (иными словами муж) вновь оскорбил ее, робко заметив, что все имущество Джорджа нужно отдать его вдове, но она, конечно, позволит им сохранить кое-какие мелочи на память о сыне. Юрист же — подлая скотина! – без малейшего сочувствия заявил, что вдова Джорджа имеет полное право притянуть свекровь к суду за удержание имущества, принадлежащего ей (Элизабет) по закону. Завещание Джорджа было ясным и недвусмысленным — он все оставлял жене. И, однако, ту долю его вещей, которой завладела его мамаша, она из рук уже не выпустила назло всем силам земным и небесным. И она обрадовалась случаю с наслаждением высказать «этой женщине» (иными словами, Элизабет) все, что о ней думала, – а именно, что бедная Элизабет объединяет в своем лице Екатерину Вторую, Лукрецию Борджиа, мадам де Бренвилье[19], Молль Флендерс[20], «вязальщицу»[21] времен Французской революции и отъявленную негодяйку из лондонских трущоб.
Но после своей смерти Джордж служил для матери источником развлечения всего месяца два. Как раз тогда, когда в распре с Элизабет миссис Уинтерборн достигла поистине головокружительных высот вульгарнейшей ругани, старика Уинтерборна задавило на улице. Появились новые развлеченья: следствие о смерти, и самые настоящие похороны, и вдовий траур, и новые письма, закапанные слезами. Она даже послала такое письмо Элизабет — я сам его видел; она писала, что после двадцати лет замужества (на самом деле Уинтерборны были женаты около тридцати лет) настал конец ее семейному счастью, что теперь отец и сын соединились в блаженстве жизни вечной и что, каковы бы ни были ошибки и прегрешения мистера Уинтерборна, он всегда был джентльменом (последнее слово она подчеркнула жирной чертой и поставила несколько восклицательных знаков — очевидно, понимать надо было так, что сама-то Элизабет отнюдь не леди!).
Месяц спустя миссис Уинтерборн вышла замуж за своего шейха — увы, отныне он перестал быть шейхом! Брак был зарегистрирован в соответствующей лондонской канцелярии, после чего молодые супруги отбыли в Австралию, где им предстояло вести жизнь чистую, честную, и благородную. Да пребудут они в мире — уж слишком они были чисты и благородны для погрязшей в разврате Европы!
Что и говорить, родители Джорджа были нелепы до карикатурности. Подчас им овладевал насмешливый цинизм, и он начинал рассказывать приятелям об отце с матерью, – и хотя ничего при этом не преувеличивал, даже люди с головой упрекали его за чудовищные выдумки. Если верить общепринятым теориям о роли среды и наследственности (впрочем, скорее всего они лгут), то, право же, загадочно и непостижимо, как тайны замка Удольфо[22], каким образом Джордж ухитрился до такой степени не походить на своих родителей и все родственное окружение. В нем можно было найти внешнее сходство и с отцом и с матерью, но в остальном он не имел с ними ничего общего, будто явился с другой планеты. Быть может, они казались такими нелепыми потому, что ни тот ни другая совершенно не умели приноровиться к бурным, всеохватывающим переменам в жизни, причиной или признаком которых была мировая война. У них на глазах разыгрывалась величайшая драма, а они ее даже не заметили. Их волновало только одно — продовольственные пайки. Старик Уинтерборн очень беспокоился также о «судьбах родины» и излагал свои мнения и советы в письмах в «Таймс» (где их не печатали), а потом, переписав их на бумаге с гербом своего клуба, отсылал премьер-министру. Кто-нибудь из секретарей премьера с неизменной вежливостью подтверждал получение. На миссис же Уинтерборн тревога «о судьбах родины» нападала лишь изредка, приступами. Она полагала, что Британская империя должна вести войну как крестовый поход, до полного истребления «гнусных, мерзких гуннов», чтобы спасти мир для славных, чистых и честных шейхов и милых, невинных и резвых, как котята, пятидесятилетних англичанок. Что и говорить, нелепо, дико, неправдоподобно, как мужские моды сороковых годов прошлого века. Я встречался с родителями Джорджа всего несколько раз — сначала бывая у него, потом в качестве его душеприказчика, – и они казались мне такими же неправдоподобными, смехотворными, такими же доисторическими ископаемыми, какими казались Парижу 1815 года возвращающиеся из бегов аристократы.[23] Подобно Бурбонам, старшие Уинтерборны ничему не научились за время войны и ничего не забыли. В том-то и трагедия Англии, что война ничему не научила всех ее Уинтерборнов и что ею правили карикатурно нелепые, растерянные и беспомощные людишки, заполнившие сверху донизу все посты гражданской государственной службы, тогда как молодежь в отчаянии махнула на все рукой. Gott strafe England[24] — вот молитва, которая была услышана: небеса лишили Англию разума настолько, что она оставила карикатурно нелепых Уинтерборнов у кормила правления и при этом делала вид, будто они еще на что-то годны. А мы продолжаем со всем мириться, и у нас даже не хватает смелости вышвырнуть все эти нелепые марионетки старой Англии в Лимб[25], где им самое подходящее место. Реrо, paciencia. Ma ana, ma ana…[26]
Порой я думаю, что в том последнем бою мировой войны Джордж просто совершил самоубийство. Я не хочу сказать, что он пустил себе пулю в лоб, но ведь командиру роты ничего не стоит подняться во весь рост под пулеметным огнем противника. Отношения с Элизабет и с Фанни Уэлфорд, в которых запутался Джордж, можно было бы и распутать, но на это потребовалась бы толика терпенья, и энергии, и решимости, и здравого смысла. А бедняга Джордж к ноябрю 1918 года был измучен и истерзан сверх всякой меры. Он был немножко не в своем уме, как были не в своем уме почти все, кто провел больше полугода на переднем крае. После боев при Аррасе (то есть с апреля 1917) он держался только на нервах, и когда в октябре 1918 мы встретились в тыловом дивизионном лагере, я сразу увидел, что он выжат, как лимон, и больше ни на что не годен. Ему надо было пойти к бригадному генералу и получить хотя бы короткий отпуск. Но он слишком боялся струсить. В ту последнюю ночь, когда мы с ним виделись, он сказал мне, что его теперь пугают даже разрывы гранат, а заградительного огня ему, наверно, больше не выдержать. Однако он был упрям, как черт, и непременно хотел вернуться в свой батальон, хоть и знал, что их сейчас же снова двинут в бой. Мы не спали чуть не до утра, и он все говорил об Элизабет, о Фанни и о себе, и снова о себе, о Фанни и Элизабет, и наконец все это стало казаться таким давящим кошмаром, трагедией, подобной судьбе рода Атреева,[27] что я и сам подумал: да, исхода нет. В ту ночь несколько раз налетали и бомбили вражеские аэропланы, а мы лежали в темноте на парусиновых койках и перешептывались — вернее, шептал Джордж, а я пытался перебить его и не мог. И всякий раз как неподалеку от лагеря падала бомба, я и в темноте чувствовал, что Джордж вздрагивает. Да, нервы у него никуда не годились.
Элизабет и Фанни нелепыми карикатурами не назовешь. К войне они приспособились на диво быстро и ловко, так же как позднее применились к послевоенным порядкам. Обеим была присуща жесткая деловитость, очень характерная для женщин в те военные и послевоенные годы; обе умело маскировали извечный собственнический инстинкт своего пола дымовой завесой фрейдизма и теории Хэвлока Эллиса[28]. Слышали бы вы, как они обо всем этом рассуждали! Обе чувствовали себя весьма свободно на высотах «полового вопроса», в дебрях всяческих торможений, комплексов, символики сновидений, садизма, подавленных желаний, мазохизма, содомии, лесбиянства и прочая и прочая. Послушаешь и скажешь — до чего разумные молодые женщины! Вот кому чужд всякий сентиментальный вздор. Уж они-то никогда не запутаются в каких-нибудь чувствительных бреднях. Они основательно изучили проблемы пола и знают, как эти проблемы разрешать. Существует, мол, близость физическая, близость эмоциональная и, наконец, близость интеллектуальная, – и эти молодые особы управляли всеми тремя видами с такой же легкостью, с какою старый опытный лоцман проводит послушное судно в самую оживленную гавань Темзы. Они знали, что ключ ко всему — свобода, полная свобода. Пусть у мужчины есть любовницы, у женщины — любовники. Но если существует «настоящая» близость, ничто ее не разрушит. Ревность? Но такая примитивная страсть конечно же не может волновать столь просвещенное сердце (бьющееся в довольно плоской груди). Чисто женские хитрости и козни? Оскорбительна самая мысль об этом. Нет уж! Мужчины должны быть «свободны», и женщины должны быть «свободны».
Ну, а Джордж, простая душа, всему этому верил. У него был «роман» с Элизабет, а потом «роман» с ее лучшей подругой Фанни. Джордж считал, что надо бы сказать об этом Элизабет, но Фанни только пожала плечами: зачем? Без сомнения, Элизабет чутьем уже все поняла — и гораздо лучше довериться мудрым инстинктам и не впутывать в дело наш бессильный ум. Итак, они ни слова не сказали Элизабет, которая ничего чутьем не поняла и воображала, что Джордж и Фанни «сексуально антипатичны» друг другу. Все это было в канун войны. Но в четырнадцатом году у Элизабет случилась задержка, и она решила, что беременна. Ух, что тут поднялось! Элизабет совершенно потеряла голову. Фрейд и Хэвлок Эллис тотчас полетели ко всем чертям. Тут уж не до разговоров о «свободе»! Если у нее будет ребенок, отец перестанет давать ей деньги, знакомые перестанут ей кланяться, ее уже не пригласят обедать у леди Сент-Лоуренс, она… Словом, она вцепилась в Джорджа и мигом положила его на обе лопатки. Она заставила его раскошелиться на специальное разрешение, и они сочетались гражданским браком в присутствии родителей Элизабет, – те и опомниться не успели, сбитые с толку ее неожиданным замужеством. Отец Элизабет попытался было возражать — ведь у Джорджа ни гроша за душой, а миссис Уинтерборн разразилась великолепным драматическим посланием, закапанным слезами: Джордж — слабоумный выродок, писала она, он разбил ее нежное материнское сердце и нагло растоптал его ради гнусной похоти, ради мерзкой женщины, которая охотится за деньгами Уинтерборнов. Поскольку никаких денег у Уинтерборнов не осталось и старик изворачивался и перехватывал в долг, где только мог, обвинение это было, мягко говоря, чистейшей фантазией. Но Элизабет одолела все препоны, и они с Джорджем поженились.
После свадьбы Элизабет вновь вздохнула свободно и стала вести себя более или менее по-человечески. Тут только она догадалась посоветоваться с врачом; он нашел у нее какую-то незначительную женскую болезнь, посоветовал месяц-другой «избегать сношений» и расхохотался, услышав, что она считает себя беременной. Джордж и Элизабет сняли квартирку в Челси, и через три месяца Элизабет снова стала весьма просвещенной особой и ярой поборницей «свободы». Успокоенная заверениями доктора, что у нее никогда не будет детей, если только она не подвергнется особой операции, она завела «роман» с неким молодым человеком из Кембриджа и сказала об этом Джорджу. Джордж был удивлен и обижен, но честно играл свою роль и по первому же намеку Элизабет благородно уходил на ночь из дому. Впрочем, он не так страдал и не столь многого был лишен, как казалось Элизабет: эти ночи он неизменно проводил у Фанни.
Так продолжалось до конца 1915 года. Джордж, хоть он и нравился женщинам, обладал особым даром вечно попадать с ними впросак. Скажи он Элизабет о своем романе с Фанни в ту пору, когда она была по уши влюблена в своего кембриджского поклонника, она, конечно, примирилась бы с этим, и все сошло бы гладко. На свое несчастье, Джордж снято верил каждому слову и Фанни и Элизабет. Он ни минуты не сомневался, что Элизабет прекрасно знает о его отношениях с Фанни, а если они об этом не говорят, так только потому, что «подобные вещи вполне естественны» и «мудрствовать лукаво» тут совершенно незачем. Но однажды, когда кембриджец стал уже немного надоедать Элизабет, ее поразило, с какой охотой Джордж приготовился «убраться» на ночь из дому.
— Но послушай, милый, – сказала она, – ведь ночевать каждый раз в гостинице очень дорого. По карману ли это нам? И ты ни капельки не сердишься?
— Конечно нет, – наивно ответил Джордж. – Просто я забегу к Фанни и переночую, как всегда, у нее.
Разразилась буря: сначала на Джорджа накинулась Элизабет, потом Фанни, и, наконец, в довершение всего — битва, достойная быть воспетой Гомером, – Элизабет накинулась на Фанни. Бедняге Джорджу до того все это осточертело, что он ушел добровольцем в пехоту, – записался в первом попавшемся вербовочном пункте, и его тотчас отправили в учебный лагерь в Мидленде. Но, разумеется, это ничего не решило. Элизабет была разгневана, и Фанни была разгневана. Ахилл сражался с Гектором, и Джордж оказался в роли убитого Патрокла[29]. Ни та ни другая, в сущности, не пылали такой уж неодолимой страстью к Джорджу, но каждая во что бы то ни стало стремилась выйти победительницей и «отбить» его, причем весьма вероятно, что, «отбив» его у другой, победительница очень быстро охладела бы к своему трофею. Итак, обе писали ему нежные, прочувствованные, исполненные «понимания» письма и ужасно жалели его — мученика, изнывающего под ярмом армейской муштры. Элизабет приезжала в Мидленд и прибирала его к рукам на все воскресенье; но как-то она «закрутила роман» с молодым американским летчиком, и очередное воскресенье Джордж, получив неожиданно отпуск, провел с Фанни. Джордж плохо понимал женщин, по этой части он был туповат. Он очень любил Элизабет, но очень любил и Фанни тоже. Не поддайся он на болтовню о «свободе», сохрани в тайне от Элизабет свои отношения с Фанни, он мог бы вести вполне завидную двойную жизнь. На свою беду он не понимал и так не понял до конца своих дней, что обе они только болтали о «свободе», хотя он-то все принимал за чистую монету. И он писал им обеим глупейшие письма, способные только разозлить их, – в письмах к Элизабет расхваливал Фанни, в письмах к Фанни превозносил Элизабет, толковал о том, как обе они ему дороги; он, видите ли, новый Шелли, Элизабет — вторая Мери Годвин[30], а Фанни — Эмилия Вивиани[31]. Он писал им в том же духе и из Франции, до самого конца. И так и не понял, каким он был, в сущности, ослом.
Разумеется, не успел Джордж ступить на корабль, который должен был отвезти его в Булонь, на базу английских войск, как и Элизабет и Фанни с увлечением завели новые романы. Они продолжали воевать из-за Джорджа, но только между делом, чисто символически — больше назло друг другу, потому что для обеих он теперь был бы лишь обузой.
Телеграмма из военного министерства не застала Элизабет: она вернулась домой только к полуночи, и не одна — ее провожал очаровательный молодой художник-швед; они только что познакомились в одной веселой компании в Челси. Элизабет там выпила лишнее, а швед — рослый, красивый белокурый молодец — так и пылал, разгоряченный любовью и виски. Телеграмму и несколько писем подсунули под дверь, и они валялись на коврике у порога. Элизабет подобрала их и, повернув выключатель, машинально вскрыла телеграмму. Швед стоял рядом, глядя на нее влюбленными и пьяными глазами. Невольно Элизабет вздрогнула и слегка побледнела.
— Что случилось?
Она рассмеялась своим чуточку визгливым смешком и положила письма и телеграмму на стол.
— Военное министерство с прискорбием извещает меня, что мой муж пал на поле брани.
Теперь вздрогнул швед.
— Ваш муж?.. Так, может быть, мне лучше…
— Не дурите, – резко сказала Элизабет. Он давным-давно стал мне чужим. Пускай она горюет, а я и не подумаю.
Все-таки она немножко всплакнула в ванной: но швед и впрямь оказался очень предупредительным любовником. Потом они выпили немало коньяку.
На другой день Элизабет написала Фанни — впервые после нескольких месяцев молчания:
«Пишу тебе всего несколько слов, дорогая: я получила телеграмму из военного министерства с извещением, что Джордж убит четвертого во Франции. Я подумала, что эта новость будет для тебя не таким ударом, если ты узнаешь от меня, а не как-нибудь случайно. Когда наплачешься, загляни ко мне, и мы вместе справим поминки».
Фанни ей не ответила. Она все-таки любила Джорджа и с возмущением подумала, что у Элизабет нет сердца. Но и Элизабет любила Джорджа, только считала, что Фанни незачем об этом знать. Я часто встречался с Элизабет, улаживая имущественные дела Джорджа, – в сущности, после него только и осталось, что обстановка их квартиры, книги, скудный текущий счет в банке, несколько облигаций военного займа, да еще кое-что причиталось ему за довоенные работы, и Элизабет имела право на пенсию. Но, чтобы навести в этих делах какой-то порядок, требовалась изрядная переписка, и Элизабет с радостью препоручила ее мне. Раза два я виделся и с Фанни и передал ей кое-какие пустяки, оставленные для нее Джорджем. Но я ни разу не видел их вместе — они избегали друг друга; а покончив с обязанностями душеприказчика я уже почти не встречался ни с той, ни с другой. Фанни в 1919 году уехала в Париж и вскоре вышла замуж за художника-американца. Однажды вечером, в 1924 году, я видел ее в Доме инвалидов[32] с большой компанией. Она была премило одета, сильно накрашена и смеялась и кокетничала напропалую с каким-то пожилым американцем — должно быть, покровителем искусств. Похоже было, что она не слишком горевала о Джордже. Да и с чего бы ей горевать?
А вот Элизабет покатилась по наклонной плоскости. После смерти отца ее доходы удвоились, притом она получала вдовью пенсию за Джорджа — и теперь в «артистической» среде, где кошельки у всех довольно тощие, считалась женщиной со средствами. Она много путешествовала, причем никогда не расставалась с вместительной фляжкой коньяку, и любовников у нее было слишком много, что отнюдь не шло ни ей, ни им на пользу. Несколько лет я ее не встречал, потом — с месяц тому назад — столкнулся с нею в Венеции, на углу Пьяцетты. Она была со Стэнли Хопкинсом — одним из тех весьма ловких молодых литераторов, которые никак не решат, что им больше нравится — двуполая любовь или однополая? Недавно вышел в свет его роман, уж до того ловко написанный, до того сверхоригинальный, и ультрасовременный, и остроумный, и полный выпадов по адресу людей всем известных, что автор немедленно прославился, особенно в Америке: здесь Хопкинсоново беспардонное вранье приняли за чистую монету и (vide[33] отзывы печати) за «потрясающее обличение развращенной британской аристократии». Мы пошли втроем к Флориану есть мороженое; потом Хопкинсу понадобилось что-то купить, и он ушел, оставив нас на полчаса одних. Элизабет очень остроумно щебетала, – имея дело с Хопкинсом, надо быть остроумной, не то помрешь от стыда и унижения — но даже не заикнулась о Джордже, Джордж — это был скучный эпизод скучного прошлого. Она объявила мне, что они с Хопкинсом не намерены вступать в брак: они не желают мараться, разыгрывая комедию «узаконенного спаривания», но, вероятно, и дальше будут жить вместе. Хопкинс — не только преуспевающий романист, но и очень богатый молодой человек — закрепил за нею тысячу фунтов в год, так что они теперь оба «свободны». Элизабет выглядела не более несчастной, чем все наше потрепанное, отравленное цинизмом поколение; но она не расставалась с флягой.
В тот вечер, поддавшись на уговоры, я выпил слишком много коньяку и поплатился за свою глупость бессонной ночью. Но, конечно, в долгие, томительные часы без сна меня не мучила бы так мысль о Джордже, не будь этой неожиданной встречи с Элизабет. Не то чтобы я воздвиг в сердце своем алтарь покойнику, но я убежден, что, кроме меня, ни одна живая душа в целом свете о нем и не вспоминает. Быть может, только я один любил Джорджа бескорыстно, ради него самого. Понятно, в то время, когда он погиб, его смерть не так уж меня поразила — в тот день мой батальон потерял восемьдесят человек убитыми, а потом наступило перемирие, и я распрощался с армией, будь она проклята, и у меня было своих забот по горло — надо было начинать сызнова штатскую жизнь и приниматься за работу. В сущности, первые два-три года после войны я не думал о Джордже. Но потом стал думать, и немало — и, хоть я совсем не суеверен, мне даже стало казаться, что это он сам, Джордж (бедный истлевающий скелет), хочет напомнить мне о себе. Я отчасти знал, отчасти угадывал, что все, на кого он надеялся, его уже забыли, или, во всяком случае, не очень-то его оплакивают и удивились бы, но вовсе не обрадовались, вернись он вдруг живым, как те герои романов, которые от контузии теряют память и приходят в себя через семь лет после прекращения военных действий. Отец Джорджа нашел утешение в религии, мать — в своем шейхе, Элизабет — в «неузаконенном спаривании» и коньяке, Фанни — в слезах и браке с художником. А я ни в чем не искал утешения, я тогда не понимал, что смерть Джорджа как-то лично меня касается; чувство это затаилось в душе и терпеливо ждало, пока наступит его черед.
Солдатская дружба в годы войны — это совсем особенная, настоящая, прекрасная дружба, какой теперь нигде не сыщешь, по крайней мере, в Западной Европе. Хочу сразу же разочаровать завзятых содомитов из числа моих читателей: решительно заявляю раз и навсегда, что в этой дружбе не было и намека на однополую любовь. Долгие месяцы, даже годы, я жил и спал среди солдат и с некоторыми был дружен. Но ни разу я не слыхал ни одного сколько-нибудь двусмысленного предложения; ни разу не видел никаких признаков содомии и никогда не замечал ничего такого, что позволило бы подозревать, будто подобные отношения существуют. Впрочем, я был с теми, кто воевал. За то, что делалось в тылу, я не отвечаю.
Нет, нет. Тут не было и тени содомии. Это была просто человеческая близость, товарищество, сдержанное сочувствие и понимание, связующее самых обыкновенных людей, измученных одним и тем же страшным напряжением, ежечасно подвергающихся одной и той же страшной опасности. Все очень буднично, никакого драматизма. Билл и Том служат в одном взводе, или Джонс и Смит — младшие офицеры в одной роте. Если они — рядовые томми, они вместе выходят в наряд, в дозор, шагают гуськом на передовую, на смену тем, кто уже отсидел в окопе, выпивают в одном и том же кабачке и показывают друг другу фотографии матери или девчонки. А офицеры встречаются на дежурстве, вместе идут добровольцами на какую-нибудь рискованную вылазку, выручают друг друга, если надо соврать высокому начальству, обходятся одним денщиком на двоих, держатся рядом в бою, на отдыхе вместе ездят верхом и застенчиво рассказывают друг другу об оставшихся в Англии невестах или женах. Если их раскидало в разные стороны, они с месяц ходят хмурые и мрачные, а потом заводят новую дружбу. Но только отношения эти, как правило, очень настоящие, искренние и бескорыстные. Разумеется, такая дружба во Франции бывала крепче, чем в Англии, на фронте — сильней и глубже, чем в тылу. Должно быть, человеку необходимо кого-то любить — совершенно независимо от «любви» чувственной. (Говорят, заключенные в одиночке привязываются к паукам и крысам.) Солдат, а особенно солдат 1914-1918 годов, тот, кто воевал на чужой земле, оторванный от всех близких, от женщин и друзей, и не имел под рукой даже собаки, к которой он мог бы привязаться, волей-неволей должен был полюбить другого такого же солдата. Но лишь очень немногие остались друзьями после того, как война кончилась.
Я провел семь месяцев во Франции и месяц в отпуске и был настроен достаточно мрачно, когда меня затем отправили в учебный офицерский лагерь, расположенный в живописном, но глухом уголке Дорсета. Я уныло слонялся по лагерю в ожидании обеда (предстояло на время забыть окопные привычки и обедать по всем правилам хорошего тона) и столкнулся с другим таким же неприкаянным. Это был Джордж; его в тот день провожали на поезд Элизабет и Фанни (тогда я этого не знал), и потому он тоже был чернее тучи. Мы перекинулись несколькими словами, причем оказалось, что мы оба из экспедиционного корпуса (почти все остальные были из других частей) и жить будем в одной казарме. Оказалось также, что у нас есть кое-какие общие вкусы, и мы стали друзьями.
Джордж пришелся мне по душе. Начать с того, что он был единственный человек во всем этом чертовом лагере, кого интересовали не только выпивка, девчонки, гулянки, война, похабные анекдоты и гарнизонные сплетни. Джордж очень увлекался новой живописью. Когда он сам брался за кисть, получалась, по его словам, просто «нестоящая мазня», но до войны он неплохо зарабатывал, печатая в газетах критические заметки о живописи, и получал комиссионные, скупая для богатых коллекционеров картины современных художников, главным образом немцев и французов. Мы давали друг другу те немногие книги, которые захватили с собой, и Джордж пришел в восторг, узнав, что я напечатал две книжечки стихов и даже встречался с Йейтсом[34] и Маринетти[35]. Я рассказывал ему о новой поэзии, он мне — о новой живописи; и, думаю, мы помогли друг другу сохранить душу живую. Вечерами мы сражались в шахматы, а если погода стояла хорошая, отправлялись побродить. Джорджа не привлекало гулянье с девчонками, меня тоже. Поэтому в субботние вечера и по воскресеньям мы пускались в дальние походы по голым и все же красивым холмам Дорсета, обедали в какой-нибудь сельской гостинице получше и мирно распивали бутылку вина. Все это поддерживало наш «дух», потому что и он и я твердо решили про себя не поддаваться армейскому скотству. Бедняге Джорджу пришлось куда хуже, чем мне. Его больше тиранили, пока он был рядовым, он попал в худшую переделку во Франции, да еще мучился болезненной замкнутостью, не умел никому довериться, раскрыть душу — тому виной была нелепая семейная жизнь и его отвратительная мамаша. Я уверен, он за всю свою жизнь никому столько не рассказывал о себе, так что в конце концов я узнал о нем очень многое, если не все. Он рассказал мне об отце и матери, об Элизабет и Фанни, о своем детстве и о том, как он жил в Лондоне и в Париже.
Да, я полюбил Джорджа, и я ему благодарен, потому что он помогал мне сохранить человеческий облик, тогда как целый легион скотов старался меня растоптать. Конечно, и я ему помогал. Он был непомерно застенчив (мамаша подлейшим образом подорвала его веру в себя) и потому казался холодным и надменным. Но au fond[36] он был человек необыкновенно отзывчивый, непосредственный, немножко Дон Кихот. Потому-то он был так беспомощен с женщинами — они не признают и не понимают донкихотства, неизменной честности и совестливости, им кажется, что это либо слабость, либо маска, под которой скрывается какой-то дьявольски хитрый расчет. Но мужчина, человек, которому только и нужно, чтобы ему отвечали дружбой на дружбу, находил в Джордже обаятельного и верного товарища. Я был страшно рад, когда получил наконец офицерский чин и мог выбраться из этой гнусной дыры — учебного лагеря, но мне от души жаль было расставаться с Джорджем. Мы уговорились писать друг другу и просили назначения в один полк. Разумеется, нас отправили в разные части и уж конечно не туда, куда мы просили. Мы обменялись письмами, пока ждали на пересыльных пунктах отправки из Англии, и больше друг другу не писали. Но по странной прихоти военного министерства нас обоих назначили в одну бригаду, хотя и в разные батальоны. Мы обнаружили это почти через два месяца, случайно столкнувшись в штабе.
Вид Джорджа меня поразил, лицо у него было измученное, чуть ли не испуганное. Несколько раз я с ним встречался — то во время смены частей на позициях, то в штабе бригады, то в дивизионных тылах на отдыхе. В мае 1918 он казался совсем издерганным. В июле нашу дивизию перебросили на Сомму, но накануне отправки противник ночью атаковал расположение роты Джорджа, и это подействовало на него прескверно. С батальонного наблюдательного пункта (я был тогда офицером связи) я видел, какой огонь обрушился на тот участок, но не подозревал, что Джордж там. Несколько человек из его роты попали в плен, бригадный генерал изрядно раскричался, и это совсем перевернуло Джорджа. Я уговаривал его подать рапорт об отпуске, но он и слушать не хотел, ему казалось, что все его презирают и считают трусом.
В последний раз, как я уже говорил, я видел его в Эрми, в октябре 1918. Я вернулся из окопов и застал Джорджа в тыловом дивизионном лагере. В дежурке было свалено несколько парусиновых коек, и Джордж притащил одну для меня. Ночью, в темноте, во время воздушных налетов он говорил без умолку — мне казалось, это длится часами, – и я всерьез подумал, что он потерял рассудок. Наутро мы разошлись по своим батальонам, и больше я его не видел.
Джордж был убит ранним утром четвертого ноября 1918 года на дороге, ведущей из Ле Като в Баве. Он — единственный офицер, убитый в этом бою: и часу не прошло, как часть немцев побежала, а остальные сдались. Вечером я услыхал о случившемся, и, поскольку пятого бригаду отвели на «отдых», мой полковник разрешил мне вернуться на похороны Джорджа. Командир полка, где служил Джордж, рассказал мне, что его срезала пулеметная очередь. Вся его рота залегла, выжидая, пока летучий отряд минометчиков разделается с вражеским пулеметом, и вдруг, непонятно зачем, Джордж поднялся во весь рост, и его прошило добрым десятком пуль. «Экий остолоп», – сказал в заключение полковник и кивком простился со мной.
Гроб достать было невозможно, Джорджа завернули в одеяло и в британский флаг. У изголовья могилы стоял священник, по одну сторону — похоронная команда из солдат и сержантов роты Джорджа, напротив — офицеры его батальона. С ними, крайним слева, стал и я. Капеллан отчетливо и с чувством прочел заупокойную молитву. Артиллерийский обстрел в это время почти утих. Только одна наша батарея, расположенная примерно на милю ближе к противнику, тяжело, размеренно ухала, точно отдавая последний салют. Мы стали по стойке смирно, и тело опустили в могилу. Офицеры по очереди делали шаг вперед, отдавали честь и отходили от могилы. Потом протрубили вечернюю зорю — надрывающий душу, пронзающий сердце прощальный сигнал, в котором так беспощадно сменяют друг друга короткие, прерывистые вздохи и протяжные, скорбные рыдания. Не скрою, в эти минуты у меня не раз подступал ком к горлу. Можно как угодно честить армию, но когда умрешь, она обходится с тобой как с человеком… Солдатам дали команду рассчитаться, вздвоить ряды, и — правое плечо вперед — они зашагали восвояси; а офицеры побрели в столовую выпить…
Смерть героя! Какая насмешка, какое гнусное лицемерие! Мерзкое, подлое лицемерие! Смерть Джорджа для меня — символ того, как все это мерзко, подло и никому не нужно, какая это треклятая бессмыслица и никому не нужная пытка. Вы видели, как приняли смерть Джорджа самые близкие ему люди, – те, кто породил его, и те женщины, что его обнимали. Армия исполнила свой долг, но разве может армия оплакать каждого из миллионов «героев» в отдельности? Как могла та частица армии, которая знала Джорджа, оплакать его? На рассвете следующего дня мы уже гнались по пятам за отступающим противником и не останавливались до того самого дня, когда было заключено перемирие, – а потом каждому пришлось разбираться в путанице собственной судьбы и как-то налаживать свою жизнь.
В ту ночь в Венеции Джордж и его смерть стали для меня символом — и остаются символом поныне. Так или иначе мы должны примириться с миллионами смертей, искупить их, должны как-то успокоить убитых. Как это сделать, я и сам не знаю. Да, конечно, есть Две минуты молчания.[37] Но в конце концов две минуты молчания за целый год — это не так-то много, в сущности — ничто. Искупление… а как нам это искупить? Как искупить эту потерю — миллионы и миллионы лет жизни, озера и моря крови? Что-то осталось незавершенным — и это отравляет нас. Я, во всяком случае, отравлен, хоть меня и терзало все это, как терзает сейчас гибель бедняги Джорджа, из-за которого не терзалась, кроме меня, ни одна живая душа. Что же нам делать? Могильные плиты, надгробья, и венки, и речи, и лондонский Памятник павшим воинам… нет, нет, тут должно быть что-то другое, что-то внутри нас. Мы должны как-то искупить нашу вину перед мертвыми — перед убитыми, перед умерщвленными солдатами. Не они требуют этого, но что-то в нас самих. Большинство из нас этого не сознает, но совесть мучит нас, угрызения совести отравляют. Этот яд разъедает душу — в нас не осталось ни сердца, ни надежды, ни жизни, – такими стали и мы, военное поколение, и поколение, идущее нам на смену. Весь мир виновен в кровавом преступлении, весь мир несет на себе проклятие, подобно Оресту,[38] и обезумел, и сам стремится к гибели, точно гонимый легионом Эвменид. Мы должны как-то искупить свою вину, избавиться от проклятия, лежащего на тех, кто пролил кровь. Должны найти — где? как? – новую могущественную Афину Палладу, которая возвысила бы голос, оправдывая нас на каком-то новом Акрополе. Но пока мертвые отравляют нас и тех, кто идет за нами.
Вот почему я рассказываю о жизни Джорджа Уинтерборна — о человеческой единице, об одном только убитом, который, однако, стал для меня символом. Это — отчаянная попытка искупить вину, искупить пролитую кровь. Быть может, я делаю не то, что нужно. Быть может, яд все равно останется во мне. Если так, я буду искать иного пути. Но я буду искать. Я знаю, что меня отравляет. Не знаю, что отравляет вас, но и вы тоже отравлены. Быть может, и вы тоже должны искупить вину.
* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ *
Vivace
Совсем другая Англия — Англия 1890 года — и, однако, на удивленье та же. В чем-то неправдоподобная, бесконечно далекая от нас; а во многом — такая близкая, до ужаса близкая, сегодняшняя. Англия, чей дух окутан плотными туманами лицемерия, благополучия, ничтожности. Уж так богата эта Англия, уж такая это могущественная морская держава! А ее оптимизм, способный посрамить даже Стивенсона[39], а ее праведное ханжество! Королева Виктория оседлала волю народа; имущие классы прочно уселись на шее народа. В рабочем классе понемногу начинается брожение, но он еще слишком напичкан проповедями Муди и Сэнки,[40] еще весь под властью Золотого Правила: «Не забывай, Берт, дорогой мой, в один прекрасный день ты можешь стать во главе нашего предприятия». На мелких буржуа, особенно на торговое сословие, деньги сыплются прямо как из рога изобилия, и они молят господа — да продлит он наше беспримерное процветание. Аристократия пока еще петушится и не унывает. Еще в большом почете Знатность и Богатство, – Диззи[41] умер не так давно, и его романы еще не кажутся смехотворно старомодными, какой-то нелепой пародией. Интеллигенция эстетствует и поклоняется Оскару[42], или эстетствует и поклоняется Берн-Моррису[43], или исповедует утилитаризм[44] и поклоняется Хаксли с Дарвином.[45]
- Отправимся туда, где выпивка дешевле.[46]
- Где я на фунт в неделю роско-о-шно проживу!
- В мире столько всякой всячины,
- И мы, конечно, будем счастливы.
Консоли[47] опять поднялись в цене.
Лорд Клод Гамильтон возглавляет Адмиралтейство — и они с Уайтом строят, строят, строят.[48]
Строят величественные развалины.
Джордж Мур — изящный скандал в двуколке; Харди[49] — пасторально-атеистический скандал (никто еще не понял, что он смертельно скучен); Оскар исполнен небрежного высокомерия — и ах, как остроумен, и ах, как разодет!
Дивная старая Англия. Да поразит тебя сифилис, старая сука, ты нас отдала на съедение червям (мы сами отдали себя на съедение червям). А все же — дай, оглянусь на тебя. Тимон Афинский[50] видел тебя насквозь.
Уинтерборны не принадлежали к дворянскому роду, но часто вздыхали о каком-то былом великолепии, о каких-то никогда не существовавших благородных предках. Впрочем, это была благополучная буржуазная семья со средствами. Когда-то жили в Вустершире, затем переселились в Шеффилд. По женской линии принадлежали к методистской церкви[51], по мужской — к церкви англиканской. Молодому Джорджу Огесту — отцу нашего Джорджа — жилось недурно. Его мамаша, властная старая сука, задавила в сыне всякое мужество и самостоятельность, но в восьмидесятых годах прошлого века почти ни у кого не хватало ума посылать таких мамаш ко всем чертям. И Джордж Огест этого не сделал. Пятнадцати лет он сочинил религиозный трактат, в котором послушно изложил взгляды своей дражайшей матушки (и трактат был напечатан). Также в полном согласии со взглядами дражайшей матушки он стал первым учеником в классе. Ему очень хотелось поступить в Оксфорд, но он отказался от этой мысли: дражайшая матушка полагала, что это непрактично. И он сдал экзамены на поверенного: дражайшая матушка полагала, что ему нужна профессия и что в семье не мешает иметь своего юриста. Джордж Огест был третий сын своих родителей. Старший сын стал методистским священником, так как дражайшая матушка в первую брачную ночь и все время первой беременности молила господа бога наставить ее (разумеется, она никогда никому, даже собственному супругу не обмолвилась об этих неприличных обстоятельствах, но она и впрямь молила господа бога наставить ее) — и на нее снизошло откровение: ее первенец должен принять сан. И он принял сан, бедняга. Второй был живой, бойкий малый — дражайшая матушка сделала его совершенным бездельником. Оставался Джордж Огест, маменькин любимчик, которого она учила молиться боженьке, а добрейший панаша сек аккуратно раз в месяц, ибо в Писании сказано: кто пожалеет розгу — испортит чадо свое. Добрейший папаша не имел определенных занятий, проживал свое состояние, был вечно в долгах и провел последние пятнадцать лет своей жизни, вознося в саду молитвы богу англиканскому, пока дражайшая матушка у себя в спальне возносила молитвы богу Джона Уэсли[52]. Дражайшая матушка восхищалась милым благочестивым мистером Брайтом и великим мистером Гладстоном;[53] добрейший же папаша собирал и даже прочел все труды достопочтенного и высокоблагородного графа Биконсфилда[54], кавалера ордена Подвязки.
И все же Джорджу Огесту жилось недурно. А он больше ни о чем и не мечтал — лишь бы чувствовать себя недурно. В двадцать четыре года он стал самым настоящим дипломированным стряпчим, и тогда состоялся семейный совет. Присутствовали: дражайшая матушка, добрейший папаша, Джордж Огест. Никакой официальности, разумеется, – просто маленькое уютное семейное сборище после чаепития, у пылающего камина (в ту пору уголь в Шеффилде был дешев), репсовые занавеси задернуты, и в воздухе — ощущение мирного семейного счастья. Добрейший папаша открыл заседание:
— Ну, Джордж, ты уже взрослый. Мы с твоей дорогой мамочкой принесли большие жертвы, чтобы открыть перед тобою Поприще. Теперь ты — дипломированный адвокат, и мы гордимся, – ведь правда, мамочка, мы гордимся? – что у нас в семье есть свое юридическое светило…
Но разве могла дорогая мамочка уступить добрейшему папочке хотя бы подобие власти, хотя бы крохи почета в рамках Ограниченной Семейной Монархии? Она немедленно вмешалась:
— Твой папа совершенно прав, Джордж. Теперь вопрос в том, как ты намерен подвизаться на своем Поприще?
Мелькнула ли в бойком уме юного Джорджа Огеста мысль о бегстве? Или привычка к недурному житьишку и боязнь ослушаться дражайшей маменьки уже взяли в нем верх? Он пробормотал что-то о том, что хотел бы вступить в какую-нибудь старую, уважаемую адвокатскую контору в Лондоне. При слове Лондон дражайшая матушка встала на дыбы. Правда, в Лондоне почти постоянно пребывает мистер Гладстон, однако всем почтенным шеффилдским методистам хорошо известно, что Лондон — гнездилище порока, что там полным-полно театров и неприличных женщин. А кроме того, дражайшая матушка вовсе не собиралась так просто выпустить Джорджа Огеста из рук; нет-с, пускай его потрудится, пускай в поте лица доказывает, что он и вправду почтительный сын.
— Нет, Джордж, о Лондоне я и слышать не хочу. Если ты в этом ужасном городе собьешься с пути истинного, мое сердце будет разбито и горе сведет в могилу твоего убеленного сединами отца (добрейший папаша терпеть не мог, когда ему напоминали о его лысине). Подумай, каково нам будет услышать, что ты бываешь в театре!! Нет, Джордж, мы останемся верны родительскому долгу. Мы воспитали тебя в страхе божием, и ты должен остаться истинным христианином… — и пошла, и пошла…
Ну, и, разумеется, драгоценный Джордж Огест не поехал в Лондон. Он даже не завел собственной конторы в Шеффилде. Сошлись на том, что он никогда не женится (если не считать двух-трех шлюх, с которыми он тайком и не очень удачно имел дело во время своих тайных и не очень удачных кутежей в Лондоне, Джордж Огест все еще был девственником), он будет всегда жить подле дражайшей матушки, а также (об этом вспомнили в последнюю минуту) подле добрейшего папаши. Итак, дом немного перестроили. Пробили отдельный ход, и на новенькой двери появилась новенькая медная табличка, на которой было выгравировано:
ДЖ. О. УИНТЕРБОРН
адвокат
Джорджу Огесту были отведены три комнаты, в какой-то мере обособленные от остальной части дома, – спальня, приемная и уютный рабочий кабинет. Надо ли объяснять, что у Джорджа Огеста почти не было практики, если не считать тех редких случаев, когда его дражайшая матушка в порыве честолюбия добивалась, чтобы какая-нибудь ее приятельница поручила ему составить завещание или документ о передаче земельного участка в дар новой методистской часовне. Каким образом Джордж Огест убивал все остальное время, сказать трудно: должно быть, считал ворон, читал Диккенса и Теккерея, Булвера[55] и Джорджа Огеста Сала[56].
Так продолжалось года три-четыре. Дражайшая матушка помыкала Джорджем Огестом без зазрения совести; она присосалась к нему, как упырь, и была очень довольна жизнью. Добрейший папаша возносил в саду молитвы, читал романы достопочтенного, высокородного и прочая и был более или менее доволен жизнью. Джорджу Огесту жилось недурно, и он воображал себя ужасным повесой, потому что изредка ему удавалось улизнуть из дому и побывать в театре или провести времечко с шлюхой и потихоньку приобрести какое-нибудь издание Визетелли[57]. Но был тут один подводный камень, которого не предвидела дражайшая матушка. Добрейший папаша в юности получил весьма приличное воспитание и образование; каждый год он на месяц-другой отправлялся путешествовать, повидал и поле Ватерлоо, и Париж, и Рамсгейт[58]. После того как он сочетался браком с дражайшей матушкой, ему пришлось довольствоваться Мэлверком и Рамсгейтом, ибо отныне ему уже не разрешалось ступать на греховную землю континента. Однако так велика сила традиции, что Джорджу Огесту ежегодно предоставлялся месяц каникул. В 1887 году он побывал в Ирландии; в 1888 — в Шотландии; в 1889 — в краю озер и совершил паломничество к святым местам, где упокоились два немеркнущих гения — Вордсворт и Саути.[59] Но в 1890 году Джордж Огест совершил паломничество в патриархальный Кент, в край, где находилось поместье Дингли Делл[60] и где упокоился сэр Филипп Сидней[61]. А в патриархальном Кенте обитали сирены, подстерегавшие нашего Одиссея. Джордж Огест познакомился с Изабеллой Хартли и оглянуться не успел, как уже бесповоротно обязался жениться на ней — не спросясь у дражайшей матушки. Hic incipit vita nova.[62] Так появился на свет Джордж Уинтерборн-младший.
Семейство Хартли, вероятно, было куда забавнее Уинтерборнов. Уинтерборны за всю свою жизнь палец о палец не ударили и были уж до того чопорно, тошнотворно, слащаво-ханжески скучны… тошнотворней и скучнее не бывало и не найдется в наши дни семейства — не скажу живого или хотя бы чувствующего, но, во всяком случае, способного переваривать свои неизменные пудинги. Хартли — совсем другое дело. Это была заурядная семья небогатого армейского офицера. Папа Хартли обрыскал всю Британскую империю и повсюду таскал с собою маму Хартли, вечно брюхатую и вечно разрешавшуюся от бремени в самих неудобных и неподходящих местах — в пустыне египетской, на тонущем военном корабле, среди малярийных болот Вест-Индии, по дороге в Кандахар[63]. У них было немыслимое количество детей — умерших, умирающих и выживших, любого возраста и пола. В конце концов старик Хартли со своей тощей пенсией, крохотным «личным» доходом и оравой потомков, громоздящейся на его отнюдь не могучей шее, решил осесть в патриархальном Кенте, где жила родня его жены. Мне кажется, он был женат раза два или три, и все его жены оказались ужасно плодовитыми. Без сомнения, предыдущие миссис Хартли погибли от чрезмерно обильного деторождения, от «сверхплодовитости».
Изабелла Хартли была одной из дочерей капитана Хартли — не спрашивайте, которой по порядку и от которой из жен. Она была очень хорошенькая, бывает такая вот броская и немножко вульгарная красота: мнимонаивные карие глазки и ослепительная улыбка, прелестный турнюрчик, оборочки, «свежий румянец», «вся так и пышет здоровьем». Даже не очень-то искушенному Джорджу Огесту она казалась восхитительно невежественной. И при этом характер еще покруче, чем у дражайшей матушки, и вдобавок — великолепная, непревзойденная жизнеспособность, которая заворожила, ошеломила, взвинтила размазню Джорджа Огеста, любителя тишины и спокойствия. Никогда еще не встречал он подобной девушки. По правде сказать, дражайшая матушка и не позволяла ему ни с кем встречаться, кроме рыхлых методистских дам средних лет да «очень милых» юнцов и девиц, отличавшихся примерным, чисто методистским тупоумием и сонливостью.
И Джордж Огест влюбился без памяти.
Он остановился в деревенской гостинице, недорогой, тихой и уютной, и жил в свое удовольствие. В эти свои каникулы он (подсознательно) был так счастлив вырваться из-под маменькиного надзора, что чувствовал себя настоящим героем Булвера-Литтона. Мы сказали бы, что он распускает хвост; в начале девяностых годов, наверно, сказали бы, что он стал завзятым сердцеедом. Во всяком случае, он покорил сердце Изабеллы.
Хартли не распускали хвост. Они и не пытались скрыть ни свою бедность, ни вульгарность, которую внесла в семью третья (или, может быть, четвертая) миссис Хартли. Они обожали свинину и с благодарностью принимали от всех овощи и фрукты — дары, которые наши добросердечные провинциалы чуть ли не силой навязывают своим небогатым соседям. Они и сами возделывали обширный огород, фруктовый сад и разводили свиней. Они варили впрок варенье из сливы и черной смородины и обшаривали всю округу в поисках грибов; и в доме не знавали никаких «напитков», если не считать «капельку грога», которой папа Хартли втайне позволял себе полакомиться поздно вечером, дождавшись, пока его бесчисленные чада улягутся по трое, по четверо в одну постель.
Итак, Джорджу Огесту нетрудно было распускать хвост. Он ухитрился провести всех, даже Изабеллу. Он рассуждал о «моих родных» и о нашем загородном доме. Он рассуждал о своем Поприще. Он преподнес семейству Хартли несколько экземпляров методистского трактата, опубликованного им в пятнадцать лет. Он преподнес маме Хартли четырнадцатифунтовую банку дорогого (два шиллинга три пенса за фунт) чаю, по которому она вздыхала с тех самых пор, как они уехали с Цейлона. Он покупал Изабелле сказочные подарки — коралловую брошку, «Путь паломника»[64] в деревянном переплете (из дерева от двери приходской церкви, где некогда проповедовал Джон Беньян), индейку, годовую подписку на Приложение к Вестнику семьи, новую шаль, шоколадные конфеты по шиллингу шесть пенсов коробка, – и возил ее кататься в открытом ландо, которое пахло овсом и лошадиной мочой.
Хартли вообразили, что он богач. Джордж Огест чувствовал себя до того недурно и был до того exalt[65], что сам всерьез стал считать себя богачом.
Однажды вечером — то был прелестный сельский вечер, лимонно-золотистая луна освещала прелестные, девически нежные и округлые линии холмов и равнин, и соловьи, как безумные, свистали и щелкали в листве, – Джордж Огест поцеловал Изабеллу в густой тени живой изгороди и — храбрый малый — просил ее стать его женой. У Изабеллы, которая уже тогда отличалась пылким темпераментом, все-таки хватило ума не ответить поцелуем на поцелуй и не дать Джорджу Огесту понять, что и до него иные славные малые целовали ее, а может быть, пробовали зайти и подальше. Она отвернулась, так что он не видел ее лица, а только хорошенькую головку, причесанную a la маркиза Помпадур, и прошептала — да, именно прошептала, недаром она читала повести и рассказы, печатавшиеся в «Семейном уюте» и «Вестнике семьи»:
— Ах, мистер Уинтерборн, это так неожиданно!
Но затем здравый смысл и желание стать богачкой взяли верх над жеманством, почерпнутым из «Семейного уюта», и она промолвила (уж так тихо и скромно!):
— Я согласна!
Джордж Огест затрепетал от волнения, заключил Изабеллу в объятия, и они долго целовались. Она нравилась ему несравненно больше, чем лондонские шлюхи, но он осмелился только на поцелуи, не более того.
— Я люблю тебя, Изабелла! – воскликнул он. – Будь моей! Будь моей женой и свей для меня уютное гнездышко. Проведем нашу жизнь в опьянении счастья. О, если бы я мог сегодня с тобой не расставаться!
По дороге домой Изабелла сказала:
— Завтра ты должен поговорить с папой.
И Джордж Огест, который чем-чем, а уж джентльменом-то был во всяком случае, продекламировал в ответ:
- Я не любил бы так тебя,[66]
- Не возлюби я честь превыше.
На другое утро, как полагается, Джордж Огест явился к папе Хартли с бутылкой портвейна за три шиллинга шесть пенсов и со свежим окороком; долго он мычал, и краснел, и ходил вокруг да около (как будто старик Хартли не слыхал от Изабеллы, о чем пойдет речь!) — и наконец весьма торжественно и церемонно предложил взять на себя заботу о благополучии Изабеллы до той поры, пока смерть не разлучит их.
Быть может, папа Хартли отказал ему? Или заколебался? С величайшей готовностью, с радостью, с восторгом и упоением он тут же дал согласие. Он хлопнул Джорджа Огеста по плечу, – это чисто солдатское изъявление дружеской благосклонности удивило и слегка покоробило чопорного Джорджа Огеста. Папа Хартли объявил, что Джордж Огест ему по душе — именно такого человека он сам выбрал бы в мужья своей дочери, именно такой человек составит ее счастье, именно о таком зяте он, папа Хартли, всегда мечтал. Он рассказал два казарменных анекдота, отчего Джордж Огест приятно засмущался; выпил два полных стакана портвейна; и затем пустился рассказывать длиннейшую историю о том, как во время Крымской войны, будучи в чине прапорщика, он спас британскую армию. Джордж Огест слушал терпеливо, с истинно сыновним почтением; но проходили часы, а истории все не видно было конца, и он решился намекнуть, что надо бы сообщить добрую весть Изабелле и маме Хартли, которые (оба джентльмена об этом и не подозревали) подслушивали у замочной скважины, изнывая от нетерпения.
Итак, дам пригласили в комнату, и папа Хартли произнес небольшую речь в стиле старого генерала Снутера, кавалера ордена Бани, а затем папа поцеловал Изабеллу, и мама со слезами радости и восторга обняла Изабеллу, и папа чмокнул маму, и Джордж Огест поцеловал Изабеллу; и перед обедом их на полчаса оставили вдвоем — обед подавался в половине второго и состоял из отбивных котлет, картофеля, бобов, фруктового пудинга и пива.
Хартли все еще воображал, что Джордж Огест богат.
Однако, прежде чем покинуть патриархальный Кент, ему пришлось написать отцу и попросить десять фунтов, так как у него не было уплачено по счету в гостинице и не осталось денег на обратную дорогу. Он извещал добрейшего папашу о своей помолвке с Изабеллой и просил осторожно сообщить эту новость дражайшей матушке. «Отец моей невесты — старый воин, – писал Джордж Огест, – а сама она — прелестная девушка, кристально чистая душа, она нежно любит меня, а я ради нее готов сражаться, как тигр, и готов отдать за нее жизнь». Он ни словом не упомянул о том, что у Хартли нет ни гроша, что они вульгарны и алчны, что у них куча детей. Добрейший папаша совсем было вообразил, что Джордж Огест женится на наследнице знатного рода.
И добрейший папаша выслал Джорджу Огесту десять фунтов и осторожно сообщил дражайшей матушке о помолвке сына. Против всякого ожидания, она не слишком взбеленилась. Быть может, она даже на расстоянии почуяла неукротимую волю и решительность Изабеллы? Или подозревала, что сын потихоньку распутничает, и рассудила, что лучше уж законный брак, чем беготня к девкам? Возможно, она надеялась помыкать не только Джорджем Огестом, но и его женой, а ведь две жертвы куда приятнее, чем одна.
Она всплакнула и в этот вечер дольше обычного читала молитвы.
— Знаешь, папочка, – сказала она, – по-моему, нашим сыном руководило само провидение. Надеюсь, мисс Изабелла будет ему хорошей женой и не сочтет ниже своего достоинства штопать ему носки и смотреть за прислугой, хоть она и офицерская дочь. И, конечно, молодые должны жить здесь, у нас; поначалу я сама с удовольствием буду наставлять их в правилах семейной жизни и позабочусь, чтобы жена Джорджа была истинной христианкой. Бог да благословит их обоих!
Добрейший папаша — в конце концов он был не так уж плох — сказал только: «Гм!» — и написал Джорджу Огесту вполне достойное письмо; он обещал сыну двести фунтов, чтоб было с чем начинать семейную жизнь, и советовал провести медовый месяц в Париже или, может быть, на поле Ватерлоо.
Свадьбу сыграли весной в патриархальном Кенте. На торжество съехалось множество Уинтерборнов, в том числе, разумеется, родители Джорджа. Дражайшая матушка с ужасом, чтобы не сказать с омерзением, убедилась, что Хартли ведут себя «неприлично, да, да, неприлично!» — и даже добрейший папаша был ошеломлен. Но отступить без скандала было уже невозможно.
Провинциальная свадьба в 1890 году! О боги наших предков, что за зрелище! Увы, какая жалость, что в ту пору еще не изобрели кинематографа! Попробуйте представить себе это воочию. Обросшие бакенбардами старики в допотопных цилиндрах; старухи в турнюрах и чепцах. Молодые люди с обвислыми усами, с пышными бантами вместо галстука и, надо думать, в серых цилиндрах. Молодые женщины в кокетливых турнюрчиках и шляпках с цветами. И подружки невесты в белых платьях. И шафер. И Джордж Огест, вспотевший в своей новой визитке. И Изабелла — разумеется, «сияющая», в белом платье и с флердоранжем. И приходский священник, и подписание брачного контракта, и свадебный завтрак, и праздничный перезвон колоколов, и «отбытие»… Нет, это слишком горько, это так ужасно, что даже не смешно. Это непристойно. Я от души жалею Джорджа Огеста и Изабеллу, особенно Изабеллу. Что говорили колокола? «Спешите видеть……! Спешите видеть……!
Но Изабелла — это дрянцо — наслаждалась чудовищной церемонией. И подробно описала ее в письме к одному из своих «приятелей», которого она, в сущности, любила, но которому дала отставку ради «богатств» Джорджа Огеста.
«…День был пасмурный, но когда мы преклонили колена пред алтарем, солнечный луч проник в окно церкви и любовно осенил наши склоненные головы…»
Как они дошли до такого несусветного вздора? Но они дошли, дошли, дошли. И во все это они верили. Хоть бы они не принимали этого всерьез — тогда для них не все было бы потеряно. Но нет. Они верили в тошнотворный, слащавый, лицемерный вздор, верили. Верили со всей сверхчеловеческой силою, на какую способно одно только невежество.
Возможно ли измерить всю глубину невежества Джорджа и Изабеллы в час, когда они связали себя клятвой не расставаться, пока не разлучит их сама смерть?
Джордж Огест не знал, как зарабатывать на жизнь; понятия не имел о том, как обращаться с женщиной, не знал, как жить с женщиной под одной крышей, не знал, как спать с женщиной — даже хуже, чем просто не знал, потому что опыт, приобретенный им в общении с шлюхами, был скудный, гнусный и омерзительный; он не знал, как устроено его собственное тело, не говоря уже о теле женщины; представления не имел о том, как избегнуть зачатия;……. что означает понятие «нормальная половая жизнь»;……. не знал, что беременность — это болезнь, которая тянется девять месяцев, не подозревал, что роды должны стоить денег, иначе женщине не миновать тяжких страданий; не знал и не понимал, что женатый человек, который зависит от своих родителей и родителей жены, постыдно жалок и смешон; не знал, что заработать деньги на безбедное существование не так-то легко, даже если перед тобою и открыто Поприще; даже и здесь, на этом поприще — в профессии адвоката — его познания были весьма ограничены; он очень плохо разбирался в условиях человеческого существования и совсем не разбирался в человеческой психологии; ничего не смыслил ни в делах, ни в деньгах, – умел только их тратить; понятия не имел о том, как содержать дом в чистоте, сколько стоит провизия, как держать в руках топор или молоток, как обставить квартиру, не умел делать покупки, растопить камин, прочистить трубу, чтоб не загорелась сажа, не знал высшей математики, греческого языка, не умел браниться с женой, делать хорошую мину при плохой игре, накормить младенца, играть на рояле, танцевать, заниматься гимнастикой, не умел открыть банки консервов, сварить яйцо, не знал, с какой стороны ложиться в постель, когда спишь с женщиной, не умел разгадывать шарады, обращаться с газовой плитой, не знал и не умел еще бесчисленного множества вещей, которые необходимо знать и уметь женатому человеку.
Должно быть, скучнейшая была личность.
Что до Изабеллы — почти все человеческие знания оставались для нее книгой за семью печатями. Поистине загадка — что же она все-таки знала? Она даже не знала, как покупать себе платья, – мама Хартли всегда делала это за нее. Среди многого другого она не знала, в частности, как и почему рождаются дети; как спать с мужем; как притворяться, что при этом испытываешь наслаждение, когда на самом деле его не испытываешь; не умела шить, стирать, стряпать, мыть полы, вести хозяйство, покупать провизию, подсчитывать расходы, добиться послушания от горничной, заказать обед, рассчитать кухарку, определить, чисто ли убрана комната; не умела управляться с Джорджем Огестом, когда он не в духе; дать ему пилюлю, когда у него разыграется печень; кормить, купать и пеленать младенца; принимать гостей и отдавать визиты; вязать, вышивать, печь; отличить свежую селедку от протухшей и телятину от свинины; не знала, что не следует готовить на маргарине; не умела постелить постель; следить за собственным здоровьем, особенно во время беременности; отвечать с кротостью, дабы отвратить гнев, как сказано в Писании; содержать дом в порядке; не счесть всего, чего еще она не знала и не умела и что непременно надо знать и уметь замужней женщине.
(Право, не знаю, как бедняга Джордж вообще ухитрился появиться на свет) Впрочем, и Джордж и Изабелла умели читать и писать, молиться богу, есть, пить, умываться и наряжаться по воскресным дням. И оба неплохо знали Библию и молитвенник.
И потом, у них была «ах, любовь»! Они «ах, любили» друг друга. Любовь — это главное, она возместит всю глупость невежества, она будет кормить и поить их, усеет их путь розами и фиалками. Ах-любовь и бог. Потерпит неудачу любовь — останется бог, не преуспеет бог — останется ах-любовь. По всем правилам, я полагаю, бог должен бы стоять на первом месте, но в 1890 году брак состоял сплошь из ах-любви и бога, так что было уже не до здравого смысла, не до азбучных истин и сведений о том, что такое пол, и не до каких-либо иных сведений, которые мы, мерзкие современные декаденты, считаем обязательными для всех мужчин и женщин. Прелестная Изабелла, дорогой Джордж Огест! Они были уж так молоды, уж так невинны, уж до того чисты! И разве, по-вашему, адские муки — не слишком слабое возмездие для безмозглых слюнявых лицемеров обоего пола в устрашающих бакенбардах или в пышных чепцах, – для тех, кто послал эту пару навстречу своей судьбе? О Тимон, Тимон, почему не дано мне твое красноречие! Кто осмелится, – где тот зрелый муж, что, не покривив душой, осмелится встать и сказать……? Не дайте мне сойти с ума, о боги, не дайте мне сойти с ума.
Медовый месяц они провели не в Париже и не на поле Ватерлоо, а на одном из курортов Южного побережья, в прелестном уголке, где Изабелла всегда мечтала побывать. Им надо было проехать десять миль лошадьми до железной дороги и затем два часа поездом, который останавливался на каждой станции. Усталые, смущенные и разочарованные, они остановились в скромной, но почтенной гостинице, где заранее заказан был двойной номер.
Первая брачная ночь жестоко обманула их надежды. Впрочем, этого и следовало ожидать. Джордж Огест старался быть пылким и восторженным, но оказался неуклюжим и грубым. Изабелла старалась быть скромно послушной и покорной, а была просто неловкой. Джордж Огест неумело изнасиловал ее, доставив много лишних, бессмысленных страданий. И, как многие прелестные новобрачные в доброй старой Англии в золотые дни славной королевы Викки, она долгие часы лежала без сна, вытянувшись на спине рядом с храпящим Джорджем Огестом и думала, думала, и слезы медленными ручейками стекали у нее по вискам на подушку…
Это слишком мучительно, поистине, слишком мучительно — вся эта дурацкая «чистота», и лицемерие, и ах-любовь, и невежество. И глупые невежественные девушки, отданные во всем своем прелестном неведении невежественным и неловким молодым людям, которые по своему невежеству, мучают и терзают их. Слишком больно об этом думать! Бедная Изабелла! Какое посвящение в тайны супружества!
Но, разумеется, у этой ужасной ночи были последствия. Прежде всего она означала, что брак законным образом завершился и не может быть расторгнут без вмешательства суда по бракоразводным делам, – уж не знаю, можно ли было добиться развода в золотые дни великого мистера Гладстона, да благословит его бог и да будет ему жарко в аду. И затем она привела к тому, что Изабелла до конца дней своих старалась избегать физической близости с Джорджем Огестом; а так как она была женщина отнюдь не холодная, будущее оказалось чревато двадцатью двумя любовниками. И, наконец, Изабелла была здорова, насколько может быть здоровой молодая женщина, вынужденная затягиваться в невыносимо тугие корсеты и носить, в ущерб чистоте и пользе, длиннейшие волосы и длиннейшие юбки и весьма смутно представляющая себе, что такое гигиена пола, – а потому эта nuit de reve[67] наградила ее первым ребенком.
2
Младенца нарекли Эдуард Фредерик Джордж: Эдуард — в честь принца Уэльского (впоследствии его величество король Эдуард VII), Фредерик — в честь деда, Джордж — в честь отца.
Изабелла хотела назвать его Джордж Хартли, но дражайшая матушка позаботилась о том, чтобы от Хартли в ее внуке было поменьше.
Тягостно думать о том, как Изабелла и Джордж Огест провели первые годы совместной жизни. Она началась обманом — прежде всего потому, что к этому принудили их родители и общественные условности; к сожалению, они и в дальнейшем строили ее на обмане. Обоих не только жестоко разочаровала та ужасная ночь после свадьбы, обоим отчаянно надоел весь медовый месяц. На этом прелестном курорте, о котором так мечтала Изабелла, скука царила смертная. Джордж Огест даже самому себе не хотел признаться, что к роли мужа он почти так же плохо подготовлен, как к обучению белых мышей военным маневрам. Изабелла в глубине души понимала, что первый шаг оказался неудачным, – понимала скорее чутьем, чем рассудком, – но самолюбие заставляло ее молчать. Она прекрасно понимала, что в неудаче обвинят ее же и что ей не от кого ждать сочувствия, меньше всего — от своих родных. Разве не вышла она счастливо замуж за человека, который ее ах-полюбил, – ах, брак по любви! – да еще за богача? Итак, она утешала себя мыслью, что Джордж Огест богат, и оба они, как и положено в медовый месяц, писали восторженные лживые письма родным и знакомым. А раз ступив на путь, уводящий прочь от честности и уменья смотреть правде в глаза, они попались на всю жизнь — теперь они тоже обрекли себя на безрадостное существование во лжи и ax-любви. Ох уж эта болтовня о боге и о любви! Родители Изабеллы вечно грызлись между собой — как это не послужило ей предостережением? Как не замечал Джордж Огест, что под тонкой пленкой благочестия и супружеского согласия, будто бы связующего дражайшую матушку и добрейшего папашу, кипит ключом неукротимая ненависть? Почему никто из них не попытался вырваться и устроить свою жизнь как-то иначе и хоть немного лучше? Но нет, они пошли по проторенной дорожке: у них есть ax-любовь, есть бог, а стало быть, все будет к лучшему в этом лучшем из миров.
Пока длился медовый месяц, Джордж Огест продолжал разыгрывать богача. За неделю до свадьбы ему впервые в жизни разрешили открыть собственный текущий счет в банке. Добрейший папаша положил на его имя двести фунтов, но дражайшей матушке они с Джорджем сказали только про двадцать. К этому дражайшая матушка прибавила от щедрот своих еще пять фунтов — на черный день, хотя только бог и ах-любовь ведают, спасут ли такие крохи в черный день. Итак, счастливые молодожены начали новую жизнь, имея двести пять фунтов и ни малейшей надежды заработать хоть грош, – разве что Джордж Огест перестанет разыгрывать богача, откажется от тишины и уюта, решится взглянуть правде в глаза и помаленьку примется за дело.
За время медового месяца они потратили немало — гораздо больше, чем следовало. В кошельке у Джорджа Огеста была куча соверенов и две бумажки по пять фунтов, и он ими невыносимо чванился. Изабелла никогда еще не видела столько денег сразу и больше прежнего уверовала в богатство своего супруга. Посему она немедленно принялась рассылать «полезные подарки» бесчисленным членам оскудевшего семейства Хартли; и Джордж Огест, хоть и не без досады — по природе он был скуповат, – не мешал ей. Всего они истратили за две недели тридцать фунтов, а после того как куплены были билеты первого класса до Шеффилда, от вторых пяти фунтов почти ничего не осталось.
Первым тяжким ударом для Изабеллы оказалась первая брачная ночь. Второй удар испытала она при виде неказистого закопченного домишки «богачей» Уинтерборнов — по всей улице стояли точно такие же разрекламированные на все лады десятикомнатные виллы из желтого кирпича. Третьим ударом было открытие, что Джордж Огест ни гроша не зарабатывает на своем Поприще, что у него нет других денег, кроме остатка от пресловутых двухсот пяти фунтов, и что Уинтерборны вряд ли многим богаче Хартли.
Горькие дни настали для бедной Изабеллы, когда она в этом унылом доме ждала первого ребенка; ее супруг считал ворон, сидя уже не в своем «уютном кабинете», как до женитьбы, а в «конторе», и делал вид, что работает, добрейший папаша читал молитвы, а дражайшая матушка с ядовитой улыбочкой шпыняла и язвила ее на каждом шагу. Горькие дни, когда по утрам ее тошнило, а свекровь уверяла, что «пошаливает печень».
— Это все чересчур обильная и жирная еда, – говорила она невестке. – Вы-то, милочка, не привыкли дома к такому роскошному столу. – И прибавляла игриво и колко: — Видно, придется нам просить вашего дорогого муженька, чтобы он своей супружеской властью немножко сдержал ваш аппетит.
А на самом деле у Хартли стол был грубый, без затей, но куда более сытный и разнообразный, чем изысканно тощее меню дражайшей матушки, которая тряслась над каждой черствой коркой.
И, конечно, пошли перебранки и свары. Изабелла взбунтовалась и обнаружила первые признаки неукротимого нрава и уменья злобно и изобретательно браниться, – впоследствии она достигла гималайских высот в этом мало приятном для окружающих искусстве. Даже дражайшая матушка нашла в ней достойную противницу — но перед тем она почти два года мучила Изабеллу, отравляла ей жизнь и портила характер. Да благословит тебя бог, дражайшая матушка, ты «молила бога наставить тебя на путь истинный», ты «хотела только добра» — и превратила Изабеллу в первоклассную суку.
Джордж Огест был огорчен, глубоко огорчен и изумлен этими ссорами. Ему все еще жилось недурно, и он не понимал, чего не хватает Изабелле.
— Будем по-прежнему жить дружной семьей, – повторял он, – будем снисходительны друг к другу. Каждый из нас несет бремя забот (например, считает ворон и читает толстые романы) — и нужно только немножко больше Любви и Снисхождения. Надо молиться, чтобы господь дал нам Силы и наставил нас на Путь истинный.
Поначалу Изабелла выслушивала эти проповеди довольно кротко. Она верила, что должна «почитать» своего супруга, и ей все еще внушал робость его неизменный тон превосходства, позаимствованный у героев Булвера-Литтона. Но однажды ее не слишком надежная выдержка изменила ей, и она высказала Уинтерборнам все, что о них думала. Джордж Огест — трус, негодяй и обманщик! Никакой он не богач! Он — нищий, беднее церковной крысы! А еще важничал, делал вид перед ее отцом, будто он богатый джентльмен и у него есть Поприще, а на самом деле не зарабатывает ни гроша и женился на двести фунтов, которые дал ему папаша! Она не вышла бы за него, нипочем не вышла, если бы он не улещал ее подарками и катаньями в коляске и не врал, будто сделает ее настоящей знатной леди! Лучше бы ей умереть, чем выйти за него, да, да, лучше бы ей умереть! Лучше бы ей вовек не знать никаких Уинтерборнов!
Вот тут-то и поднялась буря! Вмешалась дражайшая матушка. Затаив до времени in petto[68] громы и молнии по адресу мужа и сына (оба преступника оцепенели, пораженные ужасом оттого, что обман с двумястами фунтами раскрылся), она обрушила шквальный огонь на обезоруженную Изабеллу. Изабелла неотесанна и груба, она дурная христианка, дурно воспитана и необразованна, она корыстная душа, – сама в этом призналась! – коварно соблазнила Джорджа Огеста, женила его на себе и тем загубила его жизнь и его блестящую карьеру…
Тут Изабелла упала в обморок, и, к великому несчастью для нашего Джорджа, опасность выкидыша миновала — благодаря не столько неумелым заботам мужа, свекра и свекрови, сколько здоровью и жизнеспособности самой Изабеллы. Один лишь добрейший папаша был искренне огорчен и пустил в ход все жалкие крохи своего влияния, чтобы хоть как-то защитить Изабеллу. Джордж Огест — тот сразу пал духом и только беспомощно лепетал:
— Матушка! Изабелла! Будем любить друг друга! Будем жить в согласии! Будем облегчать друг другу бремя наших забот!
Но его сбило бурным потоком ненависти, вырвавшейся из самой глубины двух душ во время этой поучительной сценки. Даже дражайшая матушка забыла о своем диссидентском лицемерии[69] и вновь вспомнила о нем, лишь когда Изабелла упала в обморок.
По совету добрейшего папаши, Джордж Огест на деньги, оставшиеся от пресловутых двухсот фунтов, увез Изабеллу к морю; так случилось, что Джордж родился в приморской гостинице.
Роды были трудные; помогали роженице плохо и неумело. Изабелла мучилась около сорока часов. Не будь она здорова, как молодая кобыла, ей бы уж конечно не выжить. А пока она страдала и мучилась, Джордж Огест возносил молитву за молитвой, совершал короткие прогулки, читал Лорну Дун[70], за завтраком и обедом выпивал полбутылочки кларета и спокойно спал по ночам. Когда ему наконец позволили войти на цыпочках и взглянуть на полумертвую женщину, подле которой лежал ужасный, багровый, туго спеленатый в крохотный сверток младенец, Джордж Огест поднял руку — и благословил их обоих! Затем на цыпочках вышел, спустился в столовую и в честь столь знаменательного события заказал к обеду целую бутылку кларета.
3
Изабелла и Джордж Огест приводят меня в такое уныние, что я жажду поскорей от них отделаться. Но ведь не зная родителей, нельзя понять и самого Джорджа. И потом, в чете Уинтерборнов-старших есть для меня даже какая-то притягательная сила, – такую они вызывают ненависть и презрение. Я силюсь понять, откуда такая беспросветная тупость и ограниченность? Почему они даже не пытались вырваться из этой лжи и обмана? Почему нимало не стремились стать самими собой? Да, разумеется, наши великодушные потомки будут задавать себе те же вопросы относительно нас; но должны же они все-таки увидеть, что мы-то боролись, мы воевали с ложью и грязью жизни, с ветхими, истертыми прописями, как воевал и Джордж-младший. Быть может, Изабелла и пыталась сопротивляться, но сила инерции и неудержимая злость взяли верх. Быть может, двадцать два любовника и болтовня об агностицизме и социализме (в которых она отродясь и до старости ровно ничего не смыслила) были для Изабеллы своего рода протестом. Но ее окончательно сразили причины экономические — причины экономические да еще ребенок. Говорите что хотите, но бедность и ребенок в любой женщине подавят волю к самоутверждению и наиболее полному развитию своей личности, – а если не подавят, то извратят. Они озлобили Изабеллу, исказили ее душу. Что до Джорджа Огеста — сомневаюсь, чтобы в нем оставались воля и стремление к чему бы то ни было, – разве только стремление жить недурно. Если он и достиг чего-то в жизни, то лишь потому, что этого хотела и к этому вынуждала его Изабелла. В сущности, он был просто дрянь. А так как Изабелла была невежественна, упряма, непомерно тщеславна, а нежные заботы дражайшей матушки еще и озлобили и ожесточили ее, она тоже стала дрянью по милости Джорджа Огеста. Однако я куда больше сочувствую Изабелле, чем Джорджу Огесту. В ней когда-то было что-то человеческое. А Джордж Огест и не был никогда человеком, он просто лодырь, нехищная разновидность жука-богомола, пустое место, нуль, который становится величиной, лишь если рядом стоит какая-то другая цифра.
Когда Изабелла поправилась настолько, что могла уже выдержать переезд, – а может быть, немного раньше, – они, уехавшие вдвоем, возвратились домой втроем. Между ними появилось еще одно звено — не столько связующее, сколько разделяющее. Они стали «семьей», извечным треугольником отец-мать-ребенок, – а это сочетание гораздо более сложное и неприятное, в нем гораздо труднее разобраться, и оно чревато куда большими бедами, чем пресловутый треугольник муж-жена-любовник. После девяти месяцев близости Изабелла и Джордж Огест только-только начали привыкать друг к другу и к любви, как возникло это новое осложнение. Чутье подсказывало Изабелле, что к нему тоже надо как-то привыкать, применяться, а благодаря ей и Джордж Огест смутно заподозрил, что в их жизни что-то меняется. Итак, он принялся усиленно читать молитвы и всю дорогу от Южного побережья до Шеффилда внушал Изабелле, что семейству следует жить в любви и согласии, что каждый должен помогать другому нести бремя забот, что у них есть Ах-любовь, но им нужно обрести еще Терпение и Снисходительность. Не хотел бы я — боже упаси! – оказаться на месте Изабеллы, но я был бы не прочь минут пять поговорить за нее с Джорджем Огестом и выложить ему все, что я думаю, в ответ на это его слащаво-миротворческое, непроходимо-дурацкое лицемерие.
Итак, они возвратились втроем, и тут все снова пошли вздыхать, и пускать слезу, и читать молитвы, и просить бога наставить их на путь истинный, и благословлять ничего не понимающего Джорджа (он был еще слишком мал и не мог показать им кукиш, – за него это сделаем мы, его посмертные крестные отцы и матери). Горькое разочарование в супружеской жизни, когда пошли прахом все ее иллюзии и честолюбивые мечты, и отменное здоровье при совершенной неразвитости умственной и духовной сделали Изабеллу превосходной матерью. Она и впрямь полюбила жалкий, крохотный кусочек мяса, зачатый в горе и разочаровании, в номере скучной гостиницы, в скучном городишке, на скучном Южном побережье скучной страны Англии. Она щедро изливала на младенца свою любовь и заботу. Когда она кормила маленького Джорджа и он теребил ее грудь, она испытывала наслаждение несравнимо более острое и утонченное, чем от неуклюжих ласк Джорджа Огеста. Она была точно самка зверя с детенышем. Джордж Огест мог сколько угодно бахвалиться перед своим добрейшим папашей, будто он «готов сражаться, как тигр, за свою дорогую Изабеллу», – а вот Изабелла и в самом деле готова была драться — и дралась — за своего малыша, как норовистая, бодливая, трогательная и безмозглая корова. Едва ли можно считать это достижением, но она спасла маленькому Джорджу жизнь — спасла его для немецкого пулемета.
На время в закопченном домишке в Шеффилде воцарился мир: Изабелла явно была еще очень слаба, и, как ни говорите, появление первого внука — немаловажное событие. Добрейший папаша был в восторге от маленького Джорджа. Он купил пять дюжин портвейна, чтобы сохранить их до совершеннолетия внука, и тут же начал полегоньку к ним прикладываться, «чтобы проверить, хорош ли букет». Он подарил Джорджу Огесту пятьдесят фунтов, которых у него не было. И каждый вечер, когда Изабелла укладывала малыша спать, дед со всей торжественностью дарил ему на прощанье свое благословение.
— Я знаю, бог благословит его! – внушительно произносил добрейший папаша. – Бог благословит всех моих детей и всех моих потомков!
Можно было подумать, что он — сам патриарх Авраам или личный советник господа бога; впрочем, сам он, наверно, думал, что так оно и есть.
Даже дражайшая матушка на время попритихла. «Младенец укажет им путь»,[71] — ядовито цитировала она; и Джордж Огест, вдохновясь этими святыми словами, сочинил еще одну диссидентскую брошюрку на тему о любви и согласии в семейной жизни.
Первые четыре года своей жизни Джордж провел среди вечных перебранок, бестолковщины и скаредности, – всего этого он, конечно, не сознавал, а для того чтобы измерить, насколько от этого пострадало его подсознание, понадобился бы более опытный психолог, чем я. Могу себе представить, что влияние дражайшей матушки и добрейшего папаши вкупе с папой и мамой Хартли, а также и самих Изабеллы и Джорджа Огеста оказалось тяжкой гирей на его ногах, когда он впервые вышел на беговую дорожку жизни. Я бы сказал, что у Джорджа в этом забеге не было ни малейшей надежды завоевать приз, и ставить на него пришлось бы разве что семь против ста. Но мое дело — как можно добросовестнее излагать события, а читатель пускай сам делает выводы и подсчитывает все «за» и «против».
Джорджу не исполнилось еще и полгода, а в шеффилдском доме уже снова с удвоенной силой и злостью разгорелись брань и свары. Дражайшая матушка была убеждена, что отстаивает от самозванки и собственную власть, и учение преподобного Джона Уэсли. Изабелла воевала за себя и своего ребенка и — хотя сама она этого и не понимала — за те крупицы человеческого, которые, может быть, еще уцелели в Джордже Огесте.
К этому времени Джордж Огест стал уже совершенно невыносим. Некто Генри Балбери, которого он знавал еще студентом, возвратился в Шеффилд, купил адвокатскую практику и теперь преуспевал. Джорджу Огесту нечего было и думать с ним тягаться. Балбери прослужил три года в конторе одного лондонского стряпчего и уж так пускал пыль в глаза, словно в его, мистера Балбери, лице соединились лорд-канцлер, красавчик Брюммель и граф д'Орсей[72] лета от рождества Христова 1891. Балбери похлопывал Джорджа Огеста по плечу, а Джордж Огест смотрел ему в рот и вилял хвостиком. Балбери знал наперечет все модные пьесы, и самых модных актрис, и модные книги. Он так и покатился со смеху, увидев, что Джордж Огест читает Диккенса и Лорну Дун, и познакомил его с Моррисом[73], Суинберном[74], Росетти[75], Рескином[76], Харди, Муром и молодым Уайльдом. Джордж Огест пришел в величайшее волнение и сделался эстетом. Однажды на лекции заехавшего в Шеффилд Пейтера[77] он был столь потрясен изумительными Пейтеровыми усами, что лишился чувств, и его пришлось отвезти домой на извозчике. Наконец-то Джордж Огест обрел свое призвание. Он понял, кто он такой: мечтатель, опоздавший родиться, дитя иного века! Ему бы, подобно Антиною[78], под звуки флейт и виол плыть с императором Адрианом по медлительным водам вечного Нила! Ему бы восседать под благоухающим шелковым балдахином на троне рядом с Зенобией[79], и пусть бы вереницы нагих чернокожих рабов с мускулистыми телами, лоснящимися от нарда и масел, слагали к его ногам сокровища пышного Востока. Он принадлежит седой древности. Он утонченнее самой прекрасной музыки; и в малейшем оттенке света, в движении теней, в изменчивых очертаниях гонимых ветром облаков таится для него глубокий смысл! В душе его оживали предания Вавилона и Тира, и он оплакивал трагическую гибель прекрасного Биона[80]. В Афинах, увенчанный фиалками, он возлежал на пиру и слушал, как Сократ рассуждает с Алкивиадом о любви.[81] Но сильнее всего была в нем безмерная страсть к Флоренции средних веков и Возрождения. Он никогда не бывал в Италии, но любил хвастать, что досконально изучил план дорогого его сердцу города и не заблудился бы во Флоренции даже с завязанными глазами. Он не знал ни слова по-итальянски, но громогласно восторгался Данте и «его кружком»[82], критиковал Гвиччардини[83] за чрезмерную педантичность, опровергал Макиавелли[84] и был первым (после Роско[85]) авторитетом во всем, что касалось эпохи Лоренцо Великолепного и Льва X.
В один прекрасный день Джордж Огест объявил родным, что он решил оставить свое Поприще и посвятить себя служению литературе.
В английском семействе возможны подчас размолвки — ведь и лучшим друзьям случается повздорить, – но уж если дело серьезное, семейство всегда заодно. На этот счет, слава богу, пока можно не беспокоиться: всякое английское семейство единодушно выступит против любого из своих членов, который осмелится погрязнуть в бесстыдстве Литературы и Искусства (если не считать той чистой литературы, где действуют шейхи, да изысканных картин какого-нибудь преданного традициям Милле[86]). Пусть подобными непристойностями занимается бесстыжий континент, в нашем отечестве это пристало лишь каким-нибудь выродкам и декадентам, и не мешало бы полиции применить к ним самые суровые меры, дабы очистить нашу жизнь от скверны, вносимой этими скандалистами. Великая английская средняя буржуазия, эта ужасная несокрушимая опора нации, изволит признавать только искусство и литературу, которые устарели на полстолетия, выхолощены, оскоплены, обстрижены цензурой, подслащены ложью и сентиментальным вздором, как то угодно энглизированному Иегове. Английский обыватель все еще представляет собою незыблемый оплот филистерства — тот самый, о который тщетно бился Байрон и над которым бессильны были взлететь даже крылья Ариеля[87]. Итак, берегись, мой друг. Спеши надеть елейную маску истинно британского лицемерия и страха перед жизнью, или — так и знай — тебя раздавят. Ты можешь ускользнуть на время. Тебе покажется, что тут возможен компромисс. Ошибаешься. Либо тебе придется продавать им душу, либо ее раздавят. Или же стань изгнанником, беги на чужбину.
Вероятно, во времена Джорджа Огеста дело обстояло еще хуже, но в конце концов он был просто шут гороховый и не стоил того, чтобы о нем сокрушаться. Но вот в Изабелле ключом били жизненные силы — и надо бы им найти выход, а не держать под спудом, чтобы они обратились в свирепый яд. И жалкие попытки Джорджа Огеста заделаться эстетом и служить литературе тоже говорят о чем-то, о какой-то внутренней борьбе, о стремлении создать какую-то свою жизнь. Разумеется, это было бегство, робкое, беспомощное желание ускользнуть в страну грез; но окажись вы в шкуре Джорджа Огеста и живи под эгидой дражайшей матушки в Шеффилде 1891 года, вы бы тоже всей душой жаждали ускользнуть. Изабелла воспротивилась этой новой блажи Джорджа Огеста, потому что она тоже хотела сбежать. А для нее бегство было возможно лишь в одном случае — если бы Джордж Огест заработал достаточно, чтобы они с ребенком могли уйти от дорогих родителей и зажить своей семьей. Изабелла считала, что прерафаэлиты — безмозглые слюнтяи, и была не так уж далека от истины. Она считала Томаса Харди писателем чересчур мрачным и безнравственным, Джорджа Мура — чересчур легкомысленным и безнравственным, а молодого Уайльда — чересчур нездоровым и безнравственным. Но читала она их бессмертные книги лишь мимоходом, урывками — зато в ней жила глубочайшая, бессознательная, но непоколебимая уверенность, что у Джорджа Огеста отныне должна быть лишь одна цель в жизни: обеспечить ее и ее ребенка и увезти их подальше от Шеффилда и от дражайшей матушки.
Добрейший папаша и дражайшая матушка тоже считали новое увлечение Джорджа Огеста бессмысленным и безнравственным. Дражайшая матушка, прочитав первые страницы одного из романов Харди, отнесла «эту непристойность» на кухню и спалила. Разразился ужасный скандал. Поддерживаемый коварным Балбери (который до того не переносил дражайшую матушку, что даже уступил Джорджу Огесту несколько мелких и не слишком интересных для него самого дел, и таким образом дал ему возможность заработать за полгода семьдесят фунтов), Джордж Огест, прежде ни разу не пытавшийся отстоять собственную независимость, не вступавшийся ни за Изабеллу, ни за что-либо действительно важное, теперь вступился за Томаса Харди и за свою фальшивую, жалкую позу эстета. Он запер все свои драгоценные новомодные книги в шкаф и не расставался с ключом. И долгие часы проводил за «служением литературе», затворившись в своем «уютном кабинете», а громы и молнии оскорбленного семейства бессильно бушевали за дверью. Но Джордж Огест был тверд, как скала. Он накупил себе «артистических» галстуков, чуть ли не каждый вечер встречался с Балбери и продолжал «служить литературе». Злодей Балбери дошел в своих кознях до того, что уговорил какого-то своего приятеля, из любви к искусству издававшего в Лондоне журнальчик эстетствующего направления, напечатать статью Джорджа Огеста под заглавием «Клеопатра — чудо, живущее в веках». За эту статью Джорджу Огесту заплатили целую гинею, и все семейство на неделю притихло в почтительном изумлении.
И все же ими владел такой злобный страх перед Неведомой Непристойностью, что скандалов было не миновать. А так как Джордж Огест, не желая, чтобы с ним скандалили, наглухо запирался в своем уютном кабинете и почти не выходил оттуда, даже когда дражайшая матушка властно стучалась в дверь и громко напоминала ему о его долге перед господом богом, родной матерью и обществом, то скандалы неминуемо разыгрывались между дражайшей матушкой и Изабеллой.
Однажды ночью, когда Джордж Огест уже спал, Изабелла тихонько поднялась и стащила у него из кошелька пять фунтов. Наутро она, как обычно, вышла с ребенком на прогулку, добралась с ним до железной дороги и сбежала в патриархальный Кент к папе и маме Хартли. Это был, разумеется, не самый дерзкий поступок в жизни Изабеллы — впоследствии ей случалось сгоряча выкидывать еще и не такое, – но, с ее точки зрения, быть может, самый разумный. Это первая из ее отчаянных попыток принудить Джорджа Огеста к действию. Это было ему напоминанием, что он взял на себя известную ответственность, а ответственность — это сама жизнь, и от нее нельзя уклоняться до бесконечности. Артиллерийским обстрелом Изабелла заставила его вылезти из блиндажа маменькиной тирании и в конце концов зенитным огнем согнала с эмпиреев эстетства и «служения литературе».
Но Изабелла не уронила ни себя, ни Джорджа Огеста в глазах семейства Хартли. Она рассчитала — и совершенно правильно, – что он тотчас примчится за нею из страха перед тем, «что скажут люди». И она телеграммой известила папу с мамой, что приедет на несколько дней повидаться с ними (они уже привыкли к ее неожиданным выходкам и ничуть не удивились), а Джорджу Огесту оставила в спальне на туалетном столике записку, трагически закапанную самыми настоящими (не поддельными) слезами. Она повезла родным кое-какие недорогие подарки и так хорошо играла роль, что на первых порах даже мама Хартли лишь очень смутно подозревала неладное.
Любящее и дружное семейство в Шеффилде было несколько испугано, когда Изабелла не вернулась к завтраку; но всеми овладел настоящий ужас, – а дражайшей матушкой, разумеется, бешенство, – когда Джордж Огест обнаружил записку Изабеллы и сообщил родителям ее содержание.
— Ее надо немедленно разыскать и вернуть, – решительно объявила дражайшая матушка, тотчас почуяв, что предстоит кровопролитие. – Она опозорила себя, она опозорила своего мужа и опозорила семью. Я давно замечаю, что она рассеянна за молитвой. Хороший урок пойдет ей на пользу. Несчастье для всех нас, что Огест женился на женщине не нашего круга. Пусть теперь едет и извлечет ее из этой мещанской семьи. Подумать только, что нашего милого крошку окружают такие вульгарные, такие без-нрав-ственные люди!