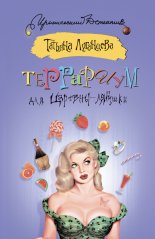Венецианский эликсир Ловрик Мишель

На следующую ночь он снова глядит в окно и видит ту же парочку за тем же занятием. Он вынужден признать, что между ними явно присутствует страсть, а также любопытство, что заставляет его заключить, что они настоящие любовники. Они игривы и гибки, но взгляды, которыми они обмениваются, глубоки. Он дважды видел, как мужчина пускал слезу при виде бедер любимой, а однажды девушка нежно поцеловала закрытые глаза спящего любовника.
Теперь каждую ночь Валентин сидит у окна и наблюдает за ними. Да, он завидует, но ему это также помогает. Невероятный оптимизм Валентина Грейтрейкса снова овладел им, несмотря на все обстоятельства, несмотря на тишину и необъяснимое отсутствие Мимосины Дольчеццы. Каждую ночь он видит то, что у него снова будет с Мимосиной. Он желает этой паре добра. Он много о них думает. Когда они засыпают, он долго наблюдает за ними, желая убедиться, что ничего дурного не случится.
Он даже решает сделать им подарок, поскольку не может ничего подарить Мимосине. Он заставляет близнецов наловить уцелевших бабочек у него в саду и не может удержаться от улыбки, наблюдая за их потугами. Смех идет ему на пользу. Когда наконец в коробке трепыхается дюжина маленьких насекомых, он помещает их в большую стеклянную банку, украшенную купидонами, в крышке которой имеется несколько отверстий для того, чтобы бабочки не задохнулись.
На следующее утро он оставляет банку возле двери дома, где живут его соседи-любовники. Он не знает, найдут ли они его подарок.
Для него достаточно просто сделать этот дар.
Припарка из сельди
Берем свежий белый корень переступня (если он высушен, то взять перетертый корень), две унции; черное мыло, три унции; маринованную сельдь (или анчоусы), четыре унции; соль, полторы унции; смешать.
Привязывать к подошвам, менять каждые двенадцать часов. Использовать, когда лихорадка поражает голову, дух, вызывает оцепенение или сонливость.
Следующим вечером любовники из соседнего дома охвачены небывалой страстью, словно таким образом они принимают дар Валентина. Валентин даже не притворяется спящим. Прижавшись всем телом к окну, он замечает золотистое мельтешение вокруг горящей свечи и понимает, что они выпустили бабочек в комнате.
Проведя всю ночь у окна, днем Валентин уже ничего не хочет делать.
Он идет на прогулку, усаживается на площади за столик и заспанным взглядом обводит окружающий мир. Заказывает кофе и пончики. Подумав, он добавляет к заказу пиво. Его ноги распухли и покрылись волдырями. Венеция, где невозможно кататься в карете, всегда доставляла ему хлопоты в этом плане. И каждый раз он забывает принять меры предосторожности. Его ночные бдения никак не помогают ногам выздороветь. К счастью, Диззом положил ему в сумку флягу с эффективной припаркой из сельди. Сегодня вечером он обмажет ступни этой пастой и завяжет их тряпками. Эта штука никак не влияет на мозг, но прекрасно помогает ногам.
Валентин вытягивается на кровати, освещенной зимним солнцем. Хоть его ступни болят, кашель совсем прошел и в горле уже не саднит. Он чувствует прилив новых сил. В Лондоне он никогда не задумывается о солнце. Иногда его радужный луч прошивает газету, которую он читает. В редкие дни освещенная солнцем Темза ярко блестит и искрится, ослепляя его, пока он гуляет по Лондонскому мосту. Вскоре это проходит. Даже если солнце светит над Лондоном, оно едва ли будет светить Валентину. Он проводит жизнь на складе, в подвалах пакгаузов, в каретах, театрах и спальнях. Лучи солнца редко достают его там. Но здесь, в Венеции, оно освещает его в избытке. Оно сопровождает его, куда бы он ни пошел. И даже когда оно садится, он знает, что оно вернется к нему на следующий день.
За неимением иного, только солнце может пролить свет на его проблемы.
До сих пор все его поиски актрисы давали довольно скудные результаты. При упоминании ее имени друзья с удивлением глядят на него:
— А зачем тебе это?
Когда они читают в его глазах пыл, они тут же мрачнеют. У итальянцев есть сильная склонность к трагедии. Они нежно похлопывают его по руке и говорят:
— Естественно, ее здесь уже нет. Мы должны найти тебе другую женщину.
Это лучший ответ Валентину, по мнению абсолютного большинства, поскольку почему-то считается, что его страсть к этой конкретной актрисе автоматически перейдет на другой объект подобной формы. И не важно, что он восклицает:
— Да она только что вернулась из Лондона!
Ему всегда отвечают с уверенностью:
— По всей видимости, дружище, ее здесь уже нет.
Потому продолжать расспросы становится бессмысленно и бесполезно. Актрису, которой сейчас нет рядом, легко заменить другой очаровательной леди. Валентину называют имена других актрис. Он сгорает от смущения. Как сильно он выдал себя этими вопросами? Он напрасно скомпрометировал себя, поскольку не смог получить сколько-нибудь полезной информации.
Близнецы ему сочувствуют. Они присылают ему цветочниц, швей, продавщиц рыбы, кондитерских изделий, мяса, но он отсылает их всех восвояси. Когда-то они знали его как самого веселого и неутомимого прелюбодея, но теперь он хочет просто бродить в одиночестве. В отчаянии они приводят ему губастенького мальчика, ведь в Венеции хорошо известно, что англичане, разочарованные в прелестях женского пола, иногда прибегают к грубым утехам с себе подобными. Но Валентин вне себя от ярости, когда понимает, для чего ему прислали мальчика. Он произносит несколько выражений, которые даже англичане (живущие на окраинах Лондона) вряд ли смогли бы понять.
Спустя месяц Валентин отчаялся просто так наткнуться на актрису в Венеции, даже здесь, на Пьяцца, где полным-полно женщин ее роста, форм и цвета волос. Некоторые шлюхи прекрасно одеты, но выглядят грубовато. Аристократки не многим отличаются от них.
Теперь, сидя на Сан-Марко, Валентин понимает, что женщины, ласкающие его взор, интересуют его меньше, чем голуби. Он думает, что, в отличие от него, у голубей есть план. Он думает, что разбросанный тут и там их помет служит средством передачи информации для других голубей. Есть что-то ироничное в их ухаживаниях. Они преследуют некоторых людей, явно подражая их походке, и потом оживленно обсуждают их между собой. На углу Пьяцца, где их жертва поднимается по невысоким ступенькам, очередной голубь поворачивается к собратьям и воркует:
— Эй! Этот был неплох, так ведь? Вы видели?
После приема трех кружек крепкого пива, что не рекомендуется в столь раннюю пору, Валентин чувствует определенную легкость. Он понимает, что если попробует встать, то будет похож на новорожденную газель и станет объектом насмешек голубей. Лучше немного посидеть.
Иначе можно очутиться в месте более неприятном, чем площадь Сан-Марко.
Валентин улыбается своим мыслям. Опустившиеся брови взлетают вверх, он раскрывает рот и начинает хохотать. Люди оборачиваются, чтобы посмотреть на симпатичного англичанина. У некоторых женщин на лицах написана досада, поскольку они хотели бы узнать, в чем соль шутки. Но Валентин их не замечает. Дело в том, что комические портреты, создаваемые голубями, подсказали ему мысль.
Природа Валентина Грейтрейкса такова, что он не может позволить, чтобы одна дверь захлопнулась перед ним, а другая не была приветственно распахнута. Он только что вспомнил, что после своего последнего приезда (точнее говоря, предпоследнего) Том восхищался работами одного венецианского художника, который мог передать чувства на полотне с выдающейся точностью и выразительностью. Этот художник — молодая женщина из знатной семьи, которая была любовницей Казановы. Она среди вельмож и дам буквально нарасхват.
Конечно, любая дама в расцвете лет захочет запечатлеть свою красоту на холсте. Валентин поражен, что смог вспомнить даже имя этой дамы. Ее зовут Сесилия Корнаро. У нее в мастерской наверняка хранятся эскизы портрета Мимосины, а может быть, даже незаконченное полотно. Актриса, возможно, сейчас возлежит на тахте, пока художница переносит черты ее лица на холст. Он вскакивает на больные ноги, готовый снова взяться за работу. Весь день, в промежутках между встречами и работой над новым эликсиром, он размышляет о портрете Мимосины, и чем больше он о нем думает, тем больше ему нравится идея.
В его сознании возникает образ. Он внезапно вспомнил, как много недель назад они с Мимосиной натолкнулись на бродячего портретиста, поставившего мольберт на замерзшей Темзе. Наблюдая за мастерством и деликатностью этого человека и не упуская из виду его посиневшие руки и худое лицо, Валентин упросил актрису позировать.
Смеясь, она отказалась, но предложила дать денег голодающему художнику. Он тогда не обратил на это внимания, посчитав еще одним проявлением ее скромности и щедрости.
Но теперь, когда он вспоминает ее слова, ему становится не по себе.
Она сказала: «Я бы не оставила тебя с собственным призраком, который утешал бы тебя».
Валентин занят делами до самого вечера. Потом он снова, на всякий случай, совершает паломничество в театр Сан-Фантин. Венецианские сословия склонны к резким изменениям повадок.
Очередной раз слушая «Брошенную Армиду», он размышляет над утренней идеей. Покидая безынтересный театр, он ускоряет шаг. Когда представление заканчивается и Мимосина так и не появляется, он подзывает гондольера и велит отвезти его к мастерской Сесилии Корнаро.
Больше ему ничего добавлять не приходится. Том был прав, ее знают гондольеры, а значит, весь город. Гондольер удивленно приподнимает брови. Его озадачивает не место назначения, а поздний час. Валентину подобная щепетильность кажется забавной. Великий художник, как великий делец, всегда бдит, дабы не упустить выгодное предложение.
И действительно, когда они пересекают канал, гондольер указывает рукой на молочно-белую кляксу. Это горят свечи в канделябре в окне на втором этаже дома художницы. Оказывается, что ее мастерская — это великолепный дворец на берегу Большого канала, к которому путь лежит сквозь три арки и пристань.
Погода не обещает неприятных сюрпризов. Ветер гладит его кожу, словно шелковый платок. Луна появляется и исчезает в облаках, попеременно то улучшая, то ухудшая обзор. То дворец Сесилии, кажется, находится всего в метре, то он оказывается чуть ли не на горизонте. Вокруг них простирается спящий город с темными дворцами и зияющими провалами арок, в которых будто бы притаились неведомые чудовища. Почти полная луна бросает на воду канала дрожащий свет.
Внезапно гондольер разражается бранью. Лодка налетает на невидимое препятствие и начинает раскачиваться на месте, словно ее толкают невидимые рыбы. Ослепленный светом из окон художницы, Валентин поначалу не может разобрать, что же произошло. Когда глаза привыкают к полумраку, его взору открывается любопытное зрелище.
Кто-то, вероятно, шутки ради либо в виде живой поэмы, спустил в воду целый ворох разнокалиберных масок. Вокруг гондолы покачиваются на волнах полумаски и украшенные перьями головные уборы из папье-маше. Все это движется по течению с такой скоростью, что складывается впечатление, будто бы некое странное морское племя плывет на спине по Большому каналу к морю, вперив пустые глазницы в небо.
Валентин решает воспринимать этот феномен скорее не как предостережение, а как доброе предзнаменование. Сотня лиц окружает его. Это производит на Валентина странное впечатление. Однако он готов найти среди них именно то лицо, которое ему нужно.
Соскочив на берег, Валентин поднимает взгляд на свет в окне. Да, все так, как он себе представлял! Он так близок к тому, чтобы найти возлюбленную, что почти готов смеяться от счастья. Он радостно смеется, и отплывающий гондольер оборачивается на него со странным выражением лица. Он просто не понимает. Она, должно быть, там прямо сейчас. Мимосина сидит, склонив голову в классической позе три четверти, сложив ладони на коленях.
Найдя ступеньки, он бросается по ним вверх, тяжело дыша не только от усталости, но и от переполняющих его чувств. Обнимет ли он ее сразу же, как только увидит? Или ему лучше остановиться в дверях и бросить на нее взгляд, который пронзит ее сердце? Он даже думает:
«Я тоже хочу стать частью этого портрета. Я договорюсь с Сесилией, чтобы она написала наш общий портрет. Сесилия не откажется запечатлеть нас».
Представив себе этот портрет, Валентин внезапно останавливается на предпоследней ступеньке. Ведь именно отсутствие подобных знаков внимания заставило его возлюбленную уехать. Ему не дадут второго шанса. Если он сейчас предложит это, ему придется считаться с последствиями.
Валентина охватывает такое счастье, что ему кажется, будто он чувствует, как кровь начала быстрее бежать по жилам. Он делает еще один шаг. Одиночество последних сорока дней, всей его жизни вот-вот должно прекратиться. Тогда какое значение имеет то, что у них совершенно разный образ жизни? У них вся жизнь впереди, чтобы познать друг друга.
Он снова останавливается, больно ударившись ступней о ступеньку.
Почему нет? Это как раз то, что ему нужно. В последние несколько секунд его охватило пылкое желание жениться. Он знает, что облегчение ему может принести только прикосновение ее прохладной кожи, ее тихое дыхание ночью и уверенность, что он проснется утром рядом с ней, и так будет продолжаться до самого конца.
Если он не может жить, не обвенчавшись с Мимосиной, то он возьмет ее в жены. В тихом проходе рядом с каналом он слышит только две вещи: собственное учащенное сердцебиение и хруст банкноты в кармане, рядом с его дрожащими ногами. С каждым движением она предательски хрустит. Как он сможет опуститься на колени в таком случае? Валентин резко вытаскивает из кармана банкноту и швыряет ее в канал, поздно вспомнив, что она довольно-таки крупная.
В проходе во внутренний дворик дико раскачиваются подвешенные к стенам фонари. Они отбрасывают странные тени на две крупные статуи. Изваяния изображают двух мужчин, стоящих в расслабленных позах. Первая и вторая двери в дом заперты, но третья мягко поддается под нажатием его пальцев.
За мгновение он пробегает половину лестницы, задыхаясь и кусая язык. В руках ощущается непонятное покалывание, и Валентин готов поклясться, что в воздухе ему почудился запах пороха. Ворвавшись в комнату, он тут же опускается на колени, закрывает глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и складывает руки, словно в мольбе, готовясь задать самый главный вопрос, ответ на который сулит ему счастье.
Выйдешь ли ты за меня?
Когда он поднимает взгляд, то обнаруживает, что очутился в комнате, стены которой от пола до потолка покрыты изображениями влюбленных лиц. Кроме него в комнате находятся два живых существа: большой полосатый кот и хрупкая девушка лет семнадцати с пышными золотисто-каштановыми волосами. Кот глядит на него с вежливым интересом, а девочка, вытирая тряпочкой красивые, испачканные краской руки, окидывает его явно заинтересованным взглядом.
Но это не Мимосина Дольчецца.
Успокаивающая настойка
Берем отвар черных черешен, две унции; мяты, дамасской розы, апельсинового цвета, всего по одной драхме; крепкую горчицу и отвар пионов, всего по две драхмы; микстуру алькермеса, порошок гаскойн, всего по одному скрупулу; гвоздичное масло, одну каплю; сироп левкоя, три драхмы; смешать.
Укрепляет подавленный дух; помогает при слабости, обмороках и трепетании сердца.
Валентин Грейтрейкс потягивает фраголино[14] из глиняного кубка, но еще не совсем отошел от замешательства, хотя уверен, что близок к этому.
Он медленно поднялся с колен, представился и даже пояснил, в чем цель его визита. Девочка оказалась Сесилией. Она хорошо говорит по-английски, хоть и с легким акцентом. Общение с многочисленными англичанами, чьи портреты она писала, не прошло для нее даром.
Ее мягкий голос так же приятен уху, как и воркование Мимосины Дольчеццы. Валентин удивлен, что их говор так похож. А все дело в том, что Сесилия происходит из такого же знатного семейства, как и Мимосина. Однако она более капризна. Валентин считает, что художница скромного происхождения обязана уметь имитировать произношение знати. Он жалеет, что никогда не уделял этой уловке должного внимания, ведь того, что он разбавляет речь красивыми словами, явно недостаточно. Только иностранка вроде Мимосины может заблуждаться по поводу его настоящего общественного положения. Валентину кажется, что Сесилия уже раскусила его.
Конечно, она слишком добра, чтобы говорить об этом. Она ведет себя с ним учтиво, хотя и с определенной долей иронии.
Сесилия Корнаро, подмигивая и улыбаясь, просит прощения, но не может ничем ему помочь. В настоящее время она не работает над портретом красивой молодой женщины, только что вернувшейся из Лондона. Она хотела бы помочь ему, и он ей верит. В ее веселых карих глазах сквозит неподдельная искренность. Более того, он замечает живое любопытство.
— Ко мне с такой историей еще не приходили! — оживленно признается она, словно он принес ей прекрасный дар. Он рассказал ей свою историю, правда, опустив подробности. Она чувствует, что он недоговаривает, и готова выпытать у него все, что только сможет. У нее даже волосы кажутся наэлектризованными от любопытства. Ему кажется, что они стали пышнее, пока он говорил. Художница нервно меряет комнату шагами. Ее движения разгоняют запахи красок, повисшие в воздухе. Валентин чувствует себя как дома. Мастерская Сесилии с бутылочками и пестиками различных ярких тонов напоминает ему логово Диззома на складе на Бенксайде.
Это, должно быть, хороший знак.
Но, увы, ей кажется, что она никогда не писала портрет женщины по имени Мимосина Дольчецца. Она широко улыбается, произнося ее имя. Она спрашивает, нет ли у него какого-нибудь изображения этой женщины, которое помогло бы ей вспомнить. Валентин вспоминает о встрече с художником на замерзшей Темзе и грустно качает головой.
Сесилия дает ему еще один кубок с фраголино. Пока он пьет, она обходит его. Тело Валентина покрывается гусиной кожей, чувствуя ее взгляд. Неожиданно сняв с полки тарелку, она предлагает ему шоколадное пирожное. Когда он отказывается в третий раз, она нехотя отставляет тарелку в сторону и добавляет немного презрительно:
— Значит, вы не любите конфеты.
Он отрицательно качает головой, глядя на нее поверх края кубка.
— Каково настоящее имя вашей возлюбленной? — наконец интересуется Сесилия, подавшись вперед, чтобы лучше изучить его лицо, и отбросив прядь волос с его лба. Она продолжает глядеть на него с неприкрытым интересом, и тут Валентин понимает, что краснеет. Через мгновение она поворачивается и начинает зажигать свечи на шляпе, сделанной из набитой кожи, потом натягивает ее на голову. Она проводит Валентина к стулу, сажает его и устраивается так близко от него, что он чувствует тепло, исходящее от свечей на ее шляпе. Сесилия достает из кармана угольную палочку, постукивает ею по ладони и подтягивает к себе небольшой мольберт, не спуская с Валентина глаз.
Валентин шепчет:
— Это ее настоящее имя. Мимосина Дольчецца. — Ему нравится, как звучит ее имя, и он повторяет его снова, громче: — Мимосина Дольчецца.
Сесилия глядит на него с неприкрытым сочувствием.
— Ах, господин, я вижу, что вам следует кое-что объяснить. Ее имя не настоящее. Это псевдоним куртизанки или танцовщицы, возможно…
— Она актриса. — Его голос дрогнул.
— Ах, ну да. И вы говорите, что она из Венеции?
— Да.
— Но я никогда ее не видела и не слышала о такой женщине. — Она добавляет, не желая скрывать гордость: — Я знаю всех. Я всех рисую.
— Она часто уезжает за границу.
— Ну да, это, вероятно, все объясняет. Некоторые венецианские актрисы проводят почти всю жизнь в изгнании. В Венеции их особо не жалуют. Чего нельзя сказать о загранице. Все равно, очень странно, что я никогда не слышала о ней, если она молода и красива. Обычно такие ко мне приходят. Или их присылают любовники.
Упоминание о любовниках мне совсем не по вкусу.
Было бы некрасиво говорить об этом, потому Валентин молчит. Молодость уже перестала быть одной из ее сильных сторон.
Сесилия подзуживает его:
— Какая она? Внешне, я имею в виду.
— Зачем вам знать?
— Чтобы мы смогли сыграть в игру. Я хочу, чтобы вы нарисовали мне ее.
Валентин Грейтрейкс вздрагивает.
Она забавляется со мной. Мне не нужны игры. Мне необходима надежда и твердые факты, желательно связные.
Валентин, заикаясь, говорит, приподнимаясь со стула:
— Вы издеваетесь надо мной. Я не умею рисовать…
— Нет, я хочу, чтобы вы описали ее словами. — Она поднимает угольную палочку и отодвигает от него мольберт, смущая Валентина своим деловитым поведением. — Сперва мне нужно узнать форму ее лица. Оно имеет форму овала, клубники или, может быть, яблока? И ее шея. Она длинная или короткая?
Валентину, который никогда ни с кем не обсуждал подобные вещи, не требуется предлагать дважды. Он принимается лихорадочно описывать Мимосину, не упуская ни единой подробности, которая доставляла ему радость. Их так много, что он говорит довольно долго. Он закрывает глаза, чтобы лучше видеть возлюбленную.
Все это время Сесилия быстрыми движениям создает портрет Мимосины, постоянно задавая новые вопросы.
Ее вопросов так много и они такие подробные, что Валентин впадает в некое подобие транса, позволяя рту давать ответы без участия мозга. Ибо как мужчина может знать, натуральные брови его любимой или выщипанные? Или каково расстояние между ее глазом и бровью? Он видит ее как единое целое, все то, что ему так нравится в ней, сплавлено воедино.
Валентину кажется, что женщины, вероятно, думают по-другому, и ему впервые становится интересно, как Мимосина видит его. Эта мысль не доставляет особой радости, ибо Валентин вспоминает момент их расставания, когда он был мертвецки пьян и стоял, покачиваясь, у дверцы ее кареты.
Однако он доверяет этой девушке с почерневшими пальцами. Возможно, все дело в вине, а может, в усталости. Однако Валентин уверен, что скоро он увидит прекрасный портрет Мимосины Дольчеццы. Чтобы помочь художнице, он продолжает говорить, не переводя дух, пока его губы не немеют и все мысли не испаряются из головы. Сесилия кивает, иногда улыбается, но большую часть времени выглядит сосредоточенной и серьезной.
— Вы уверены? — спрашивает она. — Вы точно знаете? Что она изящна и имеет округлые формы? Поскольку сердце может исказить ваше представление о ней и потом вы будете горько сожалеть, когда вашим глазам откроется правда. Глаз — это линза, увеличивающая объекты, которые ему по нраву. А увеличение, как известно, склонно к искажению.
— Я уверен! — восклицает он время от времени. И это действительно так. Ему кажется, что он сочиняет любовную поэму, дифирамб прелестям Мимосины, грустную запоздалую элегию, которую ему следовало презентовать ей намного раньше. Жаль, что она не слышит его. Она бы не чувствовала себя недооцененной.
Валентина охватывает беспокойство. Он много дней не был так близок к ней. Поскольку ее нет с ним во плоти, он жаждет увидеть хотя бы ее образ.
Но когда Сесилия наконец откладывает угольную палочку и поворачивает мольберт к нему, он видит лицо, которое имеет лишь отдаленное сходство с Мимосиной.
Хотя лицо кажется ему до боли знакомым. Оно даже чем-то похоже на лицо Тома. Девичья полнота губ напоминает ему Певенш.
— Пожалуй, я сделала ее слишком юной и округлой, — с сожалением говорит Сесилия. — Это всегда случается, когда я так работаю.
Она добавляет резкую тень под одним ее глазом.
— Либо она такая, либо вы мне рассказали не всю правду, — бросает она Валентину.
Валентин боится произнести хоть слово. По всей видимости, слова выдали не только его любовь к актрисе, но и прочие хлопоты, занимающие его мысли: смерть Тома и заботу о его дочери. Он обязан объясниться, но язык не слушается его.
Художница заслужила его оценку, будь она положительной или отрицательной. Сесилия начинает терять терпение.
— Значит, я ее обезобразила? — едко интересуется она.
Валентин приходит в себя в достаточной степени, чтобы начать протестовать.
— Возьмете это с собой? Сомневаюсь.
Девушка рассержена. Он видит, как краснеют ее щеки, и вспоминает, что Том говорил ему о ней: Сесилия Корнаро обладает тем, что венецианцы зовут «раздвоенный язык», — у нее чертовски острый язык. Он падает духом, представляя все те неприятные вещи, которые она может сказать ему, пока он приходит в себя.
Она не тот человек, с которым я бы делился сокровенным.
Она говорит ему довольно резко:
— Знаете что, если это ваша возлюбленная, то она вас обманула. Она только прикидывалась венецианской актрисой. Возможно, она обманула вас не только в этом, а, синьор?
Валентин вздрагивает и склоняет голову.
Сесилия, по всей видимости, устыдившись своей резкости, добавляет мягче:
— Лучше возвращайтесь в Лондон, синьор Грейтрейкс. Здесь вам делать нечего.
Женщина на картине не его возлюбленная, и это все меняет. Он спешит в свои апартаменты, приказывает упаковать все свои вещи и прощается с удивленными близнецами. Напоследок он заглядывает во все мастерские и цеха, которые будут задействованы в производстве эликсира, и пожимает на прощание руки, пока у него не начинают болеть пальцы. Когда он сообщает коллегам о близком отъезде, его обнимают так долго, что у него начинает кружиться голова. В последний раз он наблюдает за любовниками из соседнего дома, роняя слезы на оконное стекло. Он никогда не был так расстроен. Ему очень хочется вернуться домой.
Он не столько стремится в безликий Бенксайд, сколько устал от красоты Венеции. Он истощен ее постоянными соблазнами, оскорблен, что она воспринимает его как дешевку, даже тогда, когда он занят столь важными приготовлениями. Изгиб Большого канала, мурлыканье скрипки за захлопнутыми ставнями, лучи солнца, освещающие мягкие очертания гондолы, — и его сердце безвозвратно разбито, как и у любого другого иноземца. Здесь он теряет свою природу, не может нормально соображать. В Лондоне его мозг восстановится и, возможно, сердце постепенно излечится.
Валентин запутался. Пока он прощается с многочисленными знакомыми, иссиня-черное небо заволакивает грязными тучами. Воздух становится спертым и густым, как перед грозой. Каменные колонны уже покрылись влажными пятнами, не дожидаясь дождя. Вода в каналах скорее дрожит и дергается, чем течет, будто бы кто-то вылил в них студенистые чернила кальмара.
И, конечно, на всех колокольнях Венеции принялись яростно звонить в колокола, словно в унисон с его горем.
Исчезнув, Мимосина разрушила не только хрупкую ткань их романа, но и показала ему, что он не умеет любить и быть любимым, что он пустышка. Какую тонкую месть она уготовила ему за его пренебрежение! Она даже не догадывается об этом. Словно пена, исчезло его счастье, которое, как он теперь понимает, было таким иллюзорным. Он бросил ей свое сердце, но она этого не поняла. Лицо куклы, сердце куклы, маленькое механическое устройство, не ведающее о темной стороне страсти, чей ход может ускориться только при виде любви на лице мужчины, красивых платьев, блеска льда на Темзе и снега в Гайд-парке.
Пора возвращаться домой.
Но у него остался долг, который он обязан выполнить перед отъездом.
С этим надо покончить.
Впервые Валентин заставляет себя пересечь рыбный рынок и приблизиться к месту, где погиб Том. До сего момента он не мог сделать этого. Теперь он пал так низко, что чувство потери уже не властно над ним. Важной частью пока что неудачного расследования было посещение места преступления. Напрасно он не сделал этого раньше. Чтобы это было не так неприятно, он решил отправиться туда не ночью, как Том, а в оживленные утренние часы.
Гроза не принесла облегчения.
Наступил новый прекрасный день, нагнавший на Валентина еще большую тоску. Небо усеяно достаточным количеством облаков, чтобы пейзажист пришел в восторг от открывающихся возможностей. Гондолы рассекают сине-зеленые воды, по которым скачут солнечные зайчики.
Валентин напоминает себе, что гуляет не для собственного удовольствия. Чтобы лучше сосредоточиться, он вешает на плечо сумку Тома — легкий, но болезненный груз. В последнюю минуту он порылся в шкафу, нашел ту самую шелковую ночную сорочку и запихнул ее в сумку.
Он идет по улице Кампо Сан Сильвестро, поворачивает налево на Кале дель Стивалето, потом направо, потом снова налево. Прежде чем он видит рынок, внезапно сильный запах рыбы заставляет его удивленно моргать, но не только от того, что неприятен, а еще и потому, что напоминает ему об одной фразе, которую он не может забыть.
Валентин подходит к блестящим прилавкам рынка. Эта мысль невыносима, однако она всплывает в его мозгу каждый раз, когда он бросает взгляд на треску, на сельдь, на усача, на краба, на угря.
Эта ли?
Его спина ровная, как стол. Он тяжело подходит к мосту у Рива дель Оджио и перегибается через парапет, чтобы увидеть потаенный уголок, где, как он знает, было обнаружено тело Тома.
Он резко делает шаг назад, потому что на том самом месте лежит скумбрия с распоротым брюхом. Над ней стоит чайка и лакомится ее потрохами. Валентин отворачивается. Он заставляет себя изучить камень, на котором она лежит, страшась увидеть что-нибудь, что напомнит ему о Томе.
Но он не может переломить себя. Все его тело молит о том, чтобы он ушел.
Он дышит рыбьим духом, ноги скользят на рыбьей чешуе. Крики продавцов заставляют его дрожать. Они громкие и, кажется, агрессивные. Даже яркие цвета фруктов причиняют ему боль. Валентину кажется, что продавцы рыбы преследуют его на своих тачках. Голова идет кругом. Из сумки Тома высовывается кружевной край ночной сорочки.
Отражение в воде стало кроваво-красным из-за расположенной напротив багровой стены. Кажется, что кровь продолжает течь в канал.
Это невыносимо.
Однако он не может оторвать взгляда от каменной кладки возле канала. Невозможно не представить тело Тома там, особенно теперь, когда он совсем недавно видел его труп в гробу с пропитанной кровью рубашкой. Он с трудом вспоминает, что на груди у его друга не было обнаружено никаких ран.
Тогда почему у него кровоточила грудь?
Это уже слишком. Валентин, спотыкаясь, уходить прочь, так ничего и не узнав. Он почти бегом возвращается в свои апартаменты, где подходит к окну и, прижавшись носом к стеклу, надеется увидеть любовников. Они исчезли, а их комната впервые выглядит захламленной и покинутой, словно они вовсе никогда не существовали.
На следующий день Валентин отбывает в Лондон.
Валентин Грейтрейкс, стоя в гондоле, направляющейся в Местре, оборачивается на секунду, чтобы бросить прощальный взгляд на вздымающиеся башни Венеции, острые и черные на фоне ярких цветов заката. Спустя всего несколько секунд вечер заволакивает город эфемерной дымкой, словно бы пряча неприятный сюрприз. При этом обманчивом освещении Валентин чувствует тревогу, хватая себя пальцами за горло. Он чувствует, что в городе действительно нет Мимосины Дольчеццы, но он не может отделаться от мысли, что здесь что-то нечисто. В Лондоне у него больше возможностей разузнать о ней и Томе.
В любом случае он оставил Певенш слишком надолго.
«Меня, несчастную, не замечают», — вспомнилась ему ее обычная жалоба. Очень странно, что она ни разу не написала ему за все эти недели. Она прислала лишь одну маленькую записку в день, когда он прибыл в Венецию. В записке было всего четыре слова. Их несложно запомнить, как любые слова, взывающие к совести. Певенш написала только это, даже не подписавшись: «Обо мне совсем забыли».
Часть пятая
Сироп от истерии
Берем отвар черешен, полынь, болотную мяту, всего по три унции; отвар переступня, полторы унции; тинктуру клещевины, пол-унции; янтарное масло (хорошо перетертое с одной унцией белого сахара), 24 капли; смешать.
Эти и прочие зловонные препараты помогают при приступах истерии. Они успокаивают и укрепляют дух. Лучше всего использовать это средство, поскольку оно достаточно эффективно. Однако оно подходит не всем, поскольку были случаи, когда янтарное масло вызывало отвратительную вонючую отрыжку и пациента так тошнило, что он не мог больше его принимать.
Я знала наверняка, что он был со своей Дольчеццой. Ничто не могло поколебать меня в этой уверенности. С чего бы ему быть в Италии так долго?
Я старалась не упоминать ее имени, когда интересовалась у Диззома датой возвращения дяди Валентина. Он довел меня до истерики ложью о каком-то эликсире, производство которого требует серьезной подготовки в Венеции. Словно в глупую бутылку не нальют обычное варево из трав, шоколада и одурманивающих спиртов, успех которого обеспечен благодаря раздутой рекламе и наглости дяди.
— А, ну конечно, — растягивая слова, сказала я. Я была вне себя от ярости. Бедный маленький Диззом морщился и наклонял голову, как он поступал всегда, когда разговаривал с папой. Большинство людей всегда так делали, когда говорили с папой.
Дважды в неделю Диззом приходил ко мне в академию с маленькой сумочкой, полной лекарств для моего своенравного желудка и слабого мочевого пузыря. Некоторые из них были очень недурны на вкус. Другие имели последствия, которых бы устыдилась любая леди. Да, некоторым девочкам, которые традиционно пили портер с госпожой Хаггэрдун после обеда, приходилось несладко из-за причуд моего организма. Я заметила, что из-за этого мероприятие стало быстро терять почитателей.
Госпожа Хаггэрдун заметила по этому поводу:
— Остаются только избранные.
Лондон и Венеция, январь 1786 года
Твердое средство для чихания
Берем конфекцио хамеч, порошковый вьюнок, всего по две драхмы; эуфорбиум, шестнадцать гран; все перемешиваем до консистенции пасты, которую катаем в шарики и засовываем в ноздри на час, прикрывая нос шарфом.
Я все еще думала, что делать, когда прибыла в Лондон.
Я сопротивлялась сильному желанию броситься в объятия любимого. Поскольку в таком случае Валентин Грейтрейкс, сам того не желая, приведет моих преследователей прямо ко мне. Они знали о нашей связи. Первым делом они будут искать меня в его постели, с ужасными последствиями для нас обоих. Нет, нужно было подождать, чтобы мой след остыл, позволить Маззиолини приехать в Лондон, перевернуть его вверх дном, признать, что меня здесь нет, и убраться восвояси. Только тогда я могла идти к любимому.
Обратное путешествие в Лондон почти полностью лишило меня средств. Мои хозяева никогда не давали мне много наличности, желая предотвратить побег, который я все-таки совершила. Теперь я вынуждена была питаться одной росой, если только мне не удастся найти способ заработать.
Как я должна была зарабатывать все это время? Работа в театре была небезопасна, поскольку меня преследовал Маззиолини. Я не умела готовить, мыть или шить. У меня не было ни умения, ни желания зарабатывать подобным способом. Я не хотела загрязнить себя покорностью этих занятий, поскольку в противном случае мое лицо всегда носило бы отпечаток этих ремесел.
Я решила залечь к югу от реки, где все было дешевле. В некотором смысле мне было приятно находиться поблизости от того места, где Валентин занимался своими делами. Никто из его коллег, не считая Диззома, не узнал бы меня. Диззом редко покидал склад. Я могла спокойно ходить по тем улицам, опасаясь столкнуться лишь с возлюбленным. Я была всегда начеку, потому успела бы спрятаться, завидев его первой. Он же думал, что я в Венеции, потому ему не было нужды присматриваться к женщинам на улицах.
Я завела знакомство с одним кучером с помощью лести и показной беспомощности. Он посоветовал мне чистое место в одном из закоулков возле Лондонского моста, где его двоюродный брат держал пансион. Я сообщила, что я итальянка, трагически лишившаяся мужа во время заграничной поездки, и что я ожидаю перевод значительных сумм, причитающихся мне от состояния моего английского мужа. Между тем я сказала кучеру, а потом и его брату, что собираюсь пожить в крайней скромности и уединении.
Я добавила:
— Поскольку я сейчас нахожусь в стесненных материальных обстоятельствах, полагаю, что неразумно было бы жить на широкую ногу.
Хитрая хозяйка пансиона поглядела на мои дорогие одежды с удовлетворением. Я поняла, о чем она думает. Даже если моя история окажется ложью, моя одежда покроет расходы.
Я уселась на кровать. Простыни воняли дешевым мылом. Проспав несколько часов, я проснулась, и хозяйка подала мне какую-то серую кашу, которая, как она, вероятно, считала, подходит для недавно овдовевших женщин. По всей видимости, она планировала использовать мое горе, чтобы кормить меня самой дешевой едой.
Я одолела немного этой каши под ее зорким присмотром и объявила, что насытилась и теперь желаю немного погулять.
— После стольких дней и ночей, проведенных у одра умирающего мужа, мне кажется, прошли целые месяцы с тех пор, как я была на свежем воздухе.
Ее лицо искривила усмешка, и я поняла почему. Воздух Бенксайда едва ли можно было назвать свежим. Сюда лучше было бы приезжать с пахучими пастилками, засунутыми в ноздри, и шарфом, повязанным на лицо. Бенксайд вонял. Кожевни пахли мочой, пивоварни отрыжкой, а небо было затянуто летучими частичками сажи со стекольных заводов. Кучер предупредил меня, что здесь нет ни одного приличного заведения вроде кондитерской Моранди на Плейхаус-ярд. Подобные места можно было найти лишь в зажиточных северных районах города.
Сделав вид, что нервничаю, я спросила хозяйку:
— Безопасно ли даме из хорошей семьи ходить по этим местам без сопровождения?
Она не поверила мне, но решила подыграть.
— Никто не обидит вас, мадам, — резко ответила она.
На всякий случай я надела шляпку с вуалью и отправилась к Темзе. Как любой житель Венеции, я всегда точно знала, в какой стороне находится ближайшая река. Там воздух был полон запахов и шумов разномастных торговцев. Англичане, которые, как известно, любят свои фрукты, толпились возле прилавков, активно покупая яблоки и груши.
Я шла быстро, будто бы у меня была цель. Я надеялась, что мои мозги прочистятся, поскольку мысли уже начали бегать по кругу, словно колеса карет, которые провезли меня через всю Европу. В те моменты одиночества, когда в толпе меня со всех сторон толкали незнакомцы, мой разум дразнил меня образом улыбающегося Валентина Грейтрейкса. Я не смогла сдержаться и прошла по Стоуни-стрит мимо его склада, низко опустив голову. Как легко было бы войти в те ворота и попросить убежища. И как опасно.
В конце Стоуни-стрит я повернула налево, прошла в арку и попала на Клинк-стрит, где обошла покрытые черепицей дома, бараки и развалины старой тюрьмы. Дальше началась обширная территория, занятая, как подсказал мне нос, пивоварней. В ушах стоял беспрестанный шум от мешков с солодом и хмелем, которые скидывали с телег на мостовую. Справа, через просветы между домами, я заметила серую гладь воды. Ступеньки и пристань вели прямо к Темзе. Я прошла мимо скромных лавок торговцев слоновой костью и покрытых черной пылью лавок торговцев углем. Мимо меня пробегали одетые в рваные тряпки дети, шлепая босыми ногами по вонючим желтым лужам. По их крикам и визгу можно было сказать наверняка, что все они в той или иной степени больны чахоткой. Все это очень мало напоминало мое бывшее место жительства в Сохо. Но я не чувствовала отвращения. Скорее, наоборот. Царящее вокруг оживление напоминало мне о моей прежней жизни в Венеции.
На мгновение мне показалось, что я заметила любимого. Возможно, мои глаза просто увидели то, чего я хотела больше всего на свете. Я вздрогнула, словно в мою кожу одновременно воткнулась сотня булавок. Я прижалась спиной к стене и отвернулась. Но это был не он. Это был какой-то мужчина его роста, одетый в камзол, вышитый зелеными и желтыми цветами.
Я обнаружила «Якорь», прибежище, о котором слышала столько хорошего! Валентин, давясь одним из моих изысканных супов-пюре, однажды заявил, что в «Якоре» готовят лучшую баранью отбивную во всем христианском мире, а в шкафах спрятаны выходы в самые нужные потайные лестничные колодцы Бенксайда. Заметив мое недоумение при упоминании тайных лестниц, он снова принялся с жаром расхваливать тамошнюю баранину.
— Приготовлена очень просто, — заметил он, печально глядя на очередной шедевр кулинарии, который я поставила перед ним. — Ничего, кроме мяса, поджаренного в масле.
Действительно, запах пережаренного и жирного мяса плотным облаком выходил из распахнутой двери. Мимосина заметила, что торговля в этом заведении идет довольно бойко. Столы были уставлены деревянными тарелками и зелеными глиняными горшочками, в которые посетители с разной степенью точности швыряли обглоданные кости. Скатерти выглядели так, словно на них недавно окотилась кошка. Однако это нисколько не трогало посетителей, которые в основном принадлежали к низшим сословиям. Они приходили сюда залить горе вином и посмотреть с отвисшей челюстью на собратьев, поглощающих такие ужасы, как едва ощипанного и пожаренного голубя, завернутого в тесто, или жаворонков на вертеле.
Я была удивлена, кого здесь обслуживали. Не джентльменов вроде Валентина, а рабочих, мужчин в потертых платьях с дурными манерами либо вообще без манер, если судить по тому, как они пользовались специями и вытирали жирные подбородки рукавами. Они кричали дурными голосами, смеялись с набитыми ртами и ругались с недовольными официантами. Дверь с шумом захлопнулась, оставив в моей памяти инфернальную сцену, напоминающую вход в ад. Я постояла несколько секунд, не двигаясь, повторяя себе, что в этом заведении должен быть еще один зал, предназначенный для аристократов и богатых людей вроде Валентина, с отдельным входом, чтобы избежать встречи с подобными отбросами общества.
Но я его не увидела. Ибо в тот момент мой взор остановился на другом зрелище. Так я нашла способ заработать себе на хлеб.
Сердечный сироп
Берем отвар бальма, черешен, всего по три унции; ячменной корицы, две унции; отвар пионов, сироп левкоев, всего по одной унции; лимоновый сироп, пол-унции; микстуру кермесоносного дуба, четыре скрупула; смешать.
Как только этот раствор попадает в желудок, а зачастую еще во рту, он начинает свое благотворное действие. Он освежает и восстанавливает дух, положительно влияя на весь организм и душу. Мозг и прекардиальная область начинают работать с удвоенной силой. Пульс, до этого слабый и колеблющийся, улучшается, и кровь быстрее течет по жилам.
Шарлатан с грохотом закатил кафедру на колесах в переулок позади «Якоря». Сняв с лошади упряжь, он привязал ее на небольшом расстоянии к столбу. Хитроумные рычаги и шкивы превратили кафедру в небольшую сцену, возле которой тут же собралось несколько зрителей: нетерпеливая смесь лавочников и рабочих. Помощник шарлатана раздал рекламные листки. Я услышала, как кто-то сказал:
— Посмотрите на Зани!
Жадные руки расхватывали рекламные листки, словно горячие пирожки. Полуграмотные принимались с помпой зачитывать текст с листка своим безграмотным собратьям.
Зани, одетый в роскошный наряд из разноцветных тряпок, выпрыгнул на сцену и принялся развлекать публику танцами и шутками. Услышав смех, начали подходить новые люди, и очень скоро возле сцены собралось приблизительно пятьдесят человек, покатывающихся со смеху над ужимками Зани.
Внезапно мне очень сильно захотелось домой. В Венеции подобное зрелище можно было увидеть ежедневно на улице Рива дельи Скьявони. На этой сцене я даже заметила знакомые фигурки Космы и Дамиано, святых покровителей медицины. В Венеции тоже не гнушались услугами подобных клоунов. Зани были нужны для привлечения и увеселения толпы. Это облегчает выуживание денег из карманов. Иногда показная глупость Зани помогала подчеркнуть серьезность хозяина.
Я вспомнила, как шестнадцать лет назад я по ночам уходила из монастыря и бродила по Рива дельи Скьявони, делая вид, что провожу время со своим первым возлюбленным, наблюдая за мнимыми докторами и их работой. С тех пор я ничего подобного не видела.
У всех Зани есть какой-то талант. Кто-то хороший акробат, кто-то — музыкант или актер. Этот Зани оказался неплохим певцом. Он пел песню, раздавая отпечатанные листки, рекламирующие услуги «Великого, Несравненного, Великолепного Доктора Велены», совсем недавно прибывшего в Лондон из Венеции со своим Универсальным Бальзамом, который помог спасти тысячи жителей Венеции от мучительной смерти от чесоточного флюса. Заглянув за потертую портьеру, я увидела упомянутого доктора Велену, наносящего на лицо грим. Я-то думала, что он конюх. Он был похож на венецианца не больше, чем я на англичанку.
А Зани все напевал:
- Смотрите, господа,
- На редкого гостя.
- Он редко покидает дом.
- Возьмите вот листки,
- Излечит от всего
- Былого и грядущего;
- От спазмов, коликов,
- Подагры, сифилиса,
- Сплина, чесотки,
- Всего, что есть в ларце Пандоры.
- Он тысячам помог,
- Болезни превозмог,
- Великий наш мудрец.
Пропев последний стих, Зани почтительно отступил в сторону и отвесил несколько поклонов портьере, из-за которой величественно вышел шарлатан.
Чудовищно смуглый от покрывавшей его лицо краски, в огромном парике, он был одет довольно просто. Он остановился, окинув горящим взглядом толпу, и обратился к ней с акцентом, который очень отдаленно напоминал итальянский. Однако он умел неплохо растягивать букву «р», чем активно пользовался.
Не обращая внимания на дурную речь, грязную и порванную одежду и запах простолюдинов, он начал:
— Достопочтенные синьоррррры и незабвенные, прекрасные мадонны, и просто наши доррррогие друзья и слушатели…
Его потенциальные клиенты, слушая эту лесть, подошли ближе, пожимая плечами и застенчиво улыбаясь друг другу.