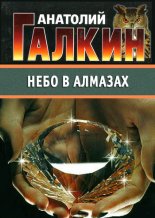Тринадцатый пророк Гайворонская Елена

– Не знаю… Честно. Вот когда я был маленьким, хотел стать священником. Правда, смешно?
– Нет.
– Я родился и вырос в подмосковной деревушке. Это сейчас на её месте крутой коттеджный посёлок. А тогда у нас и водопровода не было: сортир типа «дырка», воду из колодца таскали. Как при царе Горохе… Зато у нас была своя церковь… С виду маленькая, неказистая, но внутри, особенно в праздники, когда зажигали свечи, сотни свечей… Как же было красиво, блин! Пламя освещало лики на иконах, отражалось в глазах, и мне казалось, что они оживают… Служил там отец Владимир, такой невысокий, смешной старичок, совсем не менялся с годами. Добрый был дед. Разрешал местной ребятне тусоваться в церковном саду, рвать яблоки, играть в прятки, даже к алтарю подходить. А когда старухи начинали ругаться, их останавливал: «Это же дети. Им принадлежит Царство Небесное…» Та церковь на нём держалась. Даже когда всех нас переселили в скрёбаное Митино, бабки продолжали ездить в свой храм. Но было ясно, что не станет старика, и всё закончится. Скажи, почему хорошее так быстро проходит?
– Наверное, потому, что его не ценят, – задумчиво вымолвил Равви. – Людям всегда хочется большего, такова их сущность… И они сами делают выбор. Это их высшее право и привилегия – свобода выбора. К сожалению, оглядываясь назад, понимаешь, что «большее» не всегда означает «лучшее». Но поздно.
– Поздно, – повторил я с вымученной усмешкой. – Всегда поздно. Если бы можно было вернуться назад…
– К сожалению, это невозможно. – Сочувственно, но твёрдо произнёс Равви. – В одну реку нельзя войти дважды. Никогда.
– Никогда? – зачем-то глупо переспросил я.
– Никогда.
Я смотрел в ночь, а ночь смотрела в меня. И мне казалось, что вдалеке я вижу текучий свет, и я хотел бы и мог приблизиться к нему, но для этого должен погрузиться в зыбкую реку собственного ада. Погрузиться, чтобы выйти на другом берегу Стикса очищенным, рождаясь заново и для нового. Да, я один. Совсем один. А когда-то нас было пятеро… Всё, что копилось годы, прорвалось и хлынуло бурлящим потоком, перехлёстывая через край, грозя затопить всё вокруг…
Когда-то нас было пятеро: бабушка, папа, мама, мой младший брат Сашка и я… Семья. Старый бревенчатый дом. А вокруг – сад. Море цветов. Они цвели с весны до поздней осени, до самых холодов. Иной раз снег выпадет, и на белом – такие жёлтенькие солнышки на длинных ножках… Не помню названия. Мама обожала цветы и возилась с ними всё свободное время. А вообще они с отцом работали на местном заводе, как и почти все в нашей округе. Утром родители отправлялись на работу, мы с Сашкой в школу, бабушка в церковь. Она была очень набожной и не пропускала ни одной службы. Даже в те времена, когда церковь была в загоне, и многие не решались ходить, даже старухи, чьи дети метили на разные должности. «Правильно, – говорила бабушка, – нельзя служить двум господам.» Вернувшись, жарила, парила и пекла по выходным и праздникам пироги. Боже мой, какие это были пироги! Я до сих пор помню запах хрустящей румяной корочки… Это было самое счастливое время в моей жизни.
А потом началась перестройка. Появились импортные товары. Завод закрылся. Родители остались без работы. Я уже не помню, кому первому, папе или маме, пришла в голову идея выращивать цветы на продажу. Постепенно дела пошли на лад. Появились деньги. Нам с Сашкой купили клёвые куртки, кроссовки, настоящий «Рибок», дорогие велосипеды. Нам многие завидовали. Папа купил старенький «москвич». Каждое утро они с мамой загружали цветы в машину и везли в город. В ту субботу тоже поехали. Рано, часа в четыре. И Сашка за ними увязался. Он рано вставал. Помню, мама поцеловала меня, а я приоткрыл глаза и увидел, что пошёл дождь… А потом проснулся оттого, что зазвонил телефон. Трубку сняла бабушка. Я услышал, как она говорила:
– Да. Да. А что? – И вдруг умолкла.
Я вышел в коридор и спросил, что случилось.
Бабушка была белой, белее её церковного платка. В пальцах мелко тряслась телефонная трубка. И губы тоже тряслись и кривились в какой-то жалобной улыбке.
– Произошла какая-то ошибка. Машина, похожая на нашу, попала в аварию… Конечно, это ошибка… – повторяла она умоляюще. – Папа отличный водитель, ты же знаешь. Нам нечего волноваться.
– Откуда они узнали наш телефон? – спросил я, всё ещё не понимая, не принимая смысла услышанного.
– Там вроде были какие-то документы… Ты бы сбегал к дяде Серёже, попросил, что б отвёз, а то у меня что-то ноги нейдут… – жалобно попросила бабушка.
Всю дорогу она просидела, не шелохнувшись, с полузакрытыми глазами, и только губы беззвучно шевелились, повторяя слова молитв. А сосед дядя Серёжа не включил, как обычно, магнитолу, и каким-то неестественным голосом всё пытался разговаривать со мной о школьных отметках, каникулах и кино, но то ли оттого, что в его голосе сквозили странные нотки, то нарочито-беззаботные, то внезапно срывающиеся на дрожь, беседа не клеилась.
На повороте наш москвичонок столкнулся с Камазом. Дорога была мокрой, водитель грузовика не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. Позже говорили, что он был пьян. Многотонная махина подмяла под себя легковушку, не оставив пассажирам никаких шансов. Потом, когда прошло много времени, я утешал себя тем, что они не мучались. Смерть была мгновенной. А тогда я смотрел на груду сплющенного покорёженного железа, на усыпанный цветами дымящейся асфальт и не мог понять: отчего вода в луже на дороге тёмно-красная, неужели от бурых роз – гордости маминого сада?
После отпевания я не заходил в церковь. Ни разу. Я не мог видеть её золотого купола, не мог слышать звона колоколов. Я даже обрадовался переезду. Что-то сломалось, умерло во мне. Всё казалось пустым, серым, бессмысленным. Водителя грузовика посадили, а мне было всё равно. Странно, но я даже не испытывал к нему ненависти. Я вообще словно заморозился, перестал чувствовать. Кое-как окончил школу, поступил в институт, два года проучился, бросил, ушёл в армию…
Вернулся – устроился на работу, какая подвернулась. Плыл по течению, ни к чему не привязываясь, ничего не желая, ни о чём не жалея. Работа, деньги, женщины, приятели… Есть – хорошо, нет – ещё лучше. Как ни крутись, а конец один: из праха в прах, из тлена в тлен…
Громко и язвительно захохотала ночная птица. Я встрепенулся. Провёл рукой по лицу, словно стирая липкую паутину тягостных воспоминаний. Что это было? Я задумался? Или задремал? Нет, всё-таки я бодрствовал. Говорил или молчал? Всё смешалось в моей бедной голове. Я зачерпнул пригоршню земли, медленно высыпал назад. Зачерпнул снова. Это было бессмысленное движение, но разве вся наша жизнь не цепь простых бессмысленных движений?
– Я знаю, это тяжело понять, – тихо проговорил Равви. – Но ты должен постараться. Все мы только странники в этом мире. Истинная смерть – это абсолютное исчезновение: физическое, духовное и энергетическое – категория космическая, вселенская. А то, что мы называем смертью в этом мире, лишь переход из одного состояния в другое. От одной жизни к другой. Рано или поздно его преодолеет каждый. Иногда лучшие уходят вперёд, и тем, кто их оплакивает, это кажется несправедливым. Но все мы возвращаемся к Нему, как блудные дети из дальних странствий, одни раньше, а другие немного позже. Здесь и там время течёт по-разному. Что в этом мире тысяча лет, то там всего лишь час. Тебе кажется, что ты и твои близкие расстались на вечность, но представь, что они лишь на несколько секунд вышли в другую комнату, и скоро вы встретитесь в мире лучшем и совершенном, чтобы более не расставаться никогда.
– Древние легенды, – сказал я с деланным смешком.
Но мне вовсе не хотелось смеяться. Мне отчаянно захотелось поверить, возможно, потому, что говорил он так, словно пропускал каждое слово через себя самого, и те, слетая с губ, переставали быть набором знакомых звуков, обретая новый, неведомый мне прежде вселенский смысл, и сами становились этим смыслом. Трудно, почти невозможно было ему не верить. Но это было бы слишком просто…
– Ты отличный парень. Правда. Я думал, такие только в книгах бывают, да и то в детских. Умный, добрый, бескорыстный… Настоящий. Как в школе нам твердили: Человек с Большой буквы. Да… А мы ржали: мол, с какой именно буквы? Теперь вот понял. Честное слово, мне жаль, что у меня никогда не было и, наверное, не будет такого друга. Но не надо рассказывать мне сказки – я вырос из них. Когда-то верил. Молил о чуде, хотя уже понимал, что его не случится… Но я верил, понимаешь? Верил и надеялся до последнего! И, если Он, действительно, существует, то просто кинул меня! Как заправский шулер тупого лоха! Предал. Так что лучше бы Его не было!
– Замолчи! – подскочив, меняясь в лице, крикнул в ответ Равви. Он здорово разволновался, даже на лбу проступили бисеринки пота. – Не говори того, о чём понятия не имеешь!
Он перевёл дыхание. Заговорил мягче, ровнее, самообладание постепенно возвращалось к нему и вместе с ним необыкновенный дар убеждения.
– Я знаю, насколько тяжело заставить пойти за собой и двенадцать человек. И я могу представить, каково это – управлять целой Вселенной с её тысячами галактик, миллионами звёзд и десятком миров с их разницей во временах и пространствах, населённых существами, чья скорость размножения, увы, в миллионы раз опережает скорость развития интеллекта, застрявшего на стадии крайнего маниакального эгоцентризма, слепой уверенность в собственной уникальности, исключительности и вседозволенности и ненависти к себе подобным, за которой следует самоуничтожение. И каждое из этих существ, как капризное великовозрастное дитя, постоянно на что-то жалуется, о чём-то просит, что-то требует. Но большая часть из этих жалоб, требований и просьб – шелуха, засоряющая пространство Вселенной. Я, как никто, знаю, насколько тяжело отделять зёрна от плевел, услышать единственный стон, когда тысячи вопят и беснуются. Поэтому нужен был кто-то в этом мире, чтобы передать Его волю, помочь Ему и всем нам. А ты, быть может, здесь для того, чтобы помочь мне?
Эта речь сразила меня наповал своей абсолютной невероятностью. Если до сих пор я вёл беседы с философом эпохи «до исторического материализма», то сейчас у меня возникло ощущение, что передо мной современный человек моей эпохи, имеющий представление о законах физики и знающий намного больше, чем желал показать. Я обескураженно молчал, во-первых, оттого, что не обладал даром полемиста. Но, во-вторых, впрочем, наверное, это и было «во-первых», каким-то шестым чувством понял, что он говорит правду, какой бы странной, невероятной, невозможной она ни казалось. «Верю, ибо абсурдно…» Не помню, кто являлся автором этой мульки, но именно она сейчас стала точнейшим определением моего состояния. Как всё просто и невероятно сложно одновременно…
На кончике моего моём языка вертелась тысяча вопросов, но я не решался их задавать, каким-то шестым чувством понимая, что всё, что мне необходимо узнать, он расскажет сам, а то, о чём промолчит, должно оставаться непознанным.
– Вряд ли я сумею тебе помочь, – вымолвил я. – Ты творишь невероятные чудеса и говоришь так, что люди бросают всё и идут следом. А я простой парень, маленький человек, и пары слов связать не умею.
– Ты ошибаешься на свой счёт, – сказал он. – Нет больших и маленьких людей. Все мы равны, все дети одной Земли, частички одной Вселенной, и изначально, рождаясь, каждый имеет право на вечность. К сожалению, многие утрачивают его в процессе жизненного пути. Сейчас ты один, и тебе больно. Но представь, что все люди вокруг – твоя большая стая, твоя семья. Я понимаю, насколько это трудно и абсурдно на первый взгляд. Но, если удастся, ты начнёшь по-новому воспринимать мир. Боль утихнет. Придёт любовь. Тебе захочется делать добро: ведь никто не пожелает зла членам семьи. И твоё добро вернётся к тебе. Любовь – удивительное чувство. В нём заложено огромная сила притяжения. Оно высвобождает лучшее, что есть в людях. Оно притягивает свет. Протяни ещё одну цепочку света. Мир сегодня нуждается в этом как никогда.
– Можно спросить, у тебя была семья?
– Конечно. А ты думал, меня в огороде нашли? – улыбнулся Равви. – Родители, братья, сёстры. Я тоже простой парень, отнюдь не императорских кровей. Отец был плотником. Я ничем не отличался от других детей. Разве что мне чуть больше нравилось учиться. В то время как мои сверстники гуляли с девчонками, я, как мог, постигал арифметику, языки, читал Писание, стараясь разгадать за каждым словом особый, никому не ведомый смысл. Мне казалось, что священники такие же простые люди, как и я, и потому могли что-то упустить, или не так понять. Я никому не поверял своих мыслей, потому что это было бы богохульством… А вот плотник из меня был никудышный. – Он смущённо поскрёб за ухом. – Отец говорил: «И в кого ты такой бестолковый получился? Как ты будешь жить? Чем станешь кормить семью, когда женишься?»
Произнося эти фразы, Равви скрипуче изменил голос, изображая извечное возмущение родителя нерадивым чадом. Получилось весьма забавно, я фыркнул, не сдержавшись.
– Хорошо, что он так говорил, – продолжил он уже нормально. – Потому что я, действительно, всерьёз задумался над тем, как мне жить. И однажды просто встал и ушёл, куда глаза глядели. Тогда я должен был остаться один, потому что только одиночество высвобождает разум и душу, делая их открытыми для очищения, и обновления, и познания. Одиночество, которым многие тяготятся, на деле – высшая привилегия человека. Оно даёт возможность осознать своё место в мире. Звери живут стаями, потому что в одиночку им не выжить. Человек в одиночестве обретает себя и возвращается, чтобы помочь своей стае… Я много бродил по свету, был в разных краях, встречался с разными людьми, которые были старше, умнее, мудрее меня… Я искал истину.
– Нашёл?
Равви посмотрел на меня очень внимательно, наверное, напряжённо раздумывал, стоит ли посвящать меня в высшие тайны мироздания. А я приготовился не обижаться на то, что он делать этого не станет, отговорится какой-нибудь ерундой, потому что, несмотря на приятную беседу, я всё же не был одним из тех, кого он выбрал, а только случайным попутчиком, как он заговорил вновь.
– Представь себе огромные весы. На одной чаше свет – добро. На другой тьма – зло. Это наш мир. Собственно, когда-то люди знали это, но забыли. И многие не хотят вспоминать, а многие боятся. Странно, ведь это так естественно: делать и желать добра друг другу, и тогда в мире воцарится гармония. На протяжении жизни каждый из нас заполняет эти чаши. Все наши ежедневные помыслы и деяния неизбежно попадают в одну из них. Этот мир существует, пока перевешивает чаша добра. К сожалению, медленно, но верно зло тоже заполняет свою. И, чем дальше, тем больше. Мы даже не подозреваем, какая колоссальная энергия заключена в каждом из нас. Быть может, если бы люди не забывали об этом, то использовали бы свой разум только во благо. Я должен напоминать, говорить, кричать об этом… Человек слаб и уязвим. Его так легко сбить с толку, соблазнить, запугать… С каждым годом мир становится всё более жестоким. Зло порождает зло, и так до бесконечности… Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь… Крохотные цепочки сливаются в огромную паутину, окутывающую всё вокруг. Однажды начав плести её, люди не в силах остановиться. Зло повсюду: в воде, которую мы пьём, воздухе, которым дышим, оно проникло в нас так глубоко, что скоро начнёт впитываться с молоком матери… И если его не остановить, не разорвать порочную цепь, настанет день, когда добро и зло окажутся в равновесии. Этот день уже совсем близко. А потом… Настанет черёд последнего звена, последней капли… Я не знаю, что это будет: очередная кровавая бойня, прикрытая ложью умных фраз или очередной низменный поступок одного человека, например, предательство… Мир, переполненный злом, не имеет право на существование. Он просто рухнет. Исчезнет, как исчезли десятки других до нас, о которых мы не помним, не знаем, но на чьих костях строим сейчас свой. Вот тебе истина. К сожалению, не столь прекрасная, как хотелось бы.
– Апокалипсис что ли? – Я почесал затылок, переваривая услышанное. – Извини, но это звучит как-то…
– Неправдоподобно? – Закончил он за меня и горько усмехнулся. – Знаешь, что правдоподобнее всего на свете? Ложь. И чем она наглее и циничнее, тем легче в неё верится. Один из самых больших парадоксов нашего мира.
Он замолчал, но посмотрел так, точно старался донести до меня знание без посредничества слов, напрямую, из мозга в мозг, и по его помрачневшему, с резко обозначившейся сетью морщинок, лицу, я вдруг осознал убийственную в своей кажущейся невероятности его правоту.
– Н-но, проблеял я, холодея и запинаясь, – у нас есть пара тысяч лет? Существует история… – Ведь её не переделать?!
– Всё можно переделать. Абсолютно всё. Возможно, история, которую знаешь ты, переписывалась не один десяток раз, и тебе известна лишь окончательная версия.
– Ладно… – сказал я, старательно раскладывая новые знания по извилинам. – Ладно… Допустим, всё наше существование – футбольный матч. – Я начертил палочкой на земле прямоугольник, изобразил подобия ворот. – Команда добра против команды зла. Мы, естественно, хорошие парни и играем за добро. Кто играет против нас? По определению это должны быть плохие парни под руководством нехорошего дяди-тренера, любителя апокалипсисов, которому чем-то ужасно не угодил род людской. Так? Где же противник? По правилам – врага надо знать в лицо.
Я поднял голову, всё ещё желая услышать смех и признание в удачной шутке. Но Равви был серьёзен как никогда.
– Он играет по своим правилам, – ответил он. – И команда тоже есть… Но лучше вам никогда не встречаться.
Неожиданно мне стало страшно. Вдруг возникло чувство, что кто-то спрятался в кустах, слушает, наблюдает за нами, готовый в любой момент нанести удар. Я огляделся по сторонам, но, разумеется, никого не увидел, но на всякий случай придвинулся ближе к Равви, съёжившись от очередного порыва холодного ветра с реки, прошептал:
– Что же делать? – Мой голос куда-то подевался.
– Добро. Делать добро и учить этому других. Чем больше и быстрее, тем больше шансов у нас выжить и сохранить наш мир.
– А если не успеем?
Он снова посмотрел мне прямо в глаза, и мне опять сделалось неуютно от ощущения, что я знаю что-то важное, но никак не могу вспомнить, что именно. А затем проговорил с какой-то тихой, но светлой грустью в затуманившемся взгляде.
– Не бойся. Всё будет хорошо. На любое действие можно найти противодействие. А сейчас пойдём спать. Будет день – будет свет.
Пётр проснулся не в духе. Долго морщился, чесался, бурчал что-то под нос.
– Сон дерьмовый видел.
– Большое дело – сон, – хмыкнул я. – Счастье, что утро настало.
Он поглядел на меня, словно постарался понять очередную шутку, но так и не понял. Я погрёб к реке – морду сполоснуть. Во рту словно мухи натоптали. Сотворить бы чудо в виде самого простого тюбика зубной пасты или жвачки… А что если… Воровато огляделся по сторонам, развернул ладонь кверху и проникновенно произнёс:
– Господи, пожалуйста, пошли мне «дирол» без сахара.
Какая-то пернатая тварь просвистела над головой, капнув на пальцы тёплым вязким помётом.
– Вот, спасибо.
Воистину, хорошо, что коровы не летают. Мысленно чертыхаясь, отмыл руку.
А утреннее солнышко было таким ласковым, ещё не кусалось полуденным зноем, вода так необыкновенно прозрачна, говорлива, и трава сочна и душиста, что все вчерашние страхи показались очередным дурацким сном. Но нечто острой занозой засело глубоко внутри, разрушая сладостную безмятежность утра и каждого вздоха. Я не понимал, что надо делать, чтобы удалить эту тревожную боль, и меня не оставляло мучительное чувство, будто я знаю, или когда-то знал, но позабыл, и никак не могу вспомнить, и должен постараться изо всех сил, потому что от этого знания зависит нечто даже более важное, чем моя жизнь…
«Будет день – будет свет…»
День настал. Но где-то внутри меня сгустились серые сумерки, и солнечный луч никак не мог пробиться сквозь толщу мрачных предчувствий.
Дом, куда нас в обед пригласили на семейное торжество по поводу обрезания очередного наследника, находился на возвышении. К нему вела дорожка, вымощенная булыжником. Уже при подходе к обвитому плющом забору обдавало прохладой и свежестью спелой зелени. После пустынных пейзажей это место казалось райским уголком. Фруктовые деревья тянули к небу кряжистые кроны, давая тень аккуратным грядам. Тяжёлые лозы с набухшими фиолетовыми гроздьями лениво плелась вдоль каменных стен, взбираясь под самую крышу. Приглядевшись, я увидел вбитые колышки и заботливо натянутые верёвочки, по которым вились растения. Из дальнего уголка сада, куда вела каменистая дорожка, доносилось мерное журчание воды: возможно, там находился фонтан. Я знал, что где-то за домом находится цветник. Я чувствовал его приторно-тошнотворный запах… Я приостановился, ощутив, как больно ёкнуло внутри. Этот сад, и дом, и цветник, были лишены времени, чьи неумолимые законы бессильны перед виноградной лозой, пением воды, каменными стенами. Будут бежать годы, меняться законы и правители, изобретаться умные машины и грозное оружие, многое канет в вечность, обратится в пепел, и не вспомнится никогда. Но всегда где-то будет сад, и плеск воды, деревья, обременённые плодами, и дорожка, вымощенная булыжником, и увитая плющом беседка, и дом, подправляемый заботливой рукой… В какой-то миг меня посетила шальная мысль, что из проёма гостеприимно распахнутой двери я услышу голоса из давно минувших дней, всё ещё звучавшие в потаённых уголках памяти…
Я услышал голоса. Но другие, и их было много. Очнувшись от дежавю, обнаружил, что вокруг, в саду и доме, полно народа, и он всё продолжал прибывать. На нас косились исподволь и просто откровенно пялились. Из обрывков фраз понял, что всем этим людям охота поглазеть на Равви, а заодно на его спутников. Но были и те, кто пришёл со своими нуждами и чаяниями. Их тоже набралось изрядно, и многие прибыли издалека. Признаться, чрезмерное внимание к своей скромной персоне было мне непривычно, и моим первым желанием было нырнуть в заросли кустов, даже рискуя напороться на острые розовые шипы. Разом вспомнилось длительное отсутствие расчёски, двухнедельная щетина и нарядец, порядком обтрепавшийся, несмотря на былые заверения старого проходимца-продавца о необычайной прочности льна. Остальные держались по-разному: малыш Симон теребил измочаленный кончик верёвочного пояса и сильно смущался, когда какая-нибудь смазливая девчонка пыталась строить ему глазки. Иоанн рассеянно грыз ноготь и щурился на дивный сад, вероятно, в поисках вдохновения. Недоверчивый Фома косился настороженно, видимо по привычке вычислял возможных шпионов. Красавчику же Фаддею же вся эта шумиха доставляя явное удовольствие. Из-под длинной кудрявой чёлки он разглядывал молоденьких девушек, улыбался скромно, но загадочно, как восходящая голливудская кинозвезда перед камерами. В довершение, где-то умудрился раздобыть новенький хитон, сидевший на нём безупречно. Петру, казалось, всё было по барабану. Вертел головой, ковырял в носу и тихо насвистывал что-то очень знакомое.
– Глянь, – сказал я, толкнув его в бок, – как наш Федя вырядился. – Прямо жених.
Пётр гоготнул в кулак.
Предъявили виновника торжества – младенца мужского пола, который был философски спокоен, но при виде всего этого сборища занервничал и закричал во всю мощь здоровой мальчишеской глотки. Тотчас счастливая мать унесла сына, а радушный хозяин, рассыпаясь в любезностях, повёл всех за дом, где рассадил под увитым виноградом и плющом навесом вокруг заставленного разной снедью стола. Так бы и сразу. Я поёрзал на неудобной скамейке и едва не занозил задницу.
Равви был доброжелателен и сдержан.
От мяса отказался, но позволил налить вина и положить фрукты.
– Как ты до сих пор ноги не протянул? – не выдержав, шепнул я. – Совсем ничего не ешь.
– Почему? – удивился он, – ем.
– И в подтверждение своих слов кинул в рот виноградину.
– Ладно, – сказал я. – Я – человек простой, телепатией не владею, хлеб с небес не добываю, руками лечить не умею. Зато нажраться могу за двоих. О кей?
– Пожалуйста. – Разрешил добрый Равви. – Только не лопни.
– Не беспокойся…
Я забыл закончить фразу, потому что моё сердце заколотилось часто и глухо, и на мгновенье стало труднее дышать. Я ощутил эту перемену, прежде чем понял, чем она вызвана. В текучем светлом платье, стянув на затылке копну смоляных волос в пышный узел, из которого выскальзывали, струясь и сбегая вниз по покатым плечам, тонкими змейками непокорные пряди, сквозь толпу протиснулась Магдалин. Обвела сборище рассеянным взглядом, приоткрыла соблазнительные губки…
Шурша юбками, Магдалин пробралась к нам, присела на краешек скамьи. Я резко сдал вбок, освобождая место, и едва не завалил Петра, издавшего недовольный возглас.
– Привет, – сказал я. – Отлично выглядишь.
– Спасибо.
Я хотел продолжить разговор, но умные мысли не приходили, а глупости я сам отмёл. Спросил:
– Хочешь винограда?
И прежде чем она успела ответить, увёл всю чашу с виноградом из-под носа Равви. Он посмотрел на меня, но не проронил ни слова, только головой едва заметно качнул и улыбнулся, как мне показалось, не без иронии.
– Спасибо, – снова ответила Магдалин и посмотрела на Равви, но тот уже отвернулся.
Заладила, будто других слов не знает.
– Вина?
– Нет, спа…
Но я уже набабахал полный бокал и отметил злорадно:
– Поздно. Придётся выпить. За здоровье!
– Ладно, – согласилась она на удивление покорно.
– На брудершафт?
– Кажется, ты учишься не тому, – погрозила пальчиком. От вина её щёки порозовели и глаза заблестели.
– Совершенно не тому, – согласился я. – Может быть, ты мне подскажешь, кто здесь даёт уроки покорения неприступных красавиц.
– Ты забавный. – Она с полуулыбкой покачала головой. От её волос исходил запах свежести, какой бывает у молодых листьев или трав, или первого снега.
– Спасибо. – Я не понял, следует мне обидеться, или пока повременить.
Она же опять покосилась на Равви, который о чём-то увлечённо толковал с хозяином.
– Он легко находит язык с кем угодно. – Поделился я своим наблюдением.
– В этом его талант, – ответила Магдалин, подавив, как мне почудилось, невольный вздох. – Когда ты с ним говоришь, кажется, что нет человека ближе и понятнее, но вдруг ощущаешь невидимую преграду. И что за ней, известно только ему одному…
Я сказал, что, наверное, у каждого есть потайной сундучок, отпирать который не разрешается никому, иногда даже самому себе. Только у одних он размером с напёрсток, а у других – с бабушкин комод.
Вообще-то я предпочёл бы найти иную тему для беседы. Отчего-то меня задевало, что все её мысли и разговоры сводятся к Равви, будто вокруг никого и ничего больше не существует.
Краем уха выхватил рассуждения о небывало жаркой весне, взметнувшихся ценах, грабительских налогах, сплетни о чьих-то изменах, свадьбе и похоронах. И меня посетила странная идея: если закрою глаза, легко смогу вообразить себя на московской тусовке. Удивительно: каждый из нас живёт с чувством, что делает всё набело, впервые, но, оказывается, всё уже было, и даже не сто, а тысячи лет назад. И ничто не ново, кроме его собственного опыта, который не значит ровным счётом ничего. Словно в подтверждение этой догадки кто-то притащил чудной музыкальный инструмент, нечто среднее между арфой и гуслями, и принялся бренчать. Бренчал нудно и фальшиво, как исполнитель в третьесортном московском баре.
– Лучше бы он не играл, – заметил я.
Магдалин улыбнулась и снова посмотрела в сторону Равви. Тот продолжал беседу, в которую включилось ещё несколько человек. Они о чём-то спорили, отчаянно жестикулировали. А доморощенный менестрель терзал инструмент и мой далеко не самый музыкальный слух. Я решил, что маловато выпил, и накатил ещё одну.
Я не понял, как инструмент оказался в руках Фаддея. То ли он сам попросил, то ли, наоборот, попросили его. Он взял бережно, будто тот был сделан из тончайшего стекла. Попробовал пальцами струны, словно проверял на прочность. А потом заиграл и запел удивительно чистым, проникновенным голосом. Песня была о доме, окне, распахнутом в сад, цветах, золотых, как солнце и девушке в белом платье… Я закрыл глаза.
– Что с тобой? – неожиданно тронула меня за плечо Магдалин. – Ты плачешь?
Прикусив губу, я покачал головой, вымучил улыбку.
– Тоскуешь по дому?
– Того дома давно уже нет. И не будет уже никогда…
Сам не знаю, как вырвались эти слова. В жизни никому не жаловался, особенно красивым женщинам. Даже Магде.
– Не надо… – шепнула она, касаясь моего запястья.
Её рука оказалась меж моих ладоней, дрогнула и замерла, как пойманный зверёк, готовый в любой момент вырваться и ускользнуть. И я замер, боясь спугнуть мелодию случайного прикосновения. Мне отчаянно захотелось приложиться к её трепетной ручке губами, но я не осмелился. Сидел и тихо млел как глупый подросток на первом свидании.
Песня закончилась, музыка смолкла. Инструмент, как сытый свернувшийся калачиком кот, покоился на коленях Фаддея. Комната взорвалась аплодисментами и восторженными возгласами. Но Фаддей решительно их пресёк, отдал инструмент и насупился над своим бокалом.
– Эх, Иуда, – сказал чей-то громкий бас, – тебя не хватает. Никто из нынешней молодёжи с тобой не сравнится. Изображают что-то, выламываются, а настоящей музыки нет. Души нет.
Иуда. Меня вдруг словно стукнули по голове. Причём во второй раз, как обычно в кино: долбанут первый раз – у героя амнезия, а чтобы обратно вспомнить всё, требуется второй удар. И тотчас – щёлк! И становится светло настолько, что самому страшно: то ли это озарение, то ли очередной глюк.
Не может быть! – крикнула одна половинка моего мозга.
Может! – возразила другая.
Я дёрнулся и опрокинул бокал с вином на стол. Оно растекалось отвратительной красной кляксой.
Метнул в Равви пронзительный взгляд, но он не смотрел в мою сторону.
– И музыка, и душа остались. – говорил Фаддей. – Они вечны. Были, есть, и будут, с Иудой, или без. А деньги, слава, успех – всего лишь химеры. Мне это уже ни к чему…
– Что случилось? – встревоженно спросила Магдалин.
– Что?!
– На тебе лица нет. Тебе плохо?
– Почему его называют Иудой?
Она посмотрела удивлённо, помешкав, ответила:
– Прежде его так звали. С крещением он принял имя Фаддей.
– Зачем?
– Равви дал. Как символ начала новой жизни.
– Послушай, а имя Иуда у вас редкое?
– Вовсе нет, напротив. Обыкновенное имя.
– А ещё кого-нибудь из наших раньше так звали?
– Не знаю, – с лёгким недовольством ответила Магдалин. – Какая разница? К чему этот допрос?
Я крепко прикусил кончик языка, чтобы не сболтнуть лишнего. Терзаемый мучительными измышлениями и противоречивыми чувствами, я хлопнул ещё стакан вина, немного расслабился и продолжил разговор.
– Просто интересуюсь. У тебя тоже раньше было другое имя? – Это любопытство я тоже списал на поиск истины.
Опустив глаза, Магдалин помолчала, потом нехотя ответила:
– Да.
И снова у меня возникло ощущение, что тема прошлого ей не по душе.
– Загадочная Магдалин… В тебе есть тайна.
Она выдержала мой взгляд и в тон ответила:
– В тебе тоже, любопытствующий пришелец.
Спорить я не стал. Странное дело: всегда в глубине хотел казаться в глазах красивой женщины эдаким таинственным незнакомцем, маской Зорро или хотя бы Штирлицем. Но с интеллектуальным багажом скудных школьно-студенческих познаний, гордым статусом торгового агента, обладателя синей «девятки» и подобным джентльменским набором подобное желание оставалось в разряде неосуществимых. И кто бы мог подумать…
И тут Равви заговорил. Его слушали в такой тишине, что жужжание мух казалось самолётным гулом. Я был не прав, когда думал, что его возраст служит ему помехой. Его слушали, кто с благоговением, кто с недоумением, иные с негодованием, но слушали, не перебивая, не прерывая. Я посмотрел на Магдалин. Она подалась вперёд, затаив дыхание, внимала, как внимают школьницы речам кумиров, напрочь забыв о нашем разговоре, обо мне, и вообще обо всём на свете. Что-то нехорошо отозвалось у меня внутри. Я перевёл взгляда на Фаддея. Иуду… «Нет, глупости, – сказал я себе. – Дурацкое совпадение. Всё это сказка, красивая печальная древняя легенда, не более…»
Равви говорил немного, а, когда закончил, со всех сторон полетели вопросы, и Равви отвечал на них со спокойной уверенностью, без единой запинки, как учитель на уроке.
– Разве плохо быть богатым?
– Плохо не видеть, не знать и не желать ничего, кроме богатства.
– Ты отвергаешь деньги?
– Я отвергаю власть денег. Власть, при которой прав тот, у кого их больше.
– Скажи, – раздался из тёмного угла вкрадчивый голос, – ты отвергаешь любую власть человеческую?
– Есть только одна истинная власть – Высшая. – С нажимом произнёс Равви. – Остальное – иллюзии. Никто более не властен ни над жизнью человеческой, ни над его смертью. Ни, тем более, над тем, что последует после смерти.
По собранию пробежал шепоток, словно ветром протянуло по кронам и листьям деревьев.
– Значит, – продолжил всё тот же нехороший крадущийся из угла голос, – власть кесаря ты тоже отвергаешь?
– Я уже ответил на этот вопрос, – сказал Равви. – Отдавайте Богу Богово, а кесарю кесарево.
Мне этот папарацци не понравился. Я поделился с Петром, тот сказал, что ему тоже.
– Говорят, ты исцелил римлянина на той неделе? – яростно засверкав глазами, воскликнул мужчина средних лет в красном плаще с густыми чёрными усами, воинственно топорщившимися под длинным горбатым носом.
– Врач должен оказывать помощь каждому, кто нуждается в ней.
– Иудея стонет под римским гнётом, – возмущённо воскликнул черноусый. – Где твоя хвалёная свобода? Римские солдаты врываются в наши дома, выносят последнее, бесчинствуют, глумятся над нашей верой, соблазняют наших дочерей. А чем занимаешься ты? Развлекаешь людей байками? Ешь и пьёшь в обществе торгашей, мытарей и шлюх? Разве это достойная компания для пророка?
Я вдруг почувствовал, как напряглась Магдалин, зябко кутаясь в покрывало. Тонкие пальцы быстро перебирали длинную шерстяную бахрому.
– Я скажу, когда вы станете свободными, – ответил Равви. – Когда перестанете делить друг друга на иудеев и римлян, друзей и врагов, праведников и грешников, хозяев и слуг. Вспомним о том, что род человеческий – одна большая семья, живущая в одном мире под одним небом. Кто ты такой, чтобы осуждать и указывать? Чем ты лучше других? Считаешь себя праведником? А кто такие праведники? – На лице его появилось насмешливое выражение. – Наверное, те, кто носят длинные одежды, постятся два дня в неделю, отдают десятину на церковь? Чтят субботу с таким усердием, что не станут тушить пожар, случись он в этот день? Но кто знает наверняка, что скрывается за безупречной оболочкой?
Равви взял из вазы с фруктами огромную смокву с безупречными, без единого пятнышка, округлыми боками, задумчиво повертел в тонких пальцах. И вдруг резким движением разломил плод надвое. Брызнул сладкий сок. Равви положил обе половинки на стол. Из мякоти высунулся меланхоличный белый червяк. Недоумённо покрутил гладким туловом и спрятался обратно.
– Я прошу вас задуматься, – после недолгой паузы завершил Равви, – Никто не безгрешен. Человек слаб. Но каждый из нас может хотя бы раз остановиться и не совершить дурного поступка, быть может, именно он спасёт мир от страшного бедствия.
– То, что ты говоришь – всеобщее равенство, братство, свобода, – бред, утопия. – Презрительно сказал человек в красном плаще, и запахнулся в него, как в знамя. – Сказки для дураков. Не будет этого никогда, ни через сто лет, ни через тысячу, ни через две тысячи.
– Если все будут рассуждать так, как ты, – парировал Равви, – у нас не будет ни ста лет, ни тысячи. Вы раньше перегрызёте друг другу глотки, всё спалите, всех изничтожите. Вот тогда настанет твоя свобода – свобода от всего живого на Земле!
– Ты обыкновенный болтун. Языками молоть все горазды, лишь бы не работать!
Лично мой язык зачесался послать его в ответ. Но Равви ничего не ответил. Зато вскинулся побагровевший хозяин. Между ним и непочтительным гостем завязалась перепалка. А Равви, примирительно подняв руки вверх, стал просить продолжить веселье. Как по команде снова заиграл горе-музыкант, кто-то громко запел и вскоре разгорячённый обильной едой, питьём и дебатами, народ пустился в пляс. Ничем эти танцы не отличались от наших, разве отсутствием крутой аппаратуры. Мне это всё сильно напоминало деревенские свадьбы, где и поесть, и попить, и попеть, и сплясать, кто как умеет, и побеседовать по душам, а если дискуссия заходит в тупик, иной раз договорить кулаками. Я поискал глазами Фаддея. Он в уголке ворковал с симпатичной смуглянкой.
– Хватит жрать! – крикнул мне в ухо Петр. – Праздник, надо веселиться!
И, подхватив упиравшуюся Магдалин под руки, втащил в хоровод.
Под пронзительно-щемящие звуки, издаваемые не то дудкой, не то флейтой, или чем-то иным, но из той же оперы, сопровождаемые другими текучими переливами музыки простой и невероятной одновременно, Магдалин, сбросив покрывало, медленно и плавно вращалась, изгибаясь пленительно, грациозно. Её обнажённые руки то взмывали вверх парой белых чаек, то скользили вдоль обвитого шёлком стана, падая вниз, ныряя в водоворот складок длинной юбки. Не было в том танце ничего выдающегося, эротичного, его даже соблазнительным трудно было назвать. Любая современная старшеклассница на школьном диско сейчас такое забацает – держись. А уж в столичных клубах я повидал! Но отчего-то стоял, с замиранием сердца и участившимся дыханием смотрел, смотрел, не отрываясь… Все мысли, до единой, начисто вылетели из головы, но не бухнулись ниже пояса, как бывало при виде красивой желанной женщины, а устремились вверх, в иссиня-чёрное небо, навстречу мерцающим огням…
Музыка смолкла. Магдалин поймала мой взгляд, стушевалась, зябко поёжилась, набросила покрывало.
– Где он?
Конечно, она говорила о Равви, о ком же ещё? Похоже, он был единственным человеком, который для неё что-то значил. И даже гораздо больше, чем «что-то». А тот, как всегда, испарился.
– Я беспокоюсь за него, – тихо промолвила Магдалин.
«Я тоже», – подумал я, но не произнёс я вслух, все мои нехорошие подозрения, сомнения и догадки закружились с новой силой. Я изловил пробегавшего мимо с очередным кувшином вина славного толстячка-хозяина, спросил про Равви.
– Там, – широко улыбнулся хозяин, махнув пухлой ручкой в сторону калитки. – За ним пришли…
И побежал дальше, проигнорировав моё хриплое: «Кто?!».
Внутри у меня похолодело. Десяток жутких картин пронёсся в мозгу, и последней было обречённое понимание: я остался здесь, совсем один, навсегда…
Я рванул к выходу, расталкивая людей, наступая на чьи-то ноги.
За приоткрытой калиткой на дороге слышались негромкие голоса, один из которых – женский, жалобный, дрожащий. Откуда ни возьмись, налетел ветер и распахнул калитку до половины. Теперь в свете Луны я ясно видел простую женщину лет пятидесяти, или около того. Худенькая. Невысокая. Миловидная. И очень грустная. Из-под тёмного платка выбивались непокорные рыжие пряди. Поодаль переминались с ноги на ногу два усталых парня в пропылившихся одеждах.
– Мы остановились у Марфы, – говорила женщина. – Сынок, пойдём домой… Я обещала отцу, что приведу тебя к Празднику. Вот и братья твои просят тебя…
Она кивнула в сторону парней.
– Не нужно обещать того, что выполнить невозможно. – Мягко выговорил Равви, выходя из тени.
Теперь я мог видеть и его лицо, такое же грустное, слегка беспомощное, но исполненное решимости.
– Вот мой дом, – он обвёл рукой пространство вокруг. – Небо – крыша его, земля – пол. И нет в нём стен, ибо не от кого мне скрываться, и дверей нет, потому что закрываться не от кого. Я гражданин мира. И все, кто идут за мной – моя семья…
Женщина отшатнулась. Из часто заморгавших глаз выкатились слёзы, пробежали по бледным щекам.
– Возвращайтесь домой, – тихо сказал он и с грустной нежностью погладил её по мокрой щеке. – Не надо сейчас вам быть здесь.
– Я не вернусь без тебя, – с неожиданной твёрдостью воскликнула женщина, хватаясь за его локоть. – Одумайся, пока не поздно. Люди худое говорят… – Она запнулась, судорожно сглотнула, – тебя хотят убить…
– Прошу тебя… – настойчиво проговорил Равви. – Не надо слушать сплетни. Всё будет хорошо.
– Умоляю тебя, сынок, вспомни Крестителя! – звенящим голосом вскрикнула женщина, падая Равви на грудь. – Я этого не переживу… – И затряслась в рыданиях.
Один из стоявших поодаль мужчин решительно подошёл к ним. Его глаза возмущённо горели.
– Хватит, мама, пойдём. – Сказал он, обняв женщину за плечи, – видишь, наш дорогой братец возомнил себя царём, уже и свиту набрал. Зачем мы ему, простые работяги? Ему теперь нужна другая родня, королевских кровей.
– Замолчи, – воскликнула женщина, – прошу тебя, замолчи!
– Прости меня, Яков, если я тебя обидел. – Тихо проговорил Равви. – Но ты сам не понимаешь, что говоришь. Мне не нужна слава, мне не нужен трон. Не этого я жду, и меня ждёт не это. Однажды вы поймёте…
– Мама, пойдём, – угрюмо оборвал тот, кого Равви назвал Яковом. – Я же предупреждал, у него крыша набекрень…
Женщина плакала тихо и горько.
Калитка распахнулась рывком, и я едва успел отскочить, не получив по физиономии.
– Шпионишь?! – возмутился Равви.
Я принялся оправдываться, но он примирительно коснулся моей руки, и подавил тяжёлый вздох.
– Это твоя семья?
Он посмотрел так, что я понял: разговор на эту тему закрыт. Зато для всего остального момент был более чем подходящий, и я им воспользовался.
– Я хочу сказать тебе кое-что важное. – Я решительно оттащил его от забора. – Выслушай меня внимательно. Когда ты говорил о возможном предательстве и о том, что в Иерусалиме один из нас найдёт свой конец, ты ведь не шутил? Тебе что-то известно о будущем, своём будущем?