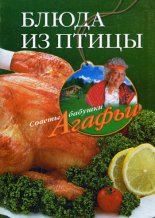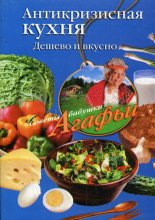Самсон. О жизни, о себе, о воле. Самсонова Елена
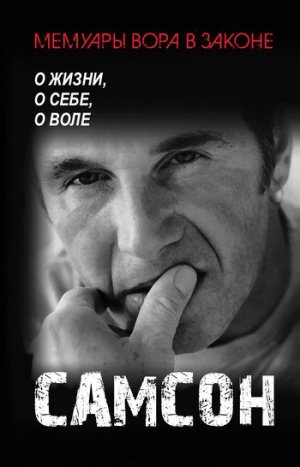
– Нет. Есть место поспокойнее. Пошли, – я указал ему на дверь из отряда.
Выйдя на лестничную площадку, он остановился, не зная, куда идти дальше. Я показал ему на дверь начальника отряда и заметил, как округлились его глаза.
– Туда? – Он явно не понимал, шучу я или говорю правду.
– Там нам никто не помешает, – усмехнувшись, ответил я.
Когда мы остались вдвоем, Граф без всяких вступлений начал:
– Я хочу открыть на промзоне мебельный цех. Мастера у нас сам знаешь какие – такую мебель начнут делать, что будет разлетаться, как горячие пирожки. Но надо только, чтобы была еще и ночная смена. Тогда мы сможем толкать эту мебель налево тем же ментам, а это, как ты сам понимаешь, хорошие бабки в общак.
– Задумка хорошая. Если ты пришел спросить одобрения, то я только «за». Сейчас уже надо думать, как самим выживать в зоне, а соответственно, и налаживать что-то серьезное вроде того, что ты сейчас предложил.
– Это еще не все, Самсон.
– Говори.
– Ты знаешь, что я совсем недавно пришел в зону. Контактов с ментами у меня никаких, – Граф развел руками.
– Ну, и?..
– Я думаю, что о производстве мебели надо будет договариваться тебе. Тебя они уже знают, да и смотрящего больше послушают, нежели вновь прибывшего блатного. Согласен?
Смысл в словах Графа, конечно, был, но вот то, что я узнал от Матроса, заставляло меня хорошенько подумать, прежде чем дать ему ответ.
– А ты понимаешь, Граф, что если я добазарюсь с ментами, то должен буду и отвечать за то, что там ничего не случится? На других условиях они не подпишутся. Да только вот ходить на промзону мне совсем не хочется.
– Да ты что, Самсон?! За все эти дела я лично буду отвечать. Неужели ты думал, что я это дело доверю кому-то еще? Я собираюсь открыть там целое производство, а им надо руководить…
Граф говорил так искренне, с огоньком, что у меня не возникло никаких сомнений, что у него все получится.
– Хорошо, Граф. Завтра же отправлюсь к «хозяину» и перетру с ним о твоих делах. Но знай! – Я поднял кверху указательный палец. – За все происходящее ты будешь нести полную ответственность передо мной. Там не должно происходить ничего такого, за что менты потом на нас всех собак спустят. Будешь отвечать за все лично.
– Какой базар, Самсон! Ты только договорись.
На том и порешили.
Вернувшись к себе, я сразу отправил шныря за Матросом. Он был неподалеку и поэтому через пять минут уже сидел напротив меня. Рассказав ему о нашем с Графом договоре, я спросил его мнение по этому поводу.
– Не кажется ли тебе, Самсон, что за всем этим кроется какая-то засада? Не может ли быть так, что Граф в какой-то момент понял, что вот так просто он тебя не подвинет с места смотрящего, и решил идти другим путем? – вопросом на вопрос ответил Матрос.
– Какое отношение к этому имеет открытие цеха на промке? По-моему, тут все чисто.
– Ну, к примеру, Граф через какое-то время отпишет ворам, что замутил такую тему и деньги в общак собрал немалые, а ты, мол, не при делах.
– Запомни, Матрос: никакой вор не станет верить блатному со стороны, это во-первых; а во-вторых, каждый понимает, что такие дела без смотрящего не делаются. Так что ты напрасно волну гонишь.
– Ну, смотри, Самсон, тебе виднее. Но я бы не доверял этому Графу на все сто.
– А я не собираюсь оставлять его без присмотра… – Мне пришла в голову неожиданная идея, и я отправил шныря за Котом.
Конечно же, я предполагал, что Граф неспроста решил замутить эту тему с цехом, но только вот что за этим всем скрывалось, я пока до конца не понимал.
Кот появился в моем проходе, когда мы с Матросом уже закончили наш разговор.
– Я слушаю тебя, Самсон… – Катала говорил с придыханием, и я понял, что он бежал со всех ног.
– Присядь, – я показал на шконку напротив себя.
Было видно, что Кот находится в растерянности, не зная, чем закончится наш разговор.
– Рассчитался с долгом? – первое, что спросил я у каталы.
– Да.
– Теперь слушай сюда, Кот. Завтра ты пойдешь к своему начальнику отряда и напишешь заявление на выход на промзону.
– Зачем, Самсон? Я ведь не работяга, я – катала. Что я там буду делать? Сетки вязать?
– Это уже твои дела, что там делать. Если голова на плечах есть, то найдешь, как выкрутиться, а если нет, то будешь норму сдавать бригадиру, – я немного повысил голос, чтобы он понял, что я не шучу.
Немного подумав, Кот согласился.
– А зачем все это? – Теперь у каталы в глазах появился интерес. Как это бывает с любым игроком, в нем проснулся азарт.
– Придет время – узнаешь. А сейчас иди.
После ухода проигравшегося каталы Матрос поинтересовался:
– Что-то я тоже не понял, на хрена ты его на промку заставил пойти?
– В скором времени нам понадобится там свой человек, и нет никого лучше, чем этот Кот. Забыл, сколько я ему бабок отвалил? За свой долг он будет землю рыть носом, – объяснил я Матросу свой замысел.
На этом мы разошлись. Спать не хотелось, и я решил продолжить свое письмо сыну.
«… С того самого момента, когда Ермак стал моим наставником, во мне многое стало меняться. Я постигал не только законы воровской жизни, но и жизни вообще. Я участвовал в разборках, был на сходняках, ходил на дело. Постепенно все вопросы по поводу моего присутствия среди верхушки ростовского воровского сообщества отпали сами собой. Я как бы стал неотъемлемой частью всеми уважаемого вора. Но, кроме братвы, за воровской жизнью постоянно следили менты. Они были прекрасно осведомлены, кого именно «взяли под крыло» и кто в ближайшее время может занять место стареющего авторитета. Естественно, они не собирались ждать, пока тот или иной наставник вроде меня достигнет определенного статуса, и старались всеми правдами и неправдами избавиться от молодых дарований. Ермак не раз предупреждал меня о «ментовских прокладках» и советовал всегда быть начеку. Но вот однажды вечером он срочно вызвал меня на свою квартиру для серьезного разговора. Жил он, как было положено вору того времени, на хате у одного из своих корешей, пока тот парился на нарах.
– В общем, так, братва, – начал Ермак, когда все собрались. – Наступают не самые лучшие времена. – Он обвел всех присутствующих суровым, но усталым взглядом. – Нам удалось узнать, что менты готовят очередную акцию против нас. А именно: теперь они решили поменяться местами со своими коллегами. В каждый город будут присылать специальную группу, которая получит все полномочия для борьбы с нами. А это значит, что нужно ожидать очередного ментовского беспредела. Приезжих нельзя будет ни запугать, ни подкупить, поскольку мы ничего о них не знаем. Остается только переждать этот момент. С сегодняшнего дня старайтесь не рисоваться в общественных местах и не таскать с собою ничего запрещенного. Я имею в виду пики или стволы. Но это не значит, что мы будем отсиживаться и дрожать в страхе, как крысы. Все главные дела – такие, как подогрев зон и пополнение общака, – остаются, как и прежде, только теперь все надо делать очень осторожно и, повторяю, поменьше светиться. Мы пока не знаем точно, но, возможно, менты попытаются внедрить к нам кого-нибудь из своих, так что всех залетных фраеров проверять и перепроверять.
Ермак не любил говорить долго, и на этом сходняк был закончен. Я вместе со всеми собрался было уже уходить, однако он задержал меня:
– Останься, Самсон, разговор есть.
Закрыв за остальными дверь, Ермак положил мне руку на плечо и предложил:
– Пойдем, выпьем по пятьдесят граммов; парень ты уже взрослый, да и мне расслабиться не помешает.
Когда мы уселись за столом, он достал початую бутылку водки и два граненых стакана. Налив по половине, он отставил бутылку и, подняв руку над столом, сказал:
– За всех порядочных сидельцев, которые сейчас находятся в тюрьмах и лагерях.
В ответ я просто кивнул, и мы выпили. Закусив нехитрой снедью – солеными огурцами и картошкой, – Ермак продолжил:
– Понимаешь, Самсон, тот ментовской беспредел, о котором я говорил, коснется всех, в том числе и тебя. Менты будут лютовать как никогда. С нами, авторитетами, им, конечно же, будет не просто справиться, и они об этом прекрасно знают, поэтому всю свою злость будут вымещать на таких, как ты. Подобное уже было в моей жизни, и я видел, как многие не выдерживали подобного прессинга и отказывались от всего, чему их учила воровская жизнь. Многие, не буду скрывать, просто ссучились, некоторых убили в подвалах тюрьмы… – Ермак тяжело вздохнул, произнося эти слова.
– Не хочу попросту базарить, но уже был готов к такому повороту, когда избрал свой путь, – ответил я.
Ермак поднял глаза и пристально посмотрел на меня.
– Я верю тебе, Самсон, но, знаешь, есть в жизни моменты, когда у человека отбирают самое последнее – надежду. Вот тогда и наступает момент истины, когда ты остаешься наедине сам с собой и только самому себе можешь дать ответ на вопрос, для тебя эта дорога или нет… Я хотел тебе сказать, что, возможно, впереди тебя ожидает настоящая мясорубка, после которой ты либо можешь сломаться, либо стать на много ступеней выше как для самого себя, так и для остальных.
Ермак специально не говорил открытым текстом, но я отлично понимал, о чем идет речь. Ведь те, кому окажется по силам преодолеть все ментовские козни и остаться преданным воровскому делу, смогут не только завоевать себе должный авторитет, но и со временем получить возможность самим стать ворами в законе. Так было всегда: высшей ценностью были не лихие разговоры, а каждодневная жизнь по понятиям. Только пройдя все изоляторы, карцеры, одиночки и ментовской беспредел, человек мог добиться самого высшего положения...»
* * *
Но тогда я еще не представлял, что со мной произойдет в ближайшее время, и наивно считал, что годы, проведенные на зоне, меня кое-чему научили.
Как и было велено Ермаком, братва теперь в основном тусовалась по окраинам Ростова, изредка появляясь в центре. Каждый день до нас доходили слухи об очередном аресте кого-нибудь из наших. Но за что и куда их отвозили, никто не знал.
Как-то вечером я возвращался домой и был слегка подшофе после дружеских посиделок, на которых мы отметили выход на свободу одного из моих корешей. Пройдя «огородами», мне оставалось только перейти безлюдную улицу, как вдруг непонятно откуда возле меня остановился старенький неприметный автобус, на котором раньше возили заводских рабочих. Вначале я подумал, что шофер заблудился и хочет спросить дорогу, но уже в следующую минуту понял, что это далеко не так. Из автобуса выскочили несколько человек и без всяких разговоров стали лупить меня дубинками. Я попытался сопротивляться, не понимая, что происходит, но чей-то железный голос произнес:
– Не дергайся! Милиция! Специальный отдел! – И тут же приказал: – В машину его!
Меня уложили на грязный пол автобуса, уткнув лицом вниз и не давая рассмотреть лица нападавших. В те годы таких зверских налетов со стороны ментов практически никогда не было, и поэтому моей первой попыткой было желание восстановить справедливость. Я попытался встать со словами:
– Да вы что, менты, вообще охренели?! Живого человека палками бить?!
Но в тот же момент на меня набросились все те же несколько человек и, не говоря ни слова, продолжили наносить удары куда попало. Через минуту я потерял сознание…
Пробуждение мое было болезненным и тяжелым. Я с трудом мог вспомнить, что же со мной произошло и где я нахожусь. Сначала вернулась боль, резкая, заставлявшая ежесекундно морщиться и чем-то напоминавшая зубную, но только во всем теле. У меня было такое ощущение, что болела каждая клеточка моего молодого организма. Чуть позже слух начал различать окружающие меня еле слышные звуки. Точнее, они были похожи на шорохи. Потом появился странный металлический вкус во рту. Я попытался «включить» зрение, но у меня это вышло не сразу. Сначала появился чей-то силуэт, потом чье-то расплывчатое лицо, похожее на размытые бесформенные кляксы. Проморгался – не помогло. Тогда я постарался протереть глаза. Но и тут у меня плохо получилось. Опухшие пальцы почти не слушались. Наконец я притронулся к чему-то вязкому и липкому. Это была засохшая кровь. Ею было покрыто почти все лицо, включая и волосы.
– Очнулся, брат? – услышал я рядом с собою голос явно с кавказским акцентом. – Подожди, я сейчас…
Послышалась какая-то возня, потом шаги и наконец снова прозвучал тот же голос.
– Не трогай лицо, заразу можешь занести. – Осторожно убрал мою руку этот человек. – Лучше вымыть и протереть чистым куском одежды, – посоветовал он.
На мое лицо неожиданно стала стекать холодная влага. Попав в свежие, едва покрытые корочкой свернувшейся крови раны, она вызвала у меня новый приступ боли.
Я не выдержал и застонал сквозь зубы.
– Терпи, брат, – спокойно сказал незнакомец. – И не вставай пока. Сейчас слегка оботру – легче станет…
В следующую секунду послышался треск какой-то ткани. Незнакомец аккуратно, стараясь не причинить мне боль, стал промокать влажным куском тряпки мое лицо, в основном густо залепленные бурой пленкой веки.
Когда я открыл глаза, то увидел склонившееся над собой болезненное, худое, поросшее сантиметровой щетиной мужское лицо. На вид человеку было лет сорок. С чуть тронутыми сединой вьющимися волосами, умными карими глазами и гордым орлиным профилем он был похож на кавказца, только что спустившегося вниз со своих родимых гор. За спиной мужчины виднелся закопченный, в сырых разводах потолок с тускло горящей лампочкой в сетчатом наморднике.
Я понял, что нахожусь в камере, но где именно, не представлял – голова отказывалась работать напрочь.
– Где я? – с трудом разлепив разбитые в кровь губы, спросил я у кавказца.
– В камере, брат, в камере.
Видя, что его ответ меня не совсем удовлетворил, добавил:
– В КПЗ.
Я огляделся. Камера, в которой я находился с этим кавказцем, была похожа на каменный мешок. Подобные помещения мне доводилось встречать в своей жизни, но все-таки меня сильно удивило, что такой «мешок» находится в КПЗ. Она была размером приблизительно три на четыре метра, с кое-как оштукатуренными лет полтораста назад кирпичными стенами и высоким потолком, забранным изнутри решетками. В углу рядом с дверью располагалась дырка параши, из стены куском торчала ржавая труба без вентиля, из которой капала и стекала к дырке в полу ржавая мутная вода. Во времена Союза хотя бы раз в год выделялись деньги на ремонт камер временного содержания, и даже если половина из них уходила в карман начальника милиции, то все равно какие-никакие человеческие условия для каторжан старались поддерживать. А здесь складывалось такое ощущение, будто ты попал в какое-то Средневековье. Позже я узнал, что менты специально создали такую жуткую обстановку, чтобы влиять на задержанных авторитетов не только физически, но и морально.
Больше в камере ничего не было, даже нар. Я сидел прямо на холодном бетонном полу, на котором кое-где просматривались кляксы запекшейся крови. Видимо, моей собственной.
– Спасибо тебе, – поблагодарил я сидящего рядом кавказца. – Меня Самсоном зовут.
– Не за что, брат, – вздохнул кавказец. – Я Биджо Тбилисский. Слышал о таком?
– Нет, – покачал я головой.
Минуты две мы помолчали, думая каждый о своем.
– За что тебя так менты уделали, брат?
Я задумался. Действительно, за что? И тут в моей голове всплыл недавний разговор с Ермаком, который предупреждал меня и всех остальных о том, что наступают далеко не лучшие времена. Тут же мне вспомнилось его предупреждение о всевозможных ментовских прокладках, которые они могут подстроить. Я повернул голову и внимательно посмотрел на своего соседа. «А не специально ли тебя сюда посадили?» – подумал я про себя, а вслух ответил:
– Пока сам не знаю, за что, но, думаю, позже они сами объяснят. А тебя за что? – тут же спросил я у кавказца.
Помолчав немного, сокамерник повернул голову и, скрипя зубами, выдавил из себя:
– Мне легавые изнасилование двенадцатилетней девочки шьют. С такой поганой статьей больше суток в камере не живут…
Судя по реакции Биджо, который сразу отвел свой взгляд в сторону, на моем лице после его признаний отразилось именно то, что и должно было отразиться на лице любого нормального человека – презрение. Презрение к подонку, совершившему одно из самых гнусных преступлений – изнасилование малолетней девочки. За такую делюгу изверга не просто опускали, а каждодневными избиениями и истязаниями либо просто лишали жизни, либо заставляли самого полезть в петлю. Подобные ЧП даже не считались чем-то из ряда вон выходящим, так как и менты, и арестанты относились к таким уродам одинаково.
– Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, – глядя в стенку, с болью в голосе прошептал кавказец. – Но Бог тому свидетель, я не заслуживаю твоей ненависти. И если я прикасался к этой девочке, то лишь для того, чтобы погладить по голове или поцеловать в щечку перед сном… Меня подставила ее мать. А ее заставили менты. Эти псы поганые долго не могли придумать, как достать меня, и наконец нашли самый циничный способ. Один опер придумал, как меня можно не только посадить за решетку, а уничтожить полностью. Причем чужими руками. Не веришь, да, Самсон?
Я смотрел на грузина и пытался понять, кто же он на самом деле. С одной стороны, если бы он был подсадной уткой, то придумал бы какую-нибудь другую историю, но уж никак не про изнасилование малолетки. Да и внешне он был не похож на насильника, которых мне нередко приходилось встречать по первому сроку. В нем чувствовалась человечность и воля. А такие люди на подобное не способны. На тот момент я уже мог разбираться в людях.
– Я тебе не судья, Биджо, – после продолжительного молчания ответил я.
Я знал, иногда случается, что малолетние шлюхи затягивают мужиков в постель, а потом грозят написать заявление об изнасиловании. Но чтобы такое вытворяли в двенадцать лет, слышать не приходилось.
Своими словами я дал ему понять, что пока не верю ему до конца, а значит, буду относиться соответственно. В тюрьме это называется поставить человека под сомнение. Когда у кого-то выявляется какой-нибудь «косяк» по жизни, но человек не хочет этого признавать, то до полного выяснения его ставят под сомнение. Это, конечно, не значит, что человек переходит в касту чушкарей или опущенных, но все же многие предпочитают не общаться с ним, полагая, что дыма без огня не бывает.
Биджо долго смотрел в стену, а потом сказал совсем не то, что я ожидал услышать. Медленно подбирая слова, он начал рассказывать свою историю:
– Я, брат, бродяга по жизни. И одиночка. У меня свой мир и свои законы. Мне сорок два года. Ни одного дня в своей жизни я не ишачил на государство. Нет, я, конечно же, уважаю авторитетных людей и воровской закон и всегда старался жить по понятиям, но все же оставался одиночкой. Два раза сидел от звонка до звонка. В общей сложности восьмерик. Первый раз пять, и потом еще трешку за карман. Вышел два года назад. Случайно на улице познакомился с одной женщиной. Ее зовут Людмила. Шел как-то ночью и слышу шум, крики. Оказалось, двое залетных гопстопников решили сумку у нее тиснуть, а там вся зарплата. Я к ним, хотел по нормальному побазарить, объяснить, что не ту приперли, богатых надо на гоп-стоп ставить, – а они в бутылку полезли. Один из них нож достал и стал меня им пугать – мол, шел бы ты куда подальше, мужик. Ну а у меня со здоровьем всегда все в порядке было. Свои восемь лет по большей части спортом в лагере занимался, так что справиться мне с этими залетными не составило никакого труда. Правда, ножом они меня все-таки зацепили. Не сильно, но крови было много. Вернулся назад, сумочку отдал. Людмила, как увидела кровь, вцепилась в меня, говорит, никуда не отпущу, пока не перебинтую, – медсестрой она оказалась. Я, разумеется, не возражал.
Я слушал кавказца и все больше понимал, что этот человек не мог решиться на то, что ему шили менты. Опять мне вспомнились слова Ермака о том, что менты могут пойти на самые гнусные подлянки; видимо, Биджо был одним из тех, от кого они решили избавиться подобным образом. «Интересно, что они мне хотят предъявить?» – подумал я про себя, смотря на кавказца, который тем временем продолжал:
– В общем, больше мы не расставались. Остался я у нее жить. Да и дочь ее от первого мужа ко мне привязалась. Людмила продолжала работать медсестрой в больнице, а я, когда надо было, ходил на дело. Иногда по трое суток не появлялся, но она никогда не спрашивала, откуда деньги, где я был и как зарабатываю. Ей вполне хватало, что мы вместе и нам хорошо. А потом примерно через полгода к нам в дом среди ночи завалились менты и забрали ее в отделение. Меня тогда как раз не было дома, я обо всем узнал утром от соседки. Оказалось, что главный врач приторговывал на стороне дефицитными лекарствами, а когда Людмила его застукала, предложил ей войти в долю, от чего она, естественно, отказалась. Тогда эта падла сам подстроил так, что в больничном шкафчике Людмилы были найдены эти лекарства, а ее саму ждал немалый срок.
А потом на допросе Людмила случайно проговорилась, что у нее есть сожитель, то есть я. Тогда мусора за это ухватились – думали, что я могу быть причастен к продаже лекарств. Пробили по архиву, а когда узнали, кто я такой, чуть не обделались от радости. Как же, старый знакомый! Биджо Тбилисский! Знаем, знаем такого. Связались с операми, которые меня прошлый раз брали. Те говорят, что, мол, недавно откинулся, но сейчас на него ничего нет. Но вот в прошлый раз он нам крови попортил, а на суде получил по минимуму. Так что надо упаковать по полной. Но только теперь наверняка. Тогда эти псы и придумали подставу с изнасилованием. И поставили Людмилу перед выбором: или она идет на зону за сбыт лекарств, или ее прямо сейчас выпускают под подписку, гарантируя, что на суде она пойдет как свидетель. За это она должна убедить свою дочь написать заявление о том, что я неоднократно силой принуждал ее вступать в сексуальный контакт. В том числе – в особо циничной и извращенной форме. Потому что это уже никакой экспертизе не поддается.
– Что это? – не сразу сообразил я.
– Ты что, маленький? – отмахнулся Биджо. – Не знаешь, что менты в своих сортирных бумажках извращениями называют?
– А, ты вот о чем…
– Короче, не смогла Людмила от дочки отказаться, – с грустью в голосе, но без всякой обиды на свою женщину констатировал Биджо. – Она сама из Сибири, родственников никаких здесь нет, так что если бы ее осудили, то дочку отправили бы в детский дом до конца ее срока. А что там с детьми вытворяют, ты, наверное, в курсе… Об этом фильмы надо снимать. Документальные. Какая мать на это согласится? Даже если ради спасения детей нужно подставить хоть и близкого, но, по сути, совершенно чужого человека?!
– Никакая, – согласился я. – У нее просто не было выбора.
Наш разговор с кавказцем прервали. В кормушке камеры показалась помятая, недовольная рожа контролера. Натужно заскрежетал давно не смазываемый замок, и дверь медленно открылась. На пороге, как клоуны в цирке, стояли два сержанта и пялились в глубь камеры. Даже в своей форме они выглядели очень комично. Один был высокий и худой, а второй – маленький и толстый. Однако, даже мельком взглянув на их лица, можно было понять, что намерения у них далеко не дружеские. И физиономии совсем не такие веселые, как у клоунов на арене. Высокий, опытным взглядом оценив мое удовлетворительное состояние, пролаял:
– Кузнецов, на выход!
Сержанты с явным наслаждением наблюдали за тем, как я с трудом поднялся во весь рост и, подволакивая одну ногу и хромая на другую, двинулся к двери.
– Шевели копытами, сука! – вякнул коротышка, играя наручниками. – Лицом к стене! Руки за спину!
Внутри меня все клокотало от негодования, но пришлось подчиниться. Холодные браслеты снова сдавили мои запястья. Щелкнул замок в закрытой сержантами двери.
– Вперед по коридору! – процедил высокий.
Но едва я сделал первый шаг, как он размахнулся что было сил и ударил меня по спине. Он был профессионал в своем деле и знал, куда надо бить, чтобы не оставлять следов и в то же время доставить максимальную боль. Удар пришелся между лопаток. От такого удара даже у здорового человека сбивается дыхание и темнеет в глазах. Что уж тут говорить обо мне…
Ноги подкосились, и я рухнул на пол. В последний момент все же успел сгруппироваться и упасть набок, сумев уберечь и без того превращенное в сплошную кровавую ссадину лицо. Но падение все равно оказалось болезненным.
– Слепой, что ли, спотыкаешься на ровном месте? Ноги, что ли, не держат? – не удержался от довольного смешка коротышка.
Он явно страдал комплексом неполноценности и поэтому старался при каждом удобном случае возвыситься в собственных глазах посредством безответного насилия над заключенными. А тут еще такой случай, когда начальство на какое-то время разрешило рукоприкладство в отношении привезенного вчера авторитета… Несмотря на свое рахитичное телосложение, низкорослый служил в КПЗ давно, а следовательно, был профессионалом по части избиения.
– Встать была команда! – заорал рослый сержант и, не давая мне отдышаться, схватил за шиворот и рывком привел в частично вертикальное положение, поставив на колени. – Ну, ты плохо понял, сучонок?! Или ребра пересчитать?
Собрав в себе последние силы, я ответил, смотря ему прямо в глаза:
– Я тебе, тварь, самому твои гнилые зубы пересчитаю. Дай только выйти.
– Можешь даже и не надеяться, – оскалился мент. – Теперь вас всех отправят туда, где вам не очень понравится. Скажу тебе по секрету, – он снизил голос и даже нагнулся к моему уху, – конец пришел всей вашей воровской кодле. Теперь наша власть будет.
– Посмотрим, – огрызнулся я и попытался встать во весь рост.
Меня провели в комнату для допросов этажом выше. Из мебели в ней практически ничего не было, кроме прикрученного к полу деревянного двухтумбового стола и вмурованной в бетон металлической табуретки для задержанного. За столом, дымя сигаретой, развалился помятый, какой-то пыльный, словно только что вытащенный из шкафа с нафталином мужик лет сорока пяти. На нем был дешевый костюмчик и галстук-лопата. Сальная шапка приглаженных редких волос, усыпанных крупинками перхоти, и постоянно бегающие, глубоко посаженные лисьи глазки дополняли эту малоприятную картину. Тут же лежала тонкая папка с документами. Едва открылась дверь и сержанты ввели меня в комнату для допросов, он тут же с интересом уставился на меня.
– Снимите с него наручники и можете быть свободны, – приказал мент.
Некоторое время мы молча изучали друг друга. Потом мужик шумно вздохнул, громко хлопнул ладонями по крышке стола, подвинул к себе папку, открыл ее, быстро пробежал глазами первую страницу с таким видом, словно видел ее впервые. Потом что-то одобрительно пробурчал себе под нос, откинулся на спинку стула, сцепил руки на груди и только после этого сказал:
– Ну что ж, давайте знакомиться. Моя фамилия Сомов. Я следователь. Мне поручено вести ваше дело. А также поставить вас в известность, что не позднее чем завтра вам будут официально предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.
– Каким статьям? Что вы можете предъявить, когда забрали меня прямо с улицы?! – не выдержав, заорал я на следователя. – Сейчас не тридцать седьмой год, когда можно людей ни за что сажать в тюрьму, придумывая им вымышленные преступления, – я кивнул в сторону дверей, намекая на своего сокамерника Биджо.
В ответ следователь только слегка усмехнулся и, не обращая внимания на мой крик, продолжил:
– Верно, времена уже не те. Но и сейчас закон остается законом, и за любое преступление каждый гражданин должен понести наказание, от этого уж никуда не денешься. Но в любом уголовном деле очень многое зависит именно от взаимопонимания между следователем и подследственным. Вместо того чтобы орать на меня, вы бы лучше серьезно подумали о том, каким образом можно максимально облегчить свою участь.
Я, конечно, сразу понял, о чем говорит следователь, но в ответ сказал совершенно другое:
– С детства не любил головоломок, так что не понимаю, о чем вы.
– Не хочу пугать вас раньше времени, – миролюбиво начал следователь, – но вам грозит серьезный срок заключения. Вы обвиняетесь в участии в краже государственного имущества. Прибавьте к этому еще сопротивление властям при задержании – и сами поймете, что ваше положение в данном случае не очень завидное. Вы человек бывалый и, наверное, знаете, какой срок подразумевает каждая из этих статей. По совокупности содеянного вы запросто огребете лет десять лагерей, не меньше. А вы еще такой молодой… Ну, было у вас что-то там по малолетке. Как говорится, с кем не бывает. У вас еще есть шанс стать нормальным человеком. А вот если вы отправитесь на десять лет в северные лагеря, то возврата уже не будет. Ни для вас, ни для общества. Вы понимаете, о чем я говорю, Кузнецов?
Я ничего не ответил на его вопрос. Сейчас я думал совершенно о другом. Мне почему-то стало все ясно как белый день. Этот следователь, психолог недоделанный, пытается сейчас запугать меня предстоящим сроком и заставить задуматься над его словами. Скорее всего, после этого меня опять отправят в камеру, где мне предстоит провести ночь наедине со своими мыслями и тревогами. В случае если я не соглашусь и на меня не подействует их психологическая обработка, то они снова приступят к физической. «Ну что ж, посмотрим, кто кого!» – подумал я про себя, приготовившись к самому наихудшему.
Не дождавшись моего ответа, следователь продолжил:
– Завтра после предъявления обвинения вас переведут из КПЗ в СИЗО. На спецкамеру с домашними удобствами и снисходительность администрации можете не рассчитывать. Новочеркасская исполнительная тюрьма славится своей негостеприимностью. Вас поместят в забитую сверх любых пределов вонючую общую хату, где вместо сорока человек живет минимум сто двадцать. Условия содержания, как сами понимаете, скотские. Я уже не говорю о царящей среди подследственных, вынужденных месяцами и даже годами ждать суда, излишне нервной психоэмоциональной обстановке. Эта взрывоопасная смесь просто не поддается описанию. Единственное, что приходит в голову, – это ад. Драки, изнасилования, изощренные издевательства, убийства и прочие «развлекательные» мероприятия там в порядке вещей. Страшное место, уверяю вас.
Следователь на секунду замолчал, а я вспомнил свое первое впечатление о том месте, о котором он сейчас рассказывал. Все было именно так, как он говорил. Ничего не приукрашивал. Только вот тогда мне пришлось пробыть в пересылке всего неделю, а теперь я мог действительно задержаться там надолго…
– Но я, зная, что вас ожидает, могу в данном случае помочь. Поверьте, мне жаль, что такой молодой парень, как вы, сбились с пути и связались не с теми людьми. – Он прищурил свои бегающие глазки, внимательно следя за моей реакцией. – Например, замолвить словечко перед местным начальством и на время следствия оставить вас здесь, в КПЗ… Что же касаемо суда, то и здесь я обещаю посильное содействие.
Предложение следователя уже не звучало двусмысленно. Дело в том, что каждый арестант проходит определенный путь от задержания и до попадания в зону. После предъявления обвинения он отправляется в СИЗО, где будет находиться последующие три месяца до суда. В это время его несколько раз привозят в КПЗ, но для этого всегда есть определенные причины: закрытие дела, очные ставки и т.д. После того как пройдет суд и ему дадут срок, арестанту дается месяц, в течение которого он может написать кассационную жалобу. Получив ответ, арестованный отправляется либо домой, либо на зону. Любые исключения из этих правил сразу наводят остальных на мысль, что сиделец заключил какое-то соглашение с администрацией. А это уже идет вразрез с воровскими понятиями, поэтому предложение следователя остаться здесь, не ехать в тюрьму было не чем иным, как попыткой превратить порядочного арестанта в ссученного сидельца. Конечно же, это было не по мне…
– Я ни в чем не виновен, и вам нечего мне предъявить, гражданин начальник. Все, что вы мне тут пытаетесь пришить, не примет ни один суд. Ни свидетелей, ни улик, ничего. Так что мне незачем просить вас о благосклонности и тем более идти на какие-нибудь сделки с вами, – пытаясь держать себя в руках, ответил я следователю.
Сомов снова усмехнулся.
– Все это делается очень просто. Вспомните хотя бы своего сокамерника. В прошлом известный, дважды судимый вор-рецидивист, как оказалось, еще и насильник малолетних. Чего только не бывает в нашей жизни… Вот скажите, Кузнецов, в кого он теперь превратится, попав в общую камеру? Кто будет выяснять, были ли свидетели или какие-нибудь улики по его делу? Правильно, никто. В его обвинении будет черным по белому написано, что он насильник, и этого вполне хватит. В вашем случае хватит и одного сторожа какого-нибудь склада, который покажет, что такого-то числа вы со своими подельниками напали на государственный объект и похитили из него товар на энную сумму. А сержанты добавят, что при задержании вы оказали яростное сопротивление. И все, Кузнецов, срок вам уже обеспечен. Поэтому советую, очень советую прислушаться к моему предложению.
– Какому предложению? – Я скорчил наивную физиономию.
– Ничего такого, что было бы вам не под силу. Администрация подобных заведений, – Сомов обвел рукой комнату для допросов, – как и каждый умный хозяин, не любит выносить сор из избы. Но вместе с тем желает быть в курсе всего, что в его доме, то бишь в камерах, происходит, – выдал Сомов хитроумную фразу. – За всем не уследишь. Даже при большом желании. Но в беседах между собой сокамерники иногда говорят очень любопытные вещи, впрямую имеющие отношение к тем делам, за которые их задержали…
Некоторые откровения настолько полезны для следствия, что при правильном использовании могут принести немало пользы. В тот момент вместо злости пришло полное осознание той ситуации, в которой я оказался. Каждый из двух вариантов таил в себе смертельную опасность. Согласиться с предложением следователя – значит сломаться, стать последней сукой и, поверив заведомо лживым посулам легавых, в течение нескольких месяцев бегать на цырлах, лизать им пятки и тупо лелеять несбыточную мечту о снисхождении суда и скорой, заслуженной ценой сломанных судеб, свободе. Но это был путь для трусов, который рано или поздно приводил их в могилу. Не для того я последние несколько лет старался не запятнать себя, живя по воровским понятиям и общаясь с такими людьми, как Ермак. Я понимал, что сейчас для ментов главное – постараться меня сломать, чтобы потом тому же Ермаку сказать, что вот, мол, посмотри, кого ты себе выбрал в преемники – стукача. И на воровского авторитета будет брошена тень. Мол, не высмотрел ты, Ермак, в парне гнилой жилки и слишком близко подпустил к себе, а он оказался на поверку слабаком.
Я не понаслышке знал, как это происходит в подобных случаях. Для начала тех, кто сломался, заставляют работать на полную катушку и отрабатывать обещанное снисхождение, а затем, когда наступает день суда, впаивают по полной программе и как использованный материал отправляют на растерзание арестантов, заранее предупрежденных о прибытии стукача. А в случае отказа мне предстояло на себе убедиться, на что способен ментовской беспредел, о котором я только слышал от Ермака и других авторитетов. В общем, я сделал тот единственный выбор, который и должен был сделать. В тот момент я понял, насколько мне противно разговаривать о «сотрудничестве» с этим нечистоплотным следователем, и я не нашел ничего лучше, как послать его куда подальше.
– Героя из себя корчишь? Ну, ну. Посмотрим, как ты завтра заговоришь, – начал злиться следователь, надавив на кнопку вызова конвоиров. – Где вы шатаетесь, кретины?! Забирайте этого героя и закройте его в стакан! Жрать не давать, спать не давать! Все ясно?!
– Так точно! – почти в один голос ответили сержанты и, заковав меня в наручники, потащили по коридору.
Следующие сутки оказались для меня настоящим испытанием на прочность, как физическую, так и моральную. В те времена многим казалось – да как, впрочем, и сейчас, – что со смертью Сталина исчезло то варварское отношение к заключенным, которое бытовало при его власти. Но это было не так. Никуда не делись ни специальные камеры, ни пыточные, ни те методы, с помощью которых людей заставляли брать на себя чужие преступления. Просто это делалось уже не так открыто. И Ростов-на-Дону не был исключением в этом смысле. А особенно сейчас, когда сверху поступило указание как можно жестче разобраться с теми, кто придерживается воровских понятий. У ментов, что называется, оказались развязаны руки во всех отношениях.
Из допросной меня почти волоком оттащили в подвал, где находился так называемый «стакан» – узкий, плохо освещенный прямоугольный колодец без окон размером шаг на полшага, в котором человек среднего телосложения едва помещался стоя. Для порядка пару раз съездив мне под дых, сержанты затолкали меня в этот каменный мешок лицом вперед и закрыли толстую железную дверь с вмонтированным в нее для наблюдения круглым стеклянным глазком.
Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я от острой боли в коленях и, кое-как отдышавшись, понял, что держусь только благодаря крохотным размерам стакана. В первые секунды мне даже стало немного легче от того, что меня наконец-то оставили на какое-то время в покое, но потом я вдруг осознал, на какую пытку меня обрекли менты. Даже не обладающий богатырскими габаритами человек не мог позволить себе сесть в этом каменном гробу, повернуться или, на худой конец, расслабив все тело, повиснуть между стен и дать возможность хоть минуту отдохнуть затекшим ногам и спине. Последнее оказалось совершенно невыполнимым по одной простой причине: все три стены этого колодца, за исключением двери, были покрыты чем-то вроде каменной наждачной бумаги, которая при малейшем трении о нее сдирала кожу с тела человека, оставляя саднящие ссадины. Приходилось, как статуя, неподвижно стоять на ногах, а они затекли и налились свинцом очень быстро.
Но и это, как оказалось, еще не все удовольствия, которыми мог порадовать клиента пыточный аттракцион. Каждые пять секунд мне на голову падала капля воды, которая появлялась из ржавой трубки под потолком. Вот это был действительно кошмар. По темечку словно били молотком. Плюс изматывающая боль в спине и одеревеневших коленях. Стоило только чуть их расслабить, как в них тут же впивались острые края передней стены. Через три часа, проведенных в пыточной камере, мне захотелось выть в голос. По моему лицу вместе со стекающими по щекам, подбородку и за ушами струйками воды катились самые настоящие слезы. Сдержать их было выше моих сил…
Время шло, и по мере того, как нарастала физическая боль, мою голову от постоянного перенапряжения все плотнее окутывал какой-то туман, в котором растворялись все мысли и чувства. Она отказывалась работать и воспринимать действительность. Время от времени я погружался то в полубред, то в полуобморок. Прошло еще какое-то время, и я даже не заметил, как полностью отключился. Из небытия меня вырвало странное ощущение легкости, как будто парализовавшая все тело боль стремительно таяла, ледяной волной поднимаясь снизу верх и неся с собой освобождение от мук. В голове даже мелькнула мысль, что это вовсе мой конец, но я чувствовал, что еще могу думать, а значит, это было не так. Медленно, с трудом я поднял веки и скосил глаза вниз. Секунд пять я, ничего не понимая, смотрел на появившуюся под ногами воду, которая уже доходила мне до колен. Ее уровень медленно, но неуклонно поднимался все выше и выше. «Неужели столько накапало, пока я был в отключке? – было первое, что пришло мне в голову. – Сколько же я тут простоял? Неделю? А может, целый месяц?»
Догадка пришла неожиданно и заставила меня вмиг вернуться к реальности. Когда вода стала подбираться к поясу, я вдруг осознал, что происходит. «Не может быть! Не может, чтобы вот так! Это слишком просто! Так не должно произойти!» – стучало у меня в голове.
Мне хотелось искренне верить, что это только продолжение пытки, уготованной мне ментами. Ее заключительная часть, цель которой – окончательно сломать мою психику. «Здесь, наверное, все специально предусмотрено. Человек сначала начнет кричать что есть силы, стучать головой в железную дверь за спиной. Затем хрипеть и захлебываться. А потом откроется сливное отверстие в полу и все закончится. Ведь иначе и быть не может. Но они не могут просто взять и убить человека, которого задержали вчера на улице… Вот сейчас должен повернуться вентиль. Нет, вот сейчас. Через две секунды, когда вода дойдет мне до шеи», – думал я, наблюдая, как стремительно поднимается уровень воды в стакане. Но ничего не происходило. Вот ледяная влага уже облизала мне грудь и стала приближаться к подбородку. Подошвы туфлей плавно, словно нехотя отделились от пола. Но только легче от этого не стало. Наоборот. Вытянутые вдоль туловища руки не давали шанса удержаться на плаву. Я, насколько это было возможно, закинул голову назад. И вот наконец наступил момент, когда вода коснулась рта, проникла в носоглотку, вызвав при этом приступ сильного кашля и лишая меня последнего глотка воздуха. Это уже был предел. Надежда на спасение улетучилась, как дым под резким порывом ветра. Я вдруг понял, что это никакая не пытка, что меня убивают всерьез. Иногда наступает момент, когда у человека пропадает всякая надежда на спасение. Но на смену сразу пришел страх за свою жизнь. Мне не хотелось умирать. Я хотел еще жить, ведь я был так молод…
Я вдруг понял, что никакой спасительный вентиль не откроется и что для меня уже все кончено. Яростно отплевываясь от воды, я не выдержал и заорал, громко, истошно, что было сил, напрочь срывая голосовые связки. Разрывая кожу на руках и проявляя настоящие чудеса гибкости в затекших конечностях, я попробовал продрать руки кверху. Когда мне это не удалось с первой попытки и лицо впервые целиком скрылось под водой, я постарался с помощью рук приподнять свое тело чуть выше, чтобы можно было дышать. Глотнув воздуха, я предпринял вторую попытку вытащить руки наверх. И вдруг у меня получилось. Это была победа. Теперь можно было упереться ладонями в стены и без проблем продержаться на плаву, находясь в воде лишь по плечи. В таком положении, перебирая руками, я мог оставаться до конца. До той самой секунды, когда в стакане больше не останется ни глотка выдавленного через вентиляционное отверстие в потолке воздуха и уровень воды поднимется до мерцающей над головой лампочки. Тогда произойдет короткое замыкание и я получу смертельный удар током.
Но ничего этого не случилось. Достигнув верхней части дверного косяка, уровень воды стал прямо на глазах падать. То ли наблюдавший за всем происходящим за дверями сержант понял, что последнее слово осталось за мной, так как я все же смог освободить руки, то ли именно на этом этапе заканчивалась пытка; но через некоторое время, когда в забранной решеткой дырке в полу исчез последний литр воды, дверь в камеру распахнулась. Не в состоянии больше управлять своим телом я, вконец обессиленный и промокший до нитки, рухнул прямо под ноги недовольно скрививших свои поганые рожи сержантов. В моей голове заезженной пластинкой крутилась только одна мысль – я победил!
Я чувствовал, как сержанты, подхватив меня под руки, долго волокли по коридору, затем, матерясь, поднимали по железным ступенькам. Где-то вдали послышался скрип открываемой двери, и меня втащили в камеру. «Наконец-то хоть теперь меня оставят в покое и дадут отдохнуть», – подумал я сквозь туман сознания. Но это было не так. Сержанты не собирались уходить. Они о чем-то договаривались, но о чем точно, я не слышал. Потом один из них ушел, а второй, судя по запаху, закурил. Вскоре послышались шаги.
– Нашел?
– Вот какой-то ремень от брюк, больше ничего нет.
– Ладно, сойдет. Сейчас такую «ласточку» забацаем – до могилы, падла, не разогнется.
После непродолжительной возни сержанты схватили меня за руки, вытянули их вперед и, надев на них петлю из кожаного ремня, рывком завели назад за плечи. Следом, натянув ремень до предела, накинули мне на щиколотки петлю-удавку. «Ласточка» была готова. Раньше я только слышал о таких нечеловеческих методах, и вот теперь пришлось это испробовать на себе самом. Сильный удар по ребрам был завершением очередной экзекуции.
– Посмотрим, как ты теперь запоешь.
Дверь с грохотом закрылась, и я снова остался один на один со своей болью. Все повторилось в точности, как и в первый раз. Сначала боль во всем теле усилилась до предела, потом пропала чувствительность, а в конце отключилось сознание.
Сколько прошло времени, я не знаю. Похоже, на тот момент его для меня вообще не существовало; но вот наступило мгновение, когда я все же очнулся от того, что меня обдало чем-то холодным. С невероятным усилием я открыл глаза и первое, что увидел, это были до блеска начищенные ботинки, стоявшие в шаге от меня. Вокруг образовалась целая лужа, а по лицу стекали капли воды. Я понял, что меня окатили из ведра холодной водой, приводя в сознание. Чисто машинально я попробовал пошевелить руками и сразу понял – я уже не был связан ремнем. Однако тело, отвыкшее от нормального тока крови, отказывалось слушаться. Жизнь нехотя возвращалась в одеревеневшие конечности. Сил подняться на ноги совершенно не было. Да и, если честно, не хотелось этого делать. Единственным желанием на тот момент было отлежаться и прийти в себя.
– Доброе утро, герой недоделанный! Как самочувствие? Жалобы есть? А вопросы? – слегка наклонившись, спросил длинный сержант.
– Есть один вопрос, – кривясь от боли, ответил я.
– С удовольствием послушаю. Валяй.
– Сколько тебе до пенсии осталось?
– По выслуге лет – всего восемь, – не до конца понимая смысл заданного вопроса, все же ответил сержант и тут же добавил: – А тебе это зачем?
– Ничего. Просто ты не доживешь до нее. Сдохнешь. Такие, как ты, долго не живут.
Следом последовал удар ногой в грудь, и с моих губ полетели капли воды вместе со сгустками крови.
– Хлебало захлопни, червь поганый! – заорал сержант, нанося мне удары по туловищу.
Его ботинки врезались мне в живот, и я уже чувствовал, что от нехватки дыхания вот-вот потеряю сознание, как вдруг со стороны коридора донеслось:
– Отставить, сержант!
На пороге камеры выросла фигура самого начальника КПЗ, а за его спиной маячил следователь Сомов.
– Это что еще за самоуправство?! Поднимите его живо! – скомандовал начальник, сдвинув брови. – Уроды, мать вашу ети…
Сержанты поспешно схватили меня и придали телу вертикальное положение.
– Фамилия? – оглядев меня с ног до головы, спросил начальник.
– Кузнецов, – еле слышно ответил я, скрывая, насколько мог, боль во всем теле.
В тот момент мне очень не хотелось выглядеть физически разбитым человеком. Тем более показывать это следователю, который пытался поймать в моем взгляде хоть какой-то намек на слабость.
– Ничего не хочешь мне сказать? – спросил начальник.
– О чем? – усмехнулся я, понимая, что он имеет в виду.
– А ты, можно подумать, не знаешь? – Тот покосился на следователя Сомова и тут же, хитро прищурившись, добавил: – По поводу вашего недавнего разговора с товарищем следователем.
«Какой дешевый спектакль они тут передо мной пытаются разыграть? Сначала изображают из себя справедливых начальников, а ведут все к одному… Нет, граждане легавые, ничего у вас не получится» – подумал я.
– Пошел ты, – процедил я и отвернулся.
Услышав это, начальник весь побагровел и открыл было рот для ответа, но у него ничего не получилось. Как рыба, барахтающаяся на берегу без воды, он открывал и закрывал рот, не произнося ни звука. Слова застряли в его горле. Резко повернувшись на каблуках, он вышел из камеры.
– Твое счастье, что за тобой уже автозак прибыл. Вот, распишись, – следователь протянул мне какие-то листки. – Вы, Кузнецов, обвиняетесь… – дальше шли несколько статей, по которым меня якобы обвиняли и за которые мне действительно могли впаять не меньше десяти лет. – Так как существует реальная возможность, что, находясь на свободе, вы будете оказывать давление на потерпевших, а также из опасений, что вы можете скрыться, принято решение до суда заключить вас под стражу и направить в следственный изолятор. Подпишите!
– В очко себе затолкай эти бумажки! Не буду я ничего подписывать! – напоследок ответил я и сплюнул себе под ноги. – Я с тобой еще встречусь, крыса. Пусть даже через десять лет.
– Если бы вы, гражданин Кузнецов, знали, сколько раз за годы работы я слышал подобные угрозы со стороны задержанных, то, наверное, не стали бы меня этим пугать. Вы ведь видите, что я до сих пор жив и здоров.
– А я тебя не пугаю. Я тебе говорю, как оно будет.
На этом наш разговор со следователем закончился, и мое пребывание в КПЗ завершилось, поскольку меня, заковав в наручники, повели к автозаку…
По прибытии в тюрьму меня сразу изолировали ото всех остальных, посадив в «стакан». Я понял, что мое «исправление» будет продолжаться и здесь. После всех тюремных процедур меня наконец-то решили отправить в камеру. Где-то в душе я был рад побыстрее упасть на шконку и хоть немного отдохнуть. Но на самом деле все произошло совершенно иначе…
Ближе к вечеру меня забрали из «стакана». На попытки поинтересоваться, почему меня не конвоируют со всеми остальными, постовой только пожимал плечами:
– Ничего не знаю. Приказали, я исполняю.
Наконец, остановившись в одном из продолов, он передал меня другому постовому, который, в свою очередь, должен был отвести меня в камеру. Новым постовым оказался неприятный тип с одутловатым лицом, который, пренебрежительно посмотрев на меня, спросил:
– Блатной, что ли?
– Задержанный, – сквозь зубы ответил я и отвернулся.
– Ну-ну. Посмотрим, как ты завтра заговоришь, – криво усмехнувшись, сказал постовой и открыл дверь.
Еще не до конца понимая смысл его слов, я почувствовал в них какой-то подвох…
Я вошел в крохотную, не более десяти-двенадцати квадратных метров хату и остановился на пороге, пожираемый несколькими парами внимательных и колючих глаз. Первое впечатление было вполне нормальное. Чисто, ухоженно. Сохнувшее на веревках белье. Отгороженный простынями угол с дальняком и ракушкой, как называли раковину. Восемь шконок в два яруса вдоль стен.
Вокруг стола и на краях шконок сидели пятеро арестантов. Остальные двое расположились на верхних.