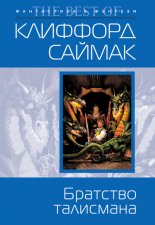Случай Растиньяка Миронова Наталья
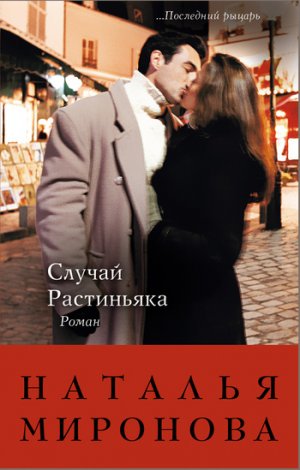
Герман был удачлив, но тут удача ему изменила. Ширвани Вахаев – обычный рядовой боевик, не главарь группировки. Поди поймай его в чеченских горах! Сколько ни старался Герман, Вахаев все время от него ускользал.
Однажды пришлось брать штурмом родовое село Ширвани Вахаева. Батальон ворвался в село, потеряв восьмерых, но боевики, и в их числе Вахаев, успели уйти.
Герман приказал десантникам рассыпаться по селу и оцепить его по периметру, выставил боевое охранение. Ему привалила колоссальная удача, такая разве что присниться может. Обходя дом за домом, бойцы обнаружили в самом большом из них, принадлежавшем, как тут же выяснилось, дяде Ширвани Сосланбеку Вахаеву, подземную тюрьму – зиндан, а в нем – шестерых пленных российских солдат и четверых гражданских – американских журналистов с переводчицей, взятых в заложники.
По оперативным данным, эти заложники должны были находиться совсем в другом месте, а нашлись тут, в родовом селе Вахаевых. Пожалуй, это им привалила колоссальная удача: если бы не Герман, стремившийся во что бы то ни стало отыскать и взять своего кровника, их успели бы вывезти и перепрятать. Или перебить, хотя американцы – слишком лакомый кусок: за них можно взять большой выкуп.
Десантники, как и полагалось, выгнали во двор всех обитателей дома. Сосланбек Вахаев, коренастый пятидесятилетний чеченец, уже в наручниках, что-то непрерывно бормотал себе под нос. Может, молился, а может, и ругался. Его жена и дети – Герман отметил, что на дворе одни женщины, то ли дочери, то ли младшие жены, – фальшиво плакали, картинно заламывая руки. Германа это шоу не трогало, он видел такое уже не раз.
Его внимание привлек человек, выползший из какого-то сарайчика во дворе. Совершенно лысый, босиком, в отрепьях, весь покрытый коростой. Раб. Герман и таких видел уже не раз, знал, что мода заводить русских рабов существует в Чечне и Дагестане еще с 70-х годов. Их – чаще бомжей, иногда возвращавшихся со службы солдат или командированных – похищали, увозили в горные аулы и заставляли работать. Даже фильм про это был – «Савой». Правда, там действие происходило в Средней Азии, но, по сути, то же самое.
С годами эти люди, замордованные побоями и нещадной эксплуатацией до потери человеческого облика, забывали собственное имя и прошлое, почти переставали говорить. Манкурты. Герман прочел в свое время нашумевший роман Чингиза Айтматова «Плаха».
Из-за плохой кормежки у них выпадали волосы, Герману приходилось видеть, как они прямо пальцами вынимают последние зубы из разрыхлившихся от цинги десен. Он уже знал, как поступит, но тут к нему подошла американская переводчица.
Эта немолодая женщина еврейской наружности передвигалась с трудом, на лице – следы побоев. С ней явно обращались жестоко. Но она попросила Германа не убивать Сосланбека Вахаева. Журналисты знаками и гнусавой американской речью дали понять, что она говорит и от их имени тоже.
– Я не собираюсь его убивать, – хмуро и неприязненно отозвался Герман. – Мы отвезем его в изолятор. В Чернокозово.
Это название было знакомо и чеченцам, и американцам. Об изоляторе Чернокозово шла дурная слава. Женщины Вахаева, услыхав о Чернокозове, заголосили еще громче, американцы тоже заговорили возбужденно.
– В Чернокозове пытают, – сказала переводчица. – Нарушают права человека.
– Тонко подмечено, – согласился Герман. – Как насчет ваших прав? Как насчет прав вот этого человека? – И он знаками поманил к себе раба.
Тот проворно заковылял к нему.
– Как тебя зовут? – спросил Герман.
– Рус свинья, – прошамкал раб, преданно глядя на Германа слезящимися, вспухшими, лишенными ресниц голубыми глазами.
– Нет, – покачал головой Герман, – так тебя никто больше звать не будет. Вспомни, как тебя раньше звали. А вы переводите, переводите, – бросил он переводчице.
Несчастный мучительно пытался уразуметь, что от него хотят, но ответить на вопрос не мог.
– Ладно, скажем, Иван, – сжалился над ним Гермн.
– Иван, Иван, – охотно закивал бедолага.
– Поищите, нет ли других, – приказал Герман десантникам, а сам повернулся к американцам. – Я поступлю так, – заговорил он громко и отчетливо, словно проводил диктант, – как поступает в таких случаях израильская армия. Этот человек – террорист, – кивком указал он на Сосланбека. – Я отправлю его в тюрьму, а его дом взорву.
Что тут началось! Чеченки – Герман уже мысленно называл их «вахаевским гаремом» – завыли в голос, а сам Сосланбек начал с воплями выдираться из наручников. Двое бойцов подхватили его, он бешено вращал белками глаз и рвался в дом.
– Что он говорит? – спросил Герман Жеку Синицыну.
– Не понимаю. Слишком быстро. Что-то у него там есть.
– Это я и сам понял, – проворчал Герман и распорядился провести в доме тщательный обыск.
– Клад, – вдруг произнес раб Иван, так и оставшийся покорно рядом с Германом. – Иван знает.
Каким чудом выскочило у него в памяти слово «клад»?
– Покажешь?
– Показет, показет, – закивал несчастный. – Иван знает.
Вместе с бойцами он ушел в дом. Хозяин пытался угрожать, но Леха Журавель, несильно, почти ласково двинул ему по печени, и Сосланбек смолк, согнувшись пополам.
Переводчица между тем не сдавалась.
– У этого человека большая семья, – вновь обратилась она к Герману. – Нельзя выкинуть их на улицу.
– Эти женщины, – зло заговорил Герман, словно откусывая через паузу каждое слово, – держали в доме раба. Вы видите, что с ним стало. Они держали вас в яме, ждали выкупа. Носили вам баланду. Еду, пищу, – пояснил Герман, заметив, что она не понимает. – Они видели, как вас бьют, как этих солдат пытают, – он кивнул на молоденького пленного лейтенанта с отстреленными пальцами, которого кто-то из десантников поил спиртом, пока другой бинтовал ему руку. – Снимали это на видео – мы нашли в доме камеру и кассеты. Ими торгуют на базаре. И ни одна из этих женщин за вас не вступилась, не сошла с ума, не наложила на себя руки. Я сделаю, как сказал. Это не обсуждается.
– Дайте им вынести вещи, – попросили американцы через переводчицу. – Хоть еду и одежду.
– А знаете, как они над русскими издевались до нашего прихода? – не выдержал Жека Синицын. – Геноцид в натуре! Думаете, русским дали взять еду и одежду? Выкидывали из домов, в чем стояли, и это еще в лучшем случае, многих просто поубивали.
Переводчица изложила его слова американцам.
– Мы не будем опускаться до их уровня, – вставил Герман, не давая им ответить. – Еду и одежду пусть возьмут, сейчас только обыск закончим.
Бойцы тем временем вынесли из дома трофеи. Улов оказался богат: доллары, золотые украшения, взрывчатка, оружие, патроны.
– Молодец, Иван! – похвалил Герман. – Доллары пересчитайте, разделите на части, чтоб побыстрее. Все грузите, сворачиваемся. Связь есть? Передайте на базу: отходим. Еще рабов нашли? Зинданы? Все дома с зинданами минируйте и взрывайте. – И он добавил, как Глеб Жеглов: – Я сказал.
Золото и боеприпасы они сдали в комендатуру в Грозном, доллары – около миллиона! – оставили себе. На общем собрании было решено не делить деньги на триста пятьдесят человек, только семьям убитых в том бою да тяжелораненым выделили по пятнадцать тысяч долларов. Один из комиссованных по ранению повез им эти деньги. С собой прихватил раба Ивана, устроил его к своим родным в деревне. Такую же сумму Герман с общего согласия отдал Нурии Асылмуратовой в железнодорожном поселке Катаяма под Грозным.
Остальные деньги оставили в кассе батальона и пустили на закупку приборов ночного видения и других полезных вещей. Взять хоть переносные зенитные ракеты – ПЗРК. Правда, авиации у чеченских боевиков нет, зато автомобили есть. По машинам в горах эти ракеты отлично бьют. А поди допросись! На складе есть, но пехоте, даже моторизованной, не выдают. Не положено. Зато за деньги все купить можно.
За спасение американских журналистов Герману впоследствии дали орден. Американский орден «Легион почета». За спасение российских военнослужащих – ничего. Еще пришлось доказывать, что они не сдались сами, хотя всем было известно, что они попали в плен по вине одного из старших офицеров, который не то послал их на верную гибель, не то продал чеченцам.
Ему до смерти надоела эта бездарная война. Учась в институте после Афганистана, Герман начал интересоваться военной историей, прочел много книг. Как ни удивительно, больше всего чеченская кампания напоминала ему советско-финскую войну 1939 года, когда крошечные отряды финских егерей-лыжников дробили и рвали на части огромную военную махину, застрявшую на Карельском перешейке, подобно тому, как воробьи расклевывают хлебную горбушку.
То же самое Герман наблюдал и в Чечне. Время другое, условия другие, климат другой, рельеф местности совсем другой, враг, можно сказать, другой расы, а сходство велико. Опять русские положились на грубую силу. А мелкие мобильные банды боевиков трепали ее безжалостно, уничтожая и технику, и личный состав. Но командование по старинке бессмысленно бросало в топку все новые и новые части.
Так продолжалось до августа 1996 года. Герман не раз выступал на разного рода военных совещаниях и говорил, что боевики войдут в Грозный в районе поселка Черноречье – однажды они уже сделали это в марте, – разрежут город надвое и блокируют подразделения российской армии. Так и случилось. Понеся огромные потери в живой силе и технике, российское командование согласилось на переговоры, после чего в Хасавюрте были подписаны мирные соглашения, и Герман смог демобилизоваться.
Глава 7
С квартирой его надули. Выдали сертификат, оказавшийся красивой, но никчемной бумажкой. Герман поехал в Москву, пробовал обивать пороги…
– У нас еще не всем ветеранам Великой Отечественной квартиры выделены, – говорили ему и прозрачно намекали, что ветераны Великой Отечественной воевали как раз с его нацией, а он теперь хочет у них квартиру отобрать.
При этом говоривший хитро посверкивал стеклышками очков, словно намекая: ну, попробуй, двинь мне. Дай повод. И руку нарочито держал под столом. Вряд ли у него там было оружие. Скорее кнопка. Сигнал тревоги.
– И чего вас всех в Москву тянет? – недовольно спросил другой чиновник, к которому Герман пришел с жалобой. – Ровно тут медом намазано!
«А то ты не знаешь, почему все в Москву едут», – с сумрачной неприязнью подумал Герман.
– Вот вы откуда родом? – продолжал чиновник.
– Из Казахстана.
– Вот и возвращайтесь домой, – посоветовал чиновник. – Ну, ладно, не в Казахстан, – разрешил он милостиво. – Но разве в России мало места? Вот вы, – он пошевелил бумаги Германа, – призывались из Новосибирска. Чем не город? Не хотите в Новосибирск? Можно в европейской части что-нибудь подобрать. В Орле, например, или в Воронеже…
– Я был в Воронеже, – перебил его Герман. Он и вправду заезжал в Воронеж, провожал тяжело контуженного товарища, сдал его с рук на руки родителям и прожил у них несколько дней. – Там работает один завод пепси-колы, все остальные стоят.
– Ну, можно еще что-нибудь подобрать, – отмахнулся чиновник.
Герман понял, что все безнадежно, и плюнул. Судиться с министерством? Себе дороже. Ему «боевые» еле-еле удалось выдрать для себя и однополчан. В газеты жаловались, чуть до голодовки не дошло.
Он бродил по чужому городу, враждебному и равнодушному. Повсюду даже днем сверкали и переливались огни казино. Можно было подумать, что он попал в Лас-Вегас. Магазины, валютные рестораны… Реклама…
«Откуда у них столько денег?» – недоумевал Герман. Он был здесь в 85-м году, и тогда все были еще более или менее равны в бедности. Нет, конечно, и тогда чувствовалось неравенство, но теперь оно приобрело прямо-таки угрожающие формы.
Герман заглядывал в магазины, где не смог бы купить себе даже носового платка, и ему хотелось взорвать все к чертовой матери. Он ловил себя на том, что окидывает помещение профессиональным взглядом, примеривается… Он знал, куда и сколько заложить взрывчатки, куда пальнуть, чтобы все взлетело…
Равнодуные, хамоватые люди, нувориши, хлебнувшие первых легких денег, рисковые, безбашенные… Они жили минутой, и не было им дела до только что отгремевшей войны в каком-то далеком бантустане, хотя кое-кто из них, подозревал Герман, не выезжая из Москвы, наваривал бабки как раз на Чечне. О чем с ними говорить? Герман держался в сторонке.
- От ликующих, праздно болтающих,
- Обагряющих руки в крови… —
всплывали в уме строчки из школьного курса.
«Ты тоже не за великое дело любви погибал», – мысленно одергивал он себя, и мерещились трупы, развалины, хаос и дым бессмысленной и беспощадной войны. А ведь если бы еще в 91-м проявили мудрость, если бы Руцкой шашкой не махал, если бы потом не понадобилась «маленькая победоносная война», на которой разного рода темные людишки грели руки, с Дудаевым можно было договориться, как договорились в конце концов с Шаймиевым… И не было бы всего этого безобразия, не было бы похоронок…
Податься, что ли, в политику? Нет, ни за что. Герман окончательно разуверился во всех без исключения лозунгах. Особую ненависть вызывали у него как раз политиканы, умевшие гладко говорить и округло жестикулировать, почему-то заранее уверенные, что всегда найдется кто-то готовый пойти за них умирать.
Он бродил по Москве, как инопланетянин, и в конце концов устроился на работу в частное охранное предприятие. Можно было в милицию, туда пошли ставшие неразлучными друзьями Жека Синицын и Леха Журавель. Звали Германа, но он отказался. Ему осточертели государственные структуры, к тому же в ЧОПе платили больше.
* * *
Поначалу Герман поселился в общежитии, хотел устроиться подешевле и скопить денег, но вскоре понял, что заработать на квартиру в Москве ему удастся разве что лет через пятьдесят, да и то если он питаться не будет. И жить в общежитии он тоже не смог. Нахлебался еще в институте и больше не хотел.
Его не любили за то, что был работящим, экономным, чистоплотным, не пил, не сквернословил. Книжки читал. Нет чтобы телевизор посмотреть, как все люди!
Герман и вправду пристрастился к чтению. Он был приучен читать еще в детстве, но тут рука сама потянулась к мало читанному прежде и плохо усвоенному Хемингуэю. Перечитал весь специально купленный четырехтомник. Потом перешел к Ремарку. Герман даже не мог бы сказать, что все прочитанное ему нравилось: культ пьянства уж точно был не про него. И все же он читал запоем. «Мы одной крови – ты и я», – говорили ему эти ушибленные войной писатели.
Герман читал, впитывал и понимал куда больше, чем мог бы сам выразить словами. Да и авторы многое опускали, но оно, это невыразимое нечто, чувствовалось в каждой фразе.
Потом он открыл для себя Василя Быкова и других авторов отечественной военной прозы. Повести Быкова, тоненькие книжечки в глухих переплетах, выстроились у него на полке, как солдаты в шинелях. Герман испытывал к ним чувство, похожее на нежность. Закрывшись в комнате, переделав все дневные дела, он мог забыть обо всем, отгородиться от мира и читать, читать, смутно догадываясь, что чтение спасает его от безумия войны.
Соседи пакостили ему, как могли. Словно говорили: мы свинячим, потому что мы такие. Мы привыкли свинячить, мы всегда так живем. А ты не такой. По-нашему жить не хочешь, чистоплюй, тыкаешь нам в глаза своим чистоплюйством, вот и получи.
Герман старательно не обращал на них внимания. Отремонтировал за свой счет протекавший с незапамятных времен кран в ванной. Брезгуя готовить в общей кухне, завел у себя в комнате микроволновку и электроплитку, поставил отдельный счетчик. Нашел где-то древесно-стружечную плиту и положил перед крыльцом, где осенью и весной скапливалась непреодолимая лужа, чтобы можно было ходить, не замочив ног.
На следующий день плиту унесли. Тогда упрямый Герман дождался хорошей погоды, разогнал лужу, грамотно сделал цементную стяжку и положил на нее бетонные блоки. Уж они-то намертво спаялись с растрескавшимся асфальтом. Но оказалось, что этого никак нельзя: асфальтовое покрытие подлежало плановому ремонту в каком-то отдаленном году. Пришли рабочие и отбойными молотками сняли блоки с цементной стяжкой, а Германа заставили заплатить.
– Давайте дождемся ремонта, – уговаривал он коменданта общежития, – тогда и снимем.
Комендант посмотрел на него, как на блаженного. Соседи наблюдали за происходящим с нескрываемым злорадством. Они сами чертыхались каждый день, пытаясь миновать необъятную лужу, возмущались и недоумевали, куда смотрит администрация, но до чего же приятно было посадить в эту лужу проклятую немчуру!
Много он о себе понимает. Магарыч поставил, когда вселился, а сам ушел. Нет чтобы выпить с мужиками, посидеть по-человечески! Брезгует. Ну и черт с тобой, нам такой сосед не нужен.
Герман плюнул на все и снял себе однокомнатную квартиру в блочном девятиэтажном доме в одном из спальных районов Москвы. Зарплата вполне позволяла. Ему было все равно, где жить, лишь бы рядом с метро. Герман, понимал, что надо что-то думать, надо как-то дальше строить карьеру. Он не собирался до скончания дней торчать в охранниках.
Непонятно только, куда теперь податься. Знания, полученные в Новосибирском университете, в новой России никому не нужны, это Герман давно уже уяснил. Надо заняться бизнесом, это единственное, что имеет перспективу. Но как пробиться без протекции? Нереально. Проще было уехать в Германию и попытаться устроиться там, тем более что язык он знает, но Герман съездил навестить родителей, сделал очередную попытку их урезонить и наткнулся на каменную стену.
– Только на Волгу.
– Но здесь вообще жить невозможно!
– Ничего, как все, так и мы.
Так ничего и не добившись, Герман оставил им денег, а сам вернулся в Москву.
Повезло неожиданно. Правда, везенье было сомнительное, сам Герман предпочел бы преуспеть не столь тяжкой ценой, но… судьба не спрашивает.
Охранное предприятие обслуживало крупный холдинг под названием «Корпорация АИГ». Долго Герман мучился, пытаясь расшифровать эту аббревиатуру. В детстве он любил книжку «Понедельник начинается в субботу», буквально знал ее наизусть и сейчас вспомнил, как герой остроумного романа Стругацких Саша Привалов, впервые увидев вывеску НИИЧАВО, гадал, что она может означать: «Научно-исследовательский институт… Чаво? В смысле – чего? Чрезвычайно Автоматизированной Вооруженной Охраны? – Герман усмехнулся, вспоминая это место. – Черных Ассоциаций Восточной Океании?»
Вот и сам Герман так рассуждал. Корпорация – чего? Ассоциированных Индустриальных Генераторов? Академической Интернациональной Гребли? Анаэробной Интегральной Газосварки? Абразивного Индуцированного Гидрокрекинга? Аналитических Информационных Гигантов? Автоматизированных Инженерных Групп? Анализа и Исследования Грунтов? От напряжения в голову ему лезла совсем уж чушь несусветная: Анонимно Исповедуемой Герменевтики, Арабско-Индийских Гейш, Азиатско-Индоевропейских Гурманов… Аистов, Индюков и Головастиков…
Герман так и не пришел ни к какому решению, а спрашивать не хотелось. Зато он спросил, кому принадлежит корпорация АИГ. Ему сказали, что Голощапову. Герман отыскал Голощапова в скудном тогда еще русском Интернете.
Голощапов Аркадий Ильич… В прошлом – директор Горноуральского металлургического комбината… Голощапов, Голощапов… Отрывочные сведения. Никаких точных данных. Упоминания в прессе… Интервью не дает. Связи в уголовной сфере… Считается одним из крупнейших авторитетов… По слухам, все по слухам. Интересы в самых разных сферах бизнеса… Так… В добыче и обработке металлов, в том числе и драгоценных, ну, это понятно… В банковском деле… В недвижимости… В капитальном строительстве… И все это – корпорация АИГ. Голощапов Аркадий Ильич… Аркадий Ильич Голощапов… Да вот же он, ответ на вопрос! Это ж надо… АИГ – Аркадий Ильич Голощапов. Смешно. Вроде бы солидный человек – и такое дешевое пацанство!
О драгметаллах Герман знал не понаслышке. Его много раз переводили с объекта на объект, но в конце концов определили охранять большой магазин ювелирных изделий.
Прямо в помещении имелся пункт обмена валюты, кроме Германа, в магазине работали еще пятеро охранников. По расчету ему полагалось в паре с другим секьюрити стоять у входа. Скучная, непрестижная работа… Герман уже подумывал, не подать ли заявление, чтоб его перевели хоть на инкассаторскую машину, что ли. Все веселей.
Оказалось, что и тут веселья хватает. Лучше бы даже его было поменьше. Однажды жарким летним днем Герман, как обычно, стоял у входа. Ему в основном полагалось следить, чтобы какая-нибудь горячая голова не вздумала дать деру, примерив колечко и не заплатив.
В разрядных магазинах перед примеркой полагалось выложить на прилавок деньги за товар, а потом уже мерить. Но этот магазин не был разрядным, здесь продавалось золото завышенной пробы по низкой цене. Размерами магазин больше походил на супермаркет, поэтому и охранников было много.
От скуки Герман случайно бросил взгляд через плечо на улицу и сразу насторожился. Какой-то подозрительный «жигуленок» остановился прямо у входа. Из машины выскочили двое. Толстое стекло отсвечивало, и Герману не удалось их толком разглядеть, но у самых дверей они натянули лыжные шапочки-маски. Толкнули дверь…
– Тревога, – бросил Герман своему напарнику Коваленку.
Двое ворвались в магазин.
Один из них успел выстрелить в воздух из пистолета – газового, переделанного в боевой, машинально определил Герман – и крикнуть тонким петушиным голосом:
– Всем на пол! Это ограбление!
Герман скрутил его в секунду, отнял пистолет и надел наручники. Парень, даже не пикнув, оказался на полу. Но на полу оказался и располневший, неповоротливый сорокапятилетний Федор Коваленок: второй нападавший успел разрядить в него электрошокер. Герману вид Коваленка очень не понравился, но присматриваться было некогда. Первым долгом Герман бросился ко второму парню, пока тот не положил кого-нибудь из покупателей, выбил у него из рук электрошокер и вырубил ударом по шее: у него была только одна пара наручников.
К нему уже спешили на помощь другие охранники, даже свистеть не пришлось, но покупатели – в основном покупательницы – столпились, мешая пройти.
– «Скорую»! Милицию! Наручники! – крикнул Герман, а сам бросился на улицу. – Там третий!
Третий, сидевший за рулем «жигуленка», увидел огромного охранника, выскакивающего из дверей магазина, и почуял недоброе. Он засуетился, попытался уехать. Он уехал бы, хотя Герман преодолел ступени крыльца одним гигантским прыжком, но на угнанных, как потом выяснилось, «Жигулях» передача механическая, а он привык к автоматике и не справился.
Герман рванул на себя дверцу переднего пассажирского сиденья, не заблокированную, чтобы обеспечить подельникам скорый путь отхода, втиснулся в машину… Третий оказался совсем зеленым пацаном. Он дернулся, сунул руку за пояс… Герман двинул кулаком в испуганное мальчишеское лицо, и незадачливый злоумышленник ткнулся носом в руль.
Герман выволок его из машины и потащил в магазин. Толкнув парня охранникам, он бросился на колени и начал делать уже перевернутому на спину Коваленку непрямой массаж сердца с дыханием изо рта в рот. Один из молодых охранников тронул его за плечо:
– Он умер, Герман Густавович…
Но Герман все не хотел сдаваться. Все не мог поверить. Вот так умереть? В мирное время? У него в голове не укладывалось.
Покупатели, которых задержали в магазине как свидетелей, уже вовсю жаловались и роптали. Одна женщина прямо попросила, чтоб ее отпустили, она, мол, куда-то опаздывает. Остальные загалдели, что не одна она такая умная: все опаздывают.
Герман наконец оторвался от Коваленка, распрямился и окинул всю компанию угрюмым взглядом. С тех двоих, что ворвались в магазин, уже сорвали лыжные шапочки-маски. Они тоже были молоды, не старше двадцати. До них еще не дошло, во что вляпались. Держались нагло, только третий, которого он ударил кулаком, размазывал по лицу кровавые сопли и мелко дрожал. Единственный из трех он был трезв, а те двое – обкуренные, заметил Герман.
Все трое были хорошо одеты. Дизайнерские джинсы, батистовые рубашки… От золотых крестов на шее до кроссовок из натуральной замши – на каждом было надето штук по пять баксов, а то и больше, прикинул Герман, если учесть шикарные часы. Чего их понесло грабить ювелирный магазин? Не иначе как жажда острых ощущений.
Герману вспомнились ребята, погибшие в Чечне. Скольких он потерял! Погибли Белоконь, Жеребцов и Меринов. Погиб Щукин, а Ракову оторвало ногу. Погибли многие другие, за два года, проведенные в Чечне, сменилось больше половины состава батальона. Вспомнилась жившая в нищете Нурия Асылмуратова со своими детьми, вспомнился Азамат с перерезанным горлом… Вспомнился и разрушенный, как Сталинград, весь зияющий дырами, рябой от следов пуль, засыпанный строительными обломками вперемежку с человеческим мясом город Грозный. Полтора ведра – человек. Хорони, если хочешь. И родители, оставшиеся в Джезказгане. И сытые морды генералов тоже вспомнились.
Приехали милиция и «Скорая». Все сфотографировали, врач констатировал смерть, но везти тело в морг отказался: мы-де возим только по ночам, а днем вызывайте труповозку. Герман протиснулся к нему из-за плеча старшего по расчету и показал кулак:
– Вы его отвезете.
Врач сразу сник, не стал спорить, буркнул только:
– Хоть в машину занесите. У меня девочка-медсестра, нам его и не поднять…
Старший приказал двоим охранникам погрузить тело в «Скорую», а сам, повернувшись к незадачливым грабителям, протянул:
– Ну, ребята, вы попали…
Герман вместе со всеми давал показания милиции. Действовал он уже механически, не вдумываясь в смысл собственных слов. Да, увидел через витрину. Предупредил напарника. Нет, закрыть двери не успел. Электрошокер заметил слишком поздно. Жаль, что досталось не ему, а Коваленку. Сорок пять лет, больное сердце. Остались жена и трое детей. Семь и пять лет. Младшему полгода.
Именно смерть Коваленка и стала точкой пересечения для Германа Ланге и Аркадия Ильича Голощапова. Тем самым местом встречи, которое изменить нельзя…
* * *
Аркадий Ильич Голощапов слыл человеком беспощадным. В Интернете писали, что на любую вину у него один приговор – смерть. Герман не слишком доверял интернетовским источникам, мысленно все делил на двести, но в уме у него застряла фраза старшего по расчету: «Ну, ребята, вы попали». И не сама даже фраза, а то, как это было сказано.
Началось следствие, и к Герману стали обращаться родители несостоявшихся грабителей, чтобы изменил показания. Пришла прямо к нему в съемную квартиру роскошная, умело молодящаяся дама в золоте и бриллиантах, мать невольного убийцы Коваленка.
– С вдовой я договорюсь, – уверяла она светским тоном, словно речь шла о цене загородного особняка. Или пучка редиски на рынке.
– О чем? – мрачно спросил Герман. – Купите ей нового мужа?
– Я дам ей столько, что она сама купит себе мужа, если захочет. Но и вы поспособствуйте. Послушайте, я наводила справки. Вы же хотите перевезти сюда родителей из Казахстана, верно? Мой муж мог бы вам помочь.
– Я сам перевезу родителей, без вашей помощи. Показаний менять не буду. Все предельно ясно: ваш сын убил человека.
– Непреднамеренно, – вставила дама. – Они же еще дети! Это была просто игра.
– Расскажите это на суде. Советую нанять сыну хорошего адвоката. Больше я ничем не могу вам помочь.
– Конечно, можете! Я понимаю, вы озлоблены…
– Вы даже представить себе не можете, как я озлоблен, – перебил ее Герман. – Мне хотелось убить вашего сына прямо там, на месте. – Дама отшатнулась и побледнела под тональной пудрой. – Я запросто мог бы его убить. Я ветеран Афгана и Чечни, мне бы ничего не было, – хладнокровно и безжалостно продолжал Герман. – Я мог убить его ударом кулака, тем более что он был вооружен и уже положил одного. Но я не убил. Зато его может убить владелец магазина. Голощапов, слыхали о таком? Поэтому мой вам совет: пусть лучше ваш сын в тюрьме отсидит. В крайнем случае сменит ориентацию. Ничего, и так люди живут.
Дама ушла слезах. Приходили и другие – умоляли, подкупали, угрожали. Герману все это надоело, он пожаловался директору охранного агентства. А тот устроил ему встречу с Голощаповым.
* * *
Аркадий Ильич Голощапов оказался человеком чрезвычайно колоритным. Во всех отношениях. Он был из так называемых «крепких хозяйственников», завладевших в начале 90-х предприятиями, которыми руководили при советской власти. Но, в отличие от других «красных директоров», растерявших захваченную собственность в экономической сумятице, Голощапов сумел удержать и приумножить «прихватизированные» владения.
Стихийный рыночник Голощапов втайне ненавидел советскую власть и не считал, что он ей чем-то обязан. Напротив, он твердо знал, что всем обязан только самому себе. Разумеется, Аркадий Ильич не выступал против советской власти открыто, но умело пользовался всеми недостатками нелепого, неповоротливого бюрократического механизма.
Его безумно раздражала необходимость отсиживать на партсобраниях, произносить какие-то дурацкие речи, распинаясь в верности двум кабинетным идиотам XIX столетия и одному фанатику-сектанту, дожившему до 20-х годов века нынешнего. В молодости приходилось конспектировать и заучивать наизусть их сочинения, но Голощапов быстро продвинулся на начальственные должности и завел себе секретаря из комсомольцев, которому и поручил эту нудную работу. И все-таки партсобрания бесили его до чертиков. Столько времени тратить впустую на ритуальную говорильню, когда можно употребить его с толком!
Но, раз таково было поставленное любимой партией условие, а иначе к собственности никак не подступишься, Голощапов терпел. До поры до времени. Правильно Бенджамин Франклин сказал: «Время – деньги». Вот его Голощапов, пожалуй, не отказался бы конспектировать, хотя не любил никаких умствований вообще.
В любом деле Аркадий Ильич мужицкой хваткой нащупывал прежде всего материальный интерес. Платили бы рабочим, сколько они заработали, а не сколько партия скажет, не понадобилось бы никакое соцсоревнование. А плановое распределение ресурсов?! С какого квасу Голощапов должен покупать разные там нормали, узлы и даже целые агрегаты на Дальнем Востоке, когда под боком, в Казахстане, делают точно такие же? Потому что на Дальнем Востоке завод построили и его надо загрузить работой, чтоб не простаивал? А на хрен строили? Голощапова спросили? Голощапов вам тут же сказал бы, что никому такой завод не нужен. Ах, вам надо чем-то занять население? Придумайте что-нибудь другое. Не можете? Чего ж тогда в правительство лезли?
Да, а запчасти?! Полетит какая-нибудь шестеренка, и выйдет из строя весь агрегат. А новую не достать, она, видите ли, планом не предусмотрена. Жди следующего года и тогда уж выписывай новый агрегат. Да не один, а то не дадут. Проси сразу десять, дадут пять. На хрен Голощапову пять агрегатов, когда нужен, допустим, один? Чтобы загрузить железную дорогу? Голощапов не обязан думать еще и за железную дорогу. С какой стати? Потому что два кабинетных идиота так сказали еще в XIX столетии? Да пошли они! Голощапову с его места виднее, что ему нужно, а что нет.
Пять агрегатов Аркадий Ильич, конечно, брал, если давали. Ему уже и один не был нужен, потому что ту полетевшую шестеренку он давно заменил, купил на черном рынке. Не простаивать же производству в самом-то деле из-за одной шестерни! А на черном рынке он и агрегаты ненужные толкнет другому бедолаге-директору, которому без них беда и полная засыпь. Но он тяжко недоумевал: кто придумал такие дурацкие правила и зачем? Да, правила эти его обогащали, только без них было бы гораздо лучше. Он обогатился бы куда больше, играя в открытую, но… ничего не поделаешь, приходилось терпеть.
Аркадий Ильич стал миллионером еще в глубоко советские времена. Балансировал на грани, но ни разу не попался. Не такой он был дурак, чтоб покупать сливочное масло в московских магазинах, а потом выдавать его за произведенное в совхозе, как один идиот, который загремел при Хрущеве. Он видел все дыры, все прорехи советской экономики и эксплуатировал их себе на пользу. И ОПГ – организованную преступную группировку – из ловких снабженцев сколотил еще тогда.
Тот секретарь из комсомольцев стал его правой рукой. Умел, шельмец, толково составлять заявки, да и речи классиков знал чуть не наизусть. Он был амбициозен и рвался в партию, но пятая графа подкачала, в ней можно было сразу писать «да». Кто ж выделит партийную квоту на парня по имени Леня Фраерман? Но голова у Лени работала справно, и Аркадий Ильич держал его при себе, подкармливал, хотя с партийной рекомендацией помогать не стал.
«Ты, Лёнчик, счастья своего не знаешь, – приговаривал он мысленно. – Вступишь – и улетишь от меня, ищи потом ветра в поле! Нет, ты здесь посиди, мне послужи, а там еще посмотрим, как оно все повернется. Может, ты мне еще и спасибо скажешь».
Лёнчик смотрел на вещи точно так же, как Аркадий Ильич, только был по молодости более откровенен.
– Если б не вся эта лабуда, – вздыхал он, – планы-шманы, партия-шмартия и тэ дэ, и тэ пэ, мы бы таких бабок огребли!
И глаза его при этом горели волчьим жадным блеском, а слюна не помещалась во рту.
– Язык не распускай, отрежут, – обрывал его Голощапов. – Чтоб я этого больше не слышал.
– Да ладно, Аркадий Ильич, тут все свои…
– Это кто тебе тут «свой», Фраерман? – серчал Аркадий Ильич. – Ты ври-ври, да не завирайся.
Голощапов не был антисемитом, но Лёнчик, конечно, считал, что был. Обидчиво сопел и уходил, насупившись. До следующего раза. Тем не менее у них сложился крепкий рабочий тандем.
И вот оно повернулось. Повернулось именно так, как предвидел Аркадий Ильич. Настало время избавиться от «марксизьма-ленинизьма» и прибрать к рукам кое-чего из барахлишка, накопленного за семьдесят с лишним лет. Спасибо партии родной за наш субботний выходной.
В начале 90-х Аркадий Ильич оперативно приватизировал свой завод, а затем начал постепенно скупать те, что не смогли удержать в руках его менее удачливые коллеги по директорскому цеху. Было несколько кровавых разборок, из которых он сумел выйти победителем. Лёнчик остался при нем. Только теперь вполне оценил, что Голощапов так и не дал ему рекомендации в партию.
Но в душе Аркадий Ильич как был, как и остался теневиком. То ли привычка слишком глубоко въелась, то ли натура такая… Да и сам период первоначального накопления с его бесшабашным пиратским духом тому способствовал.
Голощапов был родом из Мариуполя, который в советские времена называли городом Ждановым. Там он и начал делать карьеру на местном металлургическом комбинате имени того самого фанатика-сектанта, пока партия-шмартия, как выражался Лёнчик, не направила его на Урал. Но в 1995 году, когда Герман Ланге еще воевал в Чечне, Аркадий Ильич окончательно перебрался в Москву и отгрохал себе дворец на Рублевском шоссе.
Его не соблазняла публичная жизнь, он никогда не стремился в народные трибуны и не пытался баллотироваться в депутаты. Депутатов он покупал. Пачками. Надо провести законопроект? Пожалуйста. При этом многие из них даже не знали, на кого работают. Для этой цели у Голощапова имелась целая сеть посредников.
В уголовной среде ему присвоили кличку Куркуль. Что к Голощапову попало, того он уже не выпустит. Кто против него пойдет, тому не жить. Но ему не был чужд и своеобразный кодекс чести. Никого не мочил просто так, по беспределу. За верную службу вознаграждал щедро.
* * *
Германа привезли к Голощапову в офис, где Аркадий Ильич бывать не любил и бывал редко, предпочитая все дела решать дома, но по такому случаю приехал. Герман увидел перед собой бульдога. Приземистого, коротконогого, с круглыми глазами-плошками навыкате и свирепо выпирающей челюстью.
Голощапов обратился к нему сразу на «ты»:
– Вот он ты какой… Правда, что ль, разом троих положил?
– Ну, не разом… – Герман начал как будто оправдываться. – Но они ж сопляки совсем. Там делать-то было нечего, только Федю я не уберег. Кто ж знал, что у него шокер? Лучше б он мне первым под руку попал, а не тот, с пистолетом.
– Что уж теперь говорить, –философски вздохнул Голощапов. – А родственнички тебя, стало быть, достали?
«Еще убивать начнет», – мелькнуло в голове у Германа.
– Да нет, ничего страшного, – сказал он вслух. – Мне их даже жалко немного. Говорю же, сопляки. Блатной романтики захотелось… Конечно, родные в панике.
– И много они тебе посулили? – прищурился Голощапов. – Много наобещали, раз тебе их жалко?
– Мне их без денег жалко, – бесстрашно ответил Герман, – только напарника моего, Федю, мне еще жальче. Трое детей осталось…
– За детей я позабочусь. – Голощапов рассуждал в точности как та дама, мать убийцы. – За детей ты не беспокойся. А ты, стало быть, немец, – протянул он задумчиво. – Баранку крутить умеешь?
– В армии всему научат, – уклончиво ответил Герман.
– Загулы, запои?
– Не пью.
Этого Голощапов не ожидал, даже слегка растерялся.
– Как это «не пью»? Что, вообще не пьешь? Ни грамма?
– Вообще не пью, – терпеливо подтвердил Герман. – Ни грамма.
– И давно это с тобой?
– Всегда такой был.
– Ни разу в жизни? – допытывался Голощапов. – Даже не попробовал?
– Попробовал, не понравилось.
– Ну, ты даешь…
Германа охватила тоска. Сколько раз ему приходилось отвечать на те же дурацкие вопросы! И в Афганистане, и в Чечне, и в московском общежитии… Как это ты не пьешь? Уважить нас не хочешь? Мы к нему, можно сказать, всей душой, а он… не уважает… Герман так глубоко ушел в воспоминания, что не сразу услышал следующий вопрос.
– Водилой ко мне пойдешь? – спросил Голощапов.
Герман задумался. Такое предложение можно считать гигантским шагом вперед. Наверняка и деньги совсем другие… А с другой стороны, связываться с таким, как Голощапов, опасно: еще втравит в какую-нибудь уголовщину. Но до чего же надоело торчать в этом дурацком ювелирном магазине!
– Водилой, – с нажимом произнес Герман, – пойду.
Голощапов понял намек.
– Чистеньким остаться хочешь. Ладно, я на аркане не тяну. Служи верно, я в долгу не останусь. Предашь – пожалеешь.
– Сроду не предавал, – буркнул Герман.
– Вот и поглядим. Казав слипый: «Побачимо»…
* * *
У Германа началась новая жизнь. Служба была необременительна: Голощапов мало куда ездил. Чаще к нему приезжали. Иногда он просил Германа за кем-нибудь поехать и привезти в огромный, мрачный, чудовищно безвкусный дворец на Рублевке. А потом обратно отвезти. Предложил Герману переселиться к нему в дом: во дворце имелся специальный блок для обслуги.
Герман подумал-подумал… С одной стороны, соблазнительно: за квартиру платить не надо, и ты всегда на месте, под рукой. Но с другой… Вечно торчать на глазах у хозяина? Это ж никакой личной жизни! Объект практически режимный, чтоб кого в гости пригласить, надо пропуск выписывать. Он вежливо отказался.
– Что? Думаешь, не дам баб водить? – нехорошо засмеялся Голощапов.
Помимо баб, были у Германа и другие соображения. Ему не хотелось даже чисто случайно стать свидетелем какой-нибудь разборки с кровопролитием. Вряд ли Голощапов будет убивать там, где живет, но… черт его знает.
– Просто не хочу быть приживалом, – ответил Герман.
– На Лёнчика намекаешь?
В лице Леонида Яковлевича Фраермана, которого Голощапов называл в глаза и при посторонних просто Лёнчиком, Герман с первой встречи нажил врага. Он ничего такого не делал, это получилось само собой.
– Вы не родственник писателю Фраерману? – спросил он, когда их представили друг другу.
– Нет, – сухо обронил Лёнчик, и Герман сразу же ощутил враждебность.
Казалось бы: что тут такого? Хороший писатель, автор повести «Дикая собака динго», бестселлера, можно сказать. Но Лёнчика этот вопрос почему-то обидел, и все их дальнейшие отношения стали складываться под знаком той первой обиды.
Что это было? Ревность к новому человеку, вдруг откуда ни возьмись получившему доступ к телу любимого начальника? Инстинктивное предубеждение еврея против немца? Зависть очкастого хлюпика к атлету?
Герман ломал голову, но ответа не находил. Внешне Фраерман держался нейтрально, даже приветливо, но Герман чувствовал исходящую от него волну неприязни и на всякий случай был всегда настороже. Когда Фраерман посылал его куда-нибудь с поручением, старался как бы ненароком переспросить у Голощапова, вправду ли надо туда ехать. Глупо, конечно: не стал бы Фраерман подставляться по мелочи, тем более что существовал регистрационный журнал, куда все записывалось, но у Германа было остро развито чувство опасности, он предпочитал не рисковать. Перезванивал Голощапову вроде бы уточнить, что ехать нужно тогда-то и тогда-то, по такому-то адресу.
Фраерман жил в поместье Голощапова, в отдельном роскошном коттедже на территории.
– Ни на кого я не намекаю, – нахмурился Герман. – Просто хочу быть сам по себе.
– Ну, смотри, дело твое.
Новая зарплата была так велика, что Герман снял квартиру получше и место выбрал поудобнее. Хотел купить машину, но Голощапов ему выделил из своего огромного парка машину в личное пользование. И бензин оплачивал, и сотовый телефон. Герман начал всерьез откладывать деньги на покупку квартиры.
Водить представительский «Мерседес» – это было откровение. Герман, привыкший совсем к другим условиям, упивался ощущением роскоши и комфорта. Автомобиль был буквально нашпигован устройствами для удобства водителя. Герман даже спрашивал себя: что же в этой чудо-машине предназначено для пассажиров? Выходило, что только одно: безопасность. Бронированный автомобиль мог выдержать прямое попадание из гранатомета. Бензину, правда, жрал много, но это уже не Германова забота.
Злосчастных грабителей ювелирного магазина судили. К счастью, удалось убедить Голощапова, что нелепая попытка ограбления не направлена против него лично: глупые сопляки присмотрели «объект» совершенно случайно, даже не подозревая, кому он принадлежит. Убийца Коваленка со скидкой на молодость и отсутствие прежних судимостей получил восемь с половиной лет строгого режима, тот, что был с пистолетом, – шесть, шофер – пять. Голощапов, как и следовало ожидать, остался недоволен, ему все было мало, но – насколько было известно Герману – никого «мочить» не стал. Так прошел 1997 год.
В феврале 1998-го состоялась одна знаменательная встреча, опять круто изменившая жизнь Германа Ланге. Голощапов попросил отвезти его с Рублевки в офис на Кутузовском. Герман отвез. Пробыв на работе часа полтора, Аркадий Ильич вышел с каким-то типом, который сразу не понравился Герману, сел вместе с ним в машину и велел ехать в некую контору на Профсоюзной. Герман по контексту понял, что в контору на Профсоюзной нужно именно этому типу, а Голощапов просто оказывает ему любезность. Тип подъехал на такси незадолго до того, как они с Голощаповым вышли вместе. Это Герман видел собственными глазами.
Делать нечего, пришлось тащиться с двумя машинами охраны на Профсоюзную. По разговору в салоне бронированного «Мерседеса» Герман догадался, что встреча была назначена, но неприятный тип – суетливый, жуликоватый даже на вид, с полуопущенным левым веком – опоздал. Рассыпаясь в извинениях, он раз двадцать повторил, что ему пришлось срочно отогнать машину на сервис: клапанаЂ у него, видите ли, полетели.
Он обременял собеседника массой никому не интересных деталей, говорил, что знает «золотого механика» и может порекомендовать его Голощапову. Голощапов что-то невразумительно хмыкал в ответ.
Герман неодобрительно поглядывал на нежданного гостя в зеркало заднего вида, пока пробивался, поминутно застревая в пробках, с Кутузовского проспекта на Профсоюзную. Отызвинявшись, тип с полуопущенным веком завел речь, заставившую Германа еще больше насторожиться.