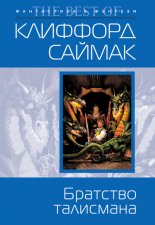Случай Растиньяка Миронова Наталья
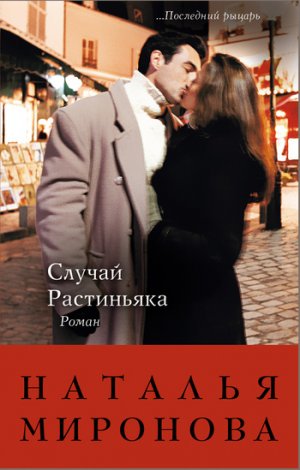
– Да не парься, – ответила его нежная и трепетная невеста. – На кой он мне сдался, этот театр?! Мне папа уже все сказал. Ладно, можешь предлагать, я согласна. Ты мне лучше кольцо купи.
– Давайте съездим вместе, – предложил Герман. – Выберите, что понравится. Я ж ваших вкусов не знаю.
На самом деле он имел довольно четкое представление о ее вкусах. У Изольды от колец пальцы вместе не сходились, торчали врастопырку. Но она обрадовалась предлогу получить еще одно кольцо. Тем более обручальное! Они поехали в тот же заветный магазинчик на Тверской, только теперь их обоих вез другой шофер.
Герман даже сравнил впечатление: каково это, когда не ты везешь, а тебя везут? И понял, что хочет за руль. Он мысленно выполнял за шофера все маневры и измучился так, будто всю дорогу волок машину на себе. Но главное ему еще предстояло.
В магазине Изольда перемерила с десяток колец и выбрала солитер в шесть карат – настоящий прожектор. Герману пришлось выложить за этот кусок углерода чуть ли не все свои сбережения.
Изольде, конечно, хотелось устроить пышную свадьбу в ресторане, но по зрелом размышлении от этой мысли пришлось отказаться. Всю жизнь она мечтала, как выйдет замуж, выведет мужа куда-нибудь в гости, чтоб все видели: есть у нее и муж, и кольцо на пальце, и вообще, слава богу, в хозяйстве полный порядок.
Только вот… кого звать? Изольда давно растеряла связи с одноклассниками, оставшимися на Урале, да и не дружила ни с кем из них, по большому счету. Может, кто-то и перебрался в Москву, но где их сейчас искать? С однокурсницами рассталась так, что их не пригласишь. Звать сослуживцев из отцовской фирмы? Тоже не годится. Они знают, что Герман был охранником, а потом шофером у отца. Еще посмеются над ней. Будут потом шептаться, что папа купил ей мужа.
Можно устроить громкое мероприятие, пригласить отцовских знакомых, таких же богачей, как он сам, созвать гламурных звезд эстрады… Но отцовские знакомые, напившись, напозволяют себе такого, что еще, не дай бог, кончится стрельбой, а к эстраде и гламуру отец совершенно равнодушен. Да и сама Изольда, выходя замуж, не ощущала в душе никакого особого торжества.
Поэтому свадьбу сыграли скромно. Кроме отца невесты и Лёнчика с женой, приглашенных свидетелями, никого не было. Ресторан заказывать не стали, посидели дома. И подвенечного наряда у невесты не было. Смешно идти к венцу в белом платье с фатой, когда тебе тридцать восемь лет, росту в тебе – сто пятьдесят восемь сантиметров, а весу… Изольда даже вспоминать не хотела, сколько в ней весу. Что на ноги поставить – что набок положить, один черт, поперек себя шире. Она нарядилась в один из своих фирменных костюмов. Нарочно выбрала черный: мои похороны.
Поэтому посидели тихо, как на поминках. Жених отмалчивался и пил только воду, отец новобрачной, привычно махнув водки, произнес тост:
– Ну, щоб вы жили и я нэ вмэр.
Вот и вся свадьба.
Сама Изольда ни на секунду не забывала, что папа купил ей мужа, и Герману не давала забыть. Вышла замуж – а гордиться нечем. Да и не перед кем.
Глава 9
Первая брачная ночь обернулась катастрофой. Тот самый классический случай из анекдота, когда верхи не могут, а низы не хотят. У Германа не вставало, а Изольда, несмотря на бурлившие в душе страсти, была не только фригидна, но и брезглива до истерики. Секс в ее понимании сводился к примитивному половому акту, ни о какой стимуляции или предварительных ласках она слышать не хотела, считая, что это стыдно и неприлично.
Герман пытался вызвать в душе хоть жалость к ней, а Изольда не понимала, в чем трудности. Только под утро ему удалось наконец лишить ее девственности. Процедура показалась болезненной и неприятной обоим. Изольда категорически не соглашалась на позицию сзади, считая это извращением. В результате ни муж, ни жена не получили удовольствия.
– Ничего, – утешал ее Герман, – в первый раз всегда так бывает. Поболит и пройдет. В следующий раз будет лучше.
– В следующий раз?! – взвизгнула Изольда. – Не будет никакого раза. Чтоб я еще раз стала все это терпеть?! Я замуж вышла, все уже знаю, хватит с меня.
Сколько Герман ни пытался ее вразумить, растолковать, что все не так плохо, что ей понравится, Изольда слышать ничего не желала.
– Это моя спальня, убирайся, я спать хочу!
И она принялась брыкаться, выталкивая его из постели ногами.
Герман встал, взял свою подушку и ушел в кабинет. Лег на диван, укрылся ворсистым кусачим пледом… Голощапов выделил молодым апартаменты с отдельным входом в своем дворце. Герману не хотелось жить в примаках у тестя, но Изольда не соглашалась ни на какой другой вариант. И вот, получается, комнат много, а ночевать негде. Второй спальни нет. На диване неудобно, Герман продавливал подушки своим есом, они разъезжались под ним.
На душе муторно и тяжко. В голову лезут нехорошие мысли, предчувствия… Что уж теперь поделаешь… Взялся за гуж… «Взялся за гуж, не говори, что не муж», – пришел каламбур на ум Герману. Надо будет поставить здесь нормальную кровать. Может, оно и к лучшему, что она не хочет жить супружеской жизнью. Может, и к лучшему, что настояла на жизни в этой фараоновой гробнице. Пусть будет у отца под боком. А он снимет себе квартиру где-нибудь в городе… «Зачем снимать, ты можешь купить квартиру, – напомнил себе Герман. – Завтра же, нет, уже сегодня надо будет что-нибудь присмотреть. У Голощапова есть квартира в городе и отдельный загородный дом имеется, дача в Одинцове, он ездит туда, как сам говорит, «на блядки». Вот и я буду ездить. А здесь кровать поставлю».
Он встал мрачный, невыспавшийся и с воспаленными от бессонницы глазами пришел завтракать в большую столовую. Голощапов уже сидел за столом. Он по-мужски подмигнул Герману: мол, знаем-понимаем, как вы там в сене кувыркались! Пришлось вымучивать из себя улыбку мужской солидарности. Потом появилась Изольда в необъятном шелковом халате с восточным рисунком.
– Ну как ты, донечка? – участливо спросил Голощапов.
– Я? – Изольда дернула плечом. – Нормально.
От свадебного путешествия она тоже загодя отказалась, и Герман был этому несказанно рад.
Он заказал себе кровать в кабинет, такую, как ему нравилось: полуторную, с упругим беспружинным матрацем. Когда кровать доставили, Голощапов потребовал объяснений.
– Муж и жена должны вместе спать! – протестовал он.
– Я храплю, – солгал Герман. – Изольде спать не даю.
Он помолчал, выжидая: не скажет ли что-нибудь Изольда? Не сказала ничего, и у Германа отлегло от сердца. А Голощапов удовлетворился услышанным и больше не приставал.
Жизнь пошла своим чередом. Герман для очистки совести сделал еще несколько попыток наладить семейные отношения, но, получив отпор, успокоился и сказал себе, что его совесть чиста. Он с головой ушел в работу: предстояло выводить из тени фирму Голощапова.
Только Изольда никак не могла успокоиться. Она тоже была акционером корпорации АИГ, заседала в совете директоров и не упускала случая хоть в чем-нибудь досадить мужу. Раньше она всегда собачилась с Лёнчиком, а теперь вступила в коалицию и стала с ним дружить против Германа. Голощапов только руками разводил. Но поскольку решающее слово было за тестем, Герману обычно удавалось одержать верх над Изольдой и Лёнчиком. Его жизнь была бы неизмеримо легче без этой джимханы [4], но… кто сказал, что должно быть легко? «Взялся за гуж…» – с усмешкой повторял себе Герман.
Что собой представляет его жена, он вполне уяснил через пару месяцев после первой брачной ночи. Им предстояло вместе с Голощаповым ехать в «Президент-отель» на прием по случаю съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, но Изольде вдруг стало плохо. Нет, не вдруг. С утра она, ничего не объясняя, куда-то уехала на целый день, вернулась только к вечеру. Герман заметил, что она бледна и передвигается с трудом. А теперь, перед самым выходом, увидел, что за ней тянется по полу кровяная дорожка.
Он схватил ее за плечи.
– Что ты сделала? Где ты была?
Изольда попыталась высвободиться.
– Отстань, мне и без тебя тошно. Ты что, не видишь, у меня кровь идет?
– Вижу. – Герман уже задыхался от ненависти. – Аборт сделала, да? Убила моего ребенка, да? Отвечай!
Ему хотелось наподдать ей хорошенько, душу из нее вытряхнуть вместе с ответом.
– Ну, во-первых, это был мой ребенок. Мне он не нужен. И вообще, отстань от меня!
Опять она попыталась вырваться, но Герман держал ее крепко. И тогда Изольда закричала что было мочи. На крик прибежал Голощапов. Он уже был на подходе, собирался их поторопить, а услышав вопль дочери, опрометью кинулся на помощь.
– Ты что делаешь? А ну-ка пусти ее!
Герман разжал руки и повернулся к тестю.
– Она убила моего ребенка.
– Ты что несешь? – И тут Голощапов увидел кровь. – Доню? – От волнения он перешел на украинский. – Ты що зробыла? Що ты зробыла, бисово дитя?
– Оставьте меня в покое. Мне плохо, мне в больницу нужно. Папа, ты что, не видишь, мне плохо?
Бедному Голощапову тоже стало плохо. Он беспомощно плюхнулся на диван, шепча что-то невнятное, дернул и разорвал на шее воротник парадной белой рубашки. Окаменевший Герман, двигаясь как автомат, вызвал «Скорую» и подал тестю стакан воды.
– Що ты зробыла? – повторил Аркадий Ильич, напившись воды. – Почто дитину убила, чортиха?
– А ты хотел, чтоб я урода родила? Чтоб он мучился, как я мучаюсь? Мне это не нужно. А ты, сволочь, промолчать не мог, – обратилась она к Герману.
Голощапов слабо отмахнулся от нее и уронил руку. И Герман промолчал. Говорить было не о чем. На банкет так и не поехали. Не до банкета было.
С Изольдой обошлось. Ее положили в больницу, кровотечение остановили, последствия неудачного аборта ликвидировали, но врачи сказали, что она больше не сможет иметь детей. Голощапову пришлось смириться с тем, что у него никогда не будет внуков. После этого случая он крепко сблизился с зятем и отдалился от дочери. А Герман со временем начал понимать, что, пожалуй, и впрямь лучше обойтись без ребенка, который связал бы его с Изольдой навсегда.
Но Голощапов попросил Германа не разводиться.
– Ты… это… Я тебя понимаю, но и ты меня пойми: все ж таки она мне дочь. Знаю, девка злая, бедовая, но что уж тут поделаешь? Больная на всю голову. Психованная. Вскрывалась… в школе еще.
– Вскрывалась? – не понял Герман.
– Вены резала, дурища, – хмуро пояснил Голощапов. – Только смотри: никому.
– Аркадий Ильич, – осторожно спросил Герман, – а вы не хотите показать ее психиатру?
– Чего? – в свою очередь не понял Голощапов. – Чтоб я родную дочь в дурку сдал?
– Да нет, я просто подумал, что можно было бы показать ее хорошему доктору… частным образом… Я знаю одного хорошего врача… женщину…
По лицу Голощапова Герман догадался, что все бесполезно, и замолчал.
Если бы он тогда развелся, его жизнь пошла бы совсем по-другому. Но он решил до поры до времени не разводиться. Все-таки работать легче, когда за спиной у тебя стоит могучий тесть. Да и гарантия какая-никакая, что уж родного-то зятя он не пошлет на мокрое и не подведет под статью.
Голощапов сдержал слово и помог перевезти в Россию родителей Германа – ради чего все и затевалось.
Герман подыскал для них заброшенную усадьбу, правда, не на Волге, а на Оке, под Тарусой, с одичавшим яблоневым садом. Ему не хотелось селить родителей слишком далеко, вот и нашел он дом в ста тридцати километрах от Москвы. Полтора часа езды по приличной дороге. Созвонился с родителями, и они согласились поселиться на Оке.
Герман слетал в Казахстан, сам их перевез. Продал за гроши их домик, «Жигули» подарил соседям. Пришлось задержаться на неделю, добывать санитарные сертификаты на черенки и саженцы яблоневых деревьев, которые Густав Теодорович, отец Германа, хотел вывезти из Казахстана, заверять у нотариуса переводы на русский, ставить апостили. Отца Герман в шутку называл Джонни Яблочное Семечко [5].
Несмотря на сертификаты с апостилями, на таможне в Москве вышла, как стали выражаться в последнее время, «засада». Молодой, но располневший таможенник почуял наживу и потребовал санитарной проверки на месте.
– Вот вызовем санэпидслужбу, – говорил он злорадно, – они проверят, возьмут пробы на анализ. Дадут заключение, тогда посмотрим.
Герман прекрасно понял, что на самом деле этот мордатый жулик просто вымогает взятку, доводит «клиента» до кондиции. У него всколыхнулось в душе нехорошее воспоминание.
Это случилось вскоре после того, как он поступил на работу в охранное агентство, еще до назначения в ювелирный магазин. Обычно Герман передвигался по городу на метро, но однажды ему поручили перевезти с объекта в банк некую сумму денег, а казенная машина сломалась. Сумма была не столь велика, чтобы вызывать икассаторов. Пришлось ловить такси.
Прежних желтовато-зеленых такси марки «Волга», которые Герман видел в 1985 году, когда так неудачно сдавал экзамены на мехмат МГУ, в Москве не осталось, они куда-то канули в одночасье. На его «голосование» остановилась японская машина лиловато-розового цвета с металлическим отблеском, похожая на обсосанный леденец. Сам Герман не сел бы в такую даже под дулом пистолета, но выбирать не приходилось: деньги-то везти надо. Он повез.
Шофер оказался говоруном.
– Немец? – спросил он, бросив взгляд на Германа.
– Немец, – подтвердил Герман.
– Ох, как мы ваших бомбили! Да не в войну, – добавил шофер добродушно. – В девяносто первом, когда ваши из Казахстана к бундесам ломанулись, мы их лущили, как горох. – Он даже причмокнул от удовольствия. – Они прилетают-то – слышь? – в Домодедово, а улетать им из Шереметьева. А тут мы. Деться им некуда, мы по три тыщи баксов с рейса лупили, прикинь?
Герман промолчал. Шофер, упоенный приятными воспоминаниями, продолжал разливаться соловьем. Он не сомневался, что пассажир его поймет и поддержит. А что такого? Всем жить надо! У них денег куры не клюют, а нам на водку не хватает. Такова была его нехитрая философия.
До чего же хотелось его убить!.. Вот просто взять и убить. Это было бы так просто! Один хороший удар, и конец. Но Герман удержался. Ему пришла в голову другая идея. Он специально попросил остановиться в неположенном месте, заранее отстегнулся и, когда водитель притормозил, выскользнул из машины.
– Эй, а за проезд? – закричал шофер.
– Ты с моих земляков все слупил в девяносто первом, – сказал ему Герман. – Считай, они за меня расплатились.
Шофер выскочил из машины с монтировкой.
– Ах ты, сволочь фашистская…
– Ну давай, замахнись. Доставь мне удовольствие, – подзудил его Герман, обнажая зубы в ухмылке, похожей на оскал мастифа. – Тут, между прочим, стоять нельзя.
К ним уже спешил милиционер.
– Вот, товарищ постовой, клиент платить не хочет, – пожаловался водитель.
– А у тебя патент на извоз есть? Налоги платишь? – спросил Герман.
Он многозначительно переглянулся с инспектором ДПС – тот его прекрасно понял – и пошел сдавать деньги в банк. Шел не спеша, прислушиваясь к воплям за спиной: «Командир! Разберемся!» На душе стало чуточку легче.
И вот теперь он смотрел в лицо жлобу, вздумавшему точно так же обобрать не абстрактных земляков, а его родителей.
Густав Теодорович взглянул на сына виновато. Луизе Эрнестовне тяжело было стоять, она устала, Герман видел по лицу.
– Позвольте мне отвести мать в машину, – попросил он.
– Нельзя! – надулся таможенник. – Вы в красном коридоре!
– У нее один чемодан, – настаивал Герман. – Проверьте и отпустите.
Но таможенник уперся – и ни в какую.
– Вот сейчас вызовем СЭС, возьмем пробы, составим протокол…
– Сколько? – спросил Герман.
– Ну… – таможенник воровато огляделся, – уж штуки три баксов мог бы отстегнуть за эти веники…
«И такса не изменилась с девяносто первого года», – с горькой усмешкой подумал Герман.
Таможенник не заметил, что их разговор записан на диктофон. Герман позвонил Голощапову.
– Аркадий Ильич? Мы прилетели, но нас тут таможня тормозит, нельзя ли протолкнуть? Кто тормозит? – Герман бросил взгляд на бейджик с именем, приколотый к груди побагровевшего таможенника. – Некто Клевцов.
Таможенник разразился руганью. Сам того не подозревая, он полностью повторял репертуар таксиста:
– Ах ты, фашистская свинья…
– Говори, говори, – хладнокровно кивнул Герман. – Я записываю.
И он помахал мобильником, в который был встроен диктофон, перед носом Клевцова.
К ним устремился начальник смены, которому успел перезвонить кто-то от Голощапова. Начальником смены оказалась женщина. Она дробно цокала каблучками по каменному полу, словно из пулемета строчила.
– Пропусти их, – приказала она Клевцову и просительно повернулась к Герману: – Мужчина-а-а-а… Мужчина-а-а-а, вы в суд подавать не будете? – В ее голосе зазвучала мольба.
– Не буду, – улыбнулся Герман. – Пусть живет.
Некто Клевцов, тяжело сопя, шлепнул печати на выданные в Казахстане санитарные сертификаты. Герман гордо провел родителей мимо частников-таксистов, предлагавших свои услуги. За спиной раздавался голос начальницы смены:
– Идиот! Ты что, не видел, они из вип-зала? Мне из Думы звонили!
– Я думал, «солидный» клиент… – оправдывался Клевцов.
Дальнейшего Герман уже не слышал. Он вывел родителей из здания аэропорта, усадил в большой джип, погрузил их пожитки и повез в дом под Тарусой.
Голощапов проявил широту души: оплатил и ремонт, и подвод коммуникаций, и переезд, и гражданство, сделанное подручными депутатами, как из пушки. Родителям Германа дом понравился. Луиза Эрнестовна даже прослезилась, увидев, что Герман пристроил небольшой легкий лифт: не хотел, чтобы она поднималась на второй этаж по лестнице.
– Ты обо всем подумал, Knirps [6], ничего не упустил, – растроганно проговорила она, называя сына старым детским прозвищем.
Герман улыбнулся в ответ. Это была их семейная шутка – называть его Малышом.
Он нашел родителям прислугу: пошел в Тарусе в церковь и спросил у богомолок на паперти, кто хочет за хорошие деньги поработать за городом – готовить и убирать в доме. Вызвалось несколько женщин, и Герман выбрал одну. У нее муж был одноногий, но подвижный и бойкий инвалид, разъезжавший на «Оке» с ручным управлением. Ему нужны были деньги на новую машину, он взялся возить жену туда и обратно, даже предложил Густаву Теодоровичу свою помощь в уходе за механизмами и инвентарем. Герман нанял и его тоже.
Убедившись, что родители хорошо устроены и все с ними будет в порядке, Герман вернулся в дом Голощапова. Он часто навещал родителей, старался вырваться к ним на выходные, возил мать в Москву по врачам. Но о своей женитьбе не сказал им ни слова.
Насчет денежного курса Герман оказался прав. Голощапов последовал его советам и обогатился. Впервые в жизни с легким сердцем и даже со злорадным удовольствием вернул взятые в кредит деньги: к 1999 году курс рубля упал втрое. Герман начал готовить фирму к постепенному выходу из тени.
Голощапов привязался к Герману. По вечерам часто звал «посидеть» в кабинете. Правда, его раздражало, что Герман упорно отказывается с ним выпить, но тут уж Аркадию Ильичу пришлось смириться. Не признавая никаких «виски-шмиски», как сказал бы Лёнчик, он наливал себе водочки и спрашивал:
– Как думаешь, Дед уйдет?
«Дедом» называли президента Ельцина.
– Уйдет, – отвечал Герман.
– Думаешь? – с сомнением переспрашивал Голощапов. – Да никогда он не уйдет! Мыслимое ли дело – от такой власти уйти?
– Он сам не раз говорил… – начал было Герман.
– Наплевать и растереть, – отмел его возражения Голощапов.
– Он проиграл дело в Конституционном суде, – не сдавался Герман.
– Какое дело?
– Ну как же, коммунисты подали запрос, имеет ли он право на новый срок, – напомнил Герман. – Суд решил, что нет. Между прочим, мог бы и выиграть, у его адвокатов была сильная позиция. В первый раз он избирался в другой стране – ее больше нет. По другому закону – он больше не действует. Значит, первый срок не считается. Но они проиграли. Он проиграл. Он уйдет.
– Он уже раз положил с прибором на этом суд. И опять положит.
– Посмотрим. – Герману надоел этот спор. – Как вы говорите про слепого? «Побачимо».
И в этот раз Герман оказался прав. Дед ушел, в России настали новые времена.
Герман упорно работал, преодолевая яростное сопротивление Лёнчика и Изольды. Он создал в рамках корпорации АИГ новую компанию, занимающуюся телекоммуникациями, – деловую, чистую, не запятнанную кровавыми разборками. Начал постепенно переводить всех служащих корпорации и заводских рабочих на «белую» зарплату. Правда, сделать ее стопроцентно «белой» не удалось. Начет на фонд зарплаты был такой, что налог получался больше прибыли. Но Герман сделал все, чт мог.
– Ты пойми, – втолковывал ему Голощапов, – у нас совсем вбелую работать нельзя. Ну куда я без неучтенки? Меня конкуренты сожрут. Они-то неучтенку валом гонят. Как я этим засранцам взятки платить буду, если левую партию металла не толкну? А до взяток они охочи, сам знаешь. Не-е-ет, пусть сперва все будут честными, тогда и я буду.
Герман считал, что в этом и есть главная беда России: каждый ждет, когда все будут честными. Как разорвать этот порочный круг, он не знал. А главное, убедился, что тесть прав. На заводах у Голощапова обстановка была куда лучше, чем у других. И платили прилично, и травматизма меньше. Аркадий Ильич никогда не отказывал людям в помощи, если те и вправду нуждались, давал больным детям денег на лечение за границей, щедро подбрасывал рабочим премиальные из своих тайных загашников, ипотечный фонд учредил, чтобы люди могли жилищные условия улучшать. Его называли отцом родным.
И еще одну важную вещь Герман для себя уяснил: налоговые инспектора терпеть не могут «чистеньких» и лучше поперек них не идти.
Но он чувствовал веяние времени и помог тестю избежать многих ловушек, в которые попались незадачливые и чересчур жадные конкуренты.
Голощапов поражался его прозорливости, а Герман в ответ лишь пожимал плечами. Лет через пять он сумел утроить прибыли корпорации. Преуспел бы еще больше, если бы не Изольда: для нее противодействие мужу стало делом принципа, даже навязчивой идеей. Все ей казалось, что с ней не считаются, ее не уважают, ее мнение игнорируют… Герман не жаловался на нее отцу. Многие ее промахи Голощапов сам видел, но терпел. Сокрушенно качал головой, но… куда ж денешься? Все-таки доня родная.
Продукт новой компании Германа – сотовую связь и провайдерские услуги – Голощапов тоже начал внедрять в принудительном порядке на всех принадлежащих ему предприятиях. Ну, это еще куда ни шло. Но он настаивал, чтобы люди, жители моногородов, возведенных вокруг этих предприятий, тоже пользовались услугами Германовой компании. А чего стесняться? Все свои. Пусть подключаются. Пусть увеличивают оборот.
Сколько Герман ни просил не давить на людей гангстерскими методами, сколько ни старался объяснить, что должна быть конкуренция, что клиенты имеют право сами выбирать себе провайдера, Голощапов его решительно не понимал. А что такого? Да они за счастье почтут! Еще спасибо скажут! Переспорить его было невозможно.
У них с Германом сложились странные отношения. Вроде бы ругаются на каждом шагу, а один без другого никуда. Перешли на «ты», хотя Герман по-прежнему звал тестя по имени-отчеству. С родителями не познакомил, сразу дал понять, что это его особая, отдельная жизнь, к работе и жизни в голощаповских хоромах на Рублевке отношения не имеющая.
Но он полюбопытствовал насчет АИГ. Голощапов, смущенно хмыкнув, признал, что есть такое дело: хотелось ему оставить в деле свои инициалы. Чтобы все знали, даже те, кто понятия не имеет, что такое АИГ: его компания, он ее создал, а советская власть тут вовсе ни при чем. Герман лишь пожал плечами.
Он отказался от зарплаты и стал получать в корпорации АИГ долю прибыли. Завел себе отдельный счет и вообще отдельную бухгалтерию для коммуникационной компании. На этот счет не раз покушались, и Герман хорошо знал, кто предпринимает такие попытки.
Но ему повезло: в начале двухтысячных он познакомился с Никитой Скалоном, владельцем «РосИнтел», самой известной, самой крупной в России коммуникационной компании, и они неожиданно подружились. Узнав о Германовых трудностях, Никита порекомендовал ему своего чудо-компьютерщика. Пришел к Герману рыжий вихрастый пацан с горящими глазами, на вид совсем еще школьник, и представился Даней Ямпольским.
– Скажите, а Софья Михайловна Ямпольская вам не родственница? – спросил Герман.
– Это моя бабушка! – заявил мальчик с такой любовью, с такой гордостью, что Герман сразу проникся к нему симпатией. – А вы ее откуда знаете?
– Мы с ней встречались… Она мне помогла, – замялся Герман. – Нет, не думайте, я не псих.
– Я не думаю, – весело успокоил его Даня. – Так, а в чем проблема?
Герман изложил проблему.
– Есть у меня одна прога… программа, – тут же добавил Даня. – Система защиты. Я ее недавно сварганил. Непрошибаемая стопудово, с гарантией. Эта детка вирусами пуляется, понимаете? Как айпишник незареген только полезь, и сразу – бэмс! – получи, фашист, гранату.
Из сказанного Даней Герман уловил процентов тридцать, но согласился на «детку». «Детка» – он так и стал мысленно ее называть – была настолько сложной, что Герман лишь смутно представлял себе, как она работает. Но она работала. Ее не только невозможно было «расколоть», адресатам, пытающимся войти в систему незаконно, то есть с чужого, «незарегенного», как говорил Даня, «айпишника», она подсовывала программы, зараженные вирусом. Загружалась, правда, долго, но Герман решил, что дело того стоит.
Он замкнул все финансовые потоки на себя, чтобы ни у кого из служащих не появился соблазн продать «айпишник», то есть код регистрации компьютера в Сети, за деньги или уступить давлению. Зная, что система долго загружается, он выработал у себя привычку, входя в кабинет, первым долгом включать компьютер, а потом уже снимать пальто, просматривать газеты и так далее. «Детка» меж тем загружалась с негромким урчанием. Все были довольны: и Даня, которому он щедро заплатил, и «детка», и сам Герман.
Давно уже пора было уйти от Голощапова, но он все медлил. Привязался к Аркадию Ильичу, несколько раз удерживал его от опрометчивых шагов с кровопролитием. К тому же Герман понимал, что, уходя, надо будет оставить коммуникационную компанию Голощапову: все-таки она была создана на деньги тестя.
Герману никогда не нравилась повесть Гоголя «Тарас Бульба», не нравился ее герой. Душа не принимала такого поворота событий. Загубить и себя, и товарищей, загубить весь отряд ради табачной трубки? Автору это казалось особой казацкой доблестью, этаким мужчинством, Герману – несусветной глупостью и прямым преступлением. Но когда речь зашла о коммуникационной компании, его детище, с ним произошла аберрация сознания. Сам того не замечая, он стал рассуждать в точности как Тарас Бульба: не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!
Он мог бы уйти, забрав с собой только заработанную в корпорации Голощапова деловую репутацию, и его мигом взяли бы на работу куда угодно. С руками бы оторвали. Но Герман решил забрать и коммуникационную компанию. Выкупить ее у Голощапова. Да и вообще деньги, затраченные на него Голощаповым, хотелось вернуть.
Очень дорого стоила отцовская яблочная усадьба. Часть деревьев пришлось вырубить: они выродились и уже никуда не годились. На их место Густав Теодорович сажал новые. Герман не хотел, чтобы отец сам копал землю лопатой. Нанятый ему в подмогу инвалид – уж на что рукастый! – тоже не справлялся. Пришлось взять рабочих.
Оставшиеся деревья отец окучивал, окуривал, опылял, прививал, черенковал… Копулировка, подвой, привой… Только на третий год яблони начали плодоносить, а на четвертый уродило так, что количество рабочих пришлось удвоить да еще и сторожа нанять. И встал вопрос: что со всем этим богатством делать?
Герман подошел к вопросу по-деловому: часть яблок сдал в заготконтору в Тарусе, часть продал на рынках, самые лучшие, отборные плоды предложил московским ресторанам. Многие взяли, но пришлось нанимать еще людей – сортировщиков, упаковщиков, перевозчиков, посредников… Не самому же на рынке торговать! Деньги приходилось вкладывать немалые.
У Германа все шло в дело. С согласия отца он установил в усадьбе пятидесятилитровые сифоны для яблочного сидра и его тоже продавал. Даже вырубленные яблони продал на дрова любителям загородных домов с каминами: яблоневая древесина считалась изысканным топливом, придающим дыму приятный аромат. Но в целом яблочное увлечение не окупалось, а у Германа духу не хватало сказать об этом отцу. Он учредил в Тарусе еще одну фирму, заведомо убыточную, для торговли яблоками, и начал списывать на нее долги своей коммуникационной компании.
Было еще одно соображение, заставлявшее его медлить: очень хотелось раузнать хоть что-нибудь о Ширвани Вахаеве. Разумеется, Герман больше не пытался поговорить с Изольдой или с Лёнчиком, хотя с последним сохранил внешне нейтральные отношения. Но он попробовал осторожно расспросить самого Голощапова. Аркадий Ильич сказал, что такого не знает. Герман ему не поверил.
Новости стали приходить с чеченских фронтов. Седьмого августа 1999 года началась вторая чеченская кампания. Германа пригласили в военкомат, предложили сразу полковничьи погоны, если он вернется в действующую армию. Герман отказался. Может быть, если бы он согласился, это помогло бы ему вовремя расстаться с Голощаповым? Но в тот момент Герман не считал, что это вовремя. Он только входил в дело, отцу приходилось помогать…
У него было много друзей в армии, правду он узнавал от них. В 1999-м Ширвани Вахаев принимал участие в походе на Дагестан. В феврале 2000-го, при выходе частей сепаратистов из Грозного, федеральные войска загнали их на минное поле. Вахаев подорвался в числе многих, потерял ногу, но, как и его командир Басаев, выжил, хотя и вышел из того боя «в сильно искаженном виде». А вот в 1998-м, задним числом установил Герман, Ширвани Вахаев был в Москве. Он так и не выбился в лидеры, так и остался рядовым боевиком. Значит, мог присутствовать на той деловой встрече в «Славянском базаре», решил Герман, хотя бы простым охранником. А Изольда с Лёнчиком могли и не знать его по имени. Но Герман почему-то им не верил.
Изольду он старательно избегал. В особняке Голощапова ночевал в кабинете, где поставил себе кровать. Вообще Герман старался бывать в этом особняке как можно реже. Тут все было устроено по вкусу Изольды: многофигурное панно в древнеегипетском духе («Придумают же такую хрень!» – ворчал Голощапов), слащавые портреты кисти известнейшего из подражателей, мещански роскошная мебель с завитушками и тому подобное. Кстати, злорадно отметил про себя Герман, Изольда почему-то не заказывала известнейшему из подражателей своих портретов.
На работе приходилось с ней сталкиваться, но только в официальной обстановке, при свидетелях, причем Изольда первая начала обращаться к нему в третьем лице: «Господину гендиректору должно быть известно…» – и так далее. Герман лишь последовал ее примеру, причем у него выходило гораздо органичнее.
Глава 10
Так прошли годы, промелькнули незаметно. Десять лет спустя, опять, как в 1998-м, ударил кризис. Теперь уже так просто не уйдешь, не устроишься на другую работу на одной только репутации. Топ-менеджерам режут бонусы, многие компании разваливаются, другие с трудом держатся на плаву. Даже империя Голощапова зашаталась, он смотрит на Германа как на спасителя.
Как и все олигархи, Голощапов хранил излишки в офшорах, а с 2003 года начал с помощью Германа потихоньку перекачивать за границу основные активы – неслыханная для Голощапова вещь. Никаких заграниц Аркадий Ильич сроду не признавал, ему и здесь всегда было хорошо. А тут попросил Германа присмотреть недвижимость где-нибудь. Герман присмотрел ему поместье на юге Франции. Голощапов остался недоволен.
– Тьфу, не люблю лягушатников! Мне тоже прикажешь лягух жрать?
Герман, как мог, успокоил тестя.
– В Испании опасно. Там есть такой вредный судья – Бальтасар Гарсон, – он и посадить может, и в Россию выдать. В Англии климат плохой. А у Франции с Россией договора о выдаче нет, место хорошее, солнечное, есть лягушек никто не заставляет, во Франции и другой жратвы полно.
Аркадий Ильич поворчал-поворчал да и согласился. Но за Германа стал цепляться с удвоенной силой, как испуганный ребенок. Чуть что приговаривал: «Ты меня не бросай…»
Нет, нельзя сейчас уходить.
Зато Герман купил себе квартиру в Москве – задолго до кризиса, как только смог себе такое позволить. Купил чудную холостяцкую квартирку в дореволюционном доме в Подсосенском переулке. На выбор Германа повлияла прежде всего высота потолков. Он намучился в свое время в «хрущобах», где поминутно опасался задеть теменем если уж не сам потолок, то люстру. А тут потолки были четырехметровые. И гаражное место поблизости он себе нашел.
Квартиру продавала смешная интеллигентная старушка, переезжавшая к дочери в Рузу. Она умоляла Германа, если он будет ставить модные ныне стеклопакеты, сделать так называемую расстекловку, то есть расчленение переплета на отдельные застекленные участки, чтобы не нарушать первоначальный дизайн окон. Герман поклялся ей, что его вполне устраивают старинные дубовые переплеты и стеклопакеты он ставить не будет.
Помог ей упаковать вещи (у старушки было много антиквариата), оплатил перевозчиков, сам с ней поехал, все выгрузил и расставил на новом месте. Расстались друзьями. Старушка оставила ему кое-что из мебели: великолепный старинный трехстворчатый шкаф с зеркалом в полный рост, буфет, необъятных размеров диван красного дерева, дубовые карнизы с шелковыми шторами на холщовой подкладке.
Все остальное Герман устроил по своему вкусу. Поставил в спальне калиброванную под себя кровать с упругим матрацем. Оборудовал квартиру книжными полками под потолок – современными, но в цвет старинной мебели, оставшейся от прежней хозяйки. Кухню обустроил. Герман предпочитал не возиться со стряпней, ел в ресторанах или покупал навынос, но под настроение мог приготовить что-нибудь немудрящее. Пожарить бифштексы, например.
В старинной квартире имелся камин, правда, неработающий. У прежней хозяйки ложе каменного очага было заставлено цветочными горшками. Названий цветов Герман не знал, возможно, это была обычная герань, но она рдела, как настоящее пламя. Смотрелось очень эффектно. Ну а Герману некогда было возиться с цветами, он купил декоративный электрический камин, изображающий тлеющие под пеплом угли, и установил на место цветов. Наверное, это было пошло и безвкусно, но ему понравилось. Он часто включал камин зимними вечерами, сидел и работал на компьютере, поглядывая на мигающие, колеблющиеся красные огоньки.
Наконец он купил отличную, очень дорогую стереосистему, провел колонки во все комнаты и на кухню, чтобы слушать музыку, где захочется. Герман любил музыку. Мама в детстве приучила его слушать Баха и венских классиков, сам он увлекался джазом, на этом и сдружился с Никитой Скалоном.
Вот в эту квартиру и вернулся Герман, расставшись с Катей Лобановой. Первым делом по привычке включил компьютер. На всякий случай. Позвонил на работу и предупредил, что в этот день уже не выйдет, чтоб не ждали, а сам прошел в темную комнату, где у него была устроена кладовка, взял инструменты и задумался: где повесить Катины картины?
Успокаивающий нервы «Натюрморт» он повесил в переделанной под кабинет гостиной с камином, чтобы взглядывать на него почаще, а вот «Отравленное небо» после долгих раздумий поместил в спальне. Почистил и убрал инструменты, вымел оставшуюся после дрели штукатурную крошку, вымыл руки и сел за письменный стол.
«Детка» тем временем загрузилась. Герман вошел в Интернет и нашел клуб «Гнездо глухаря». Большая Никитская… Никогда он там не был. В консерватории бывал, а вот в «Гнезде глухаря» нет. Ладно, раз она захотела в «Гнездо глухаря», будет ей «Гнездо глухаря».
Герман любил авторскую песню, но очень избирательно. В Афганистане невозможно было выжить без Высоцкого. Все слушали, и он слушал, впитывал, запоминал. Сам не зная и не понимая как – из воздуха! – полюбил Окуджаву. Железного Германа эти песни, пропетые негромко, без пафоса, с мягким юмором, пробирали до слез. Он сам себе однажды признался удивленно, что они помогают ему жить в России.
К творчеству Визбора Герман относился с придирчивой разборчивостью. Некоторые песни ему нравились, поражали естественной, не пафосной романтикой, другие казались слишком запетыми и… официальными, что ли. Слова «Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край» заставляли его морщиться. У Германа вызывало подозрение все, что одобрялось и допускалось государством. Однако были и такие, что слушал с упоением.
Но больше всех Герман любил Галича. Часто заводил его песни в машине, когда ехал куда-нибудь один. Стоя в пробках, шепотом подпеал великому барду:
- Я подковой вмерз в санный след,
- В лед, что я кайлом ковырял…
Вот так могли бы сказать о себе его деды…
Он обожал военные песни Галича – «Мы похоронены где-то под Нарвой» – и поражался остроумным и злым песням-фельетонам. «Откуда у этого баловня судьбы из интеллигентной семьи такое владение материалом? Лексикой? Блатной, казенно-бюрократической, народной? Откуда это знание психологии «маленького человека»?» – спрашивал себя Герман и не находил ответа.
- Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать?
Он слушал посвященный Янушу Корчаку «Кадиш», цикл песен о поезде с приютскими сиротами, идущем в Освенцим, и ему казалось, что это Галич поет о его родителях, детьми увезенных с Волги в телячьих вагонах, о страшном городе Джезказгане, где летом – плюс сорок, зимой – минус сорок, а весна и осень – по три недели…
На этом Герман мысленно подвел для себя черту. Есть у него три любимых барда и еще один самый-пресамый любимый – и хватит.
Он заказал по Интернету столик в «Гнезде глухаря», посмотрел, кто там в этот день выступает. Какой-то кавказец. Имя и фамилия ничего ему не говорили. Может, позвонить Кате и уговорить ее пойти куда-нибудь еще? Но он телефона не спросил. Можно разыскать в Интернете телефон галереи Этери Элиавы и позвонить… Но Герман решил, что не стоит. В крайнем случае, если будет скучно, они уйдут пораньше. Хорошо, что он повесил картины. Будет предлог пригласить ее к себе и показать, что вот – висят. А там видно будет.
Герман прошелся по квартире и огляделся: чисто ли. Чисто. Но он на всякий случай вытащил пылесос, обработал полы, вытер пыль. Убирать приходилось самому. Не то чтобы Герман не доверял уборщицам, но если кого-то нанять, надо ключи давать… Мало ли что… Вдруг Изольда его тут выследит? Подстережет уборщицу да и отнимет ключи. От нее всего можно ждать.
Правда, в «детку» ей все равно не влезть, доступ закодирован, и код меняется раз в десять дней, но лучше перестраховаться. Герман оборудовал квартиру как неприступную крепость: двойные сейфовые двери, чрезвычайно сложные замки, электронные устройства для обнаружения слежки… Нет уж, лучше он сам будет убирать.
Убедившись, что все в порядке, Герман принял душ и пошел на кухню перекусить. Есть уже очень хотелось. Еще неизвестно, как будут кормить в этом «Гнезде глухаря». Начало в восемь, да пока закажешь, пока принесут…
Он перекусил остатками вчерашнего ужина, взятого навынос в ресторане, и задумался. Принести ей цветы? Без проблем, цветы он купит, но проблемы будут у нее. Куда эти цветы девать? С собой нести? Завянут…
Герман не раз видел в кино, как кавалер подносит даме одинокую розу, а дама потом задумчиво и изящно играет этой розой, сидя за столом. Ему такой обычай казался дурацким. В кино дамы, томно играющие розой в ресторане, никогда не притрагивались к еде. Ну еще бы! Показывать эти прелестные щечки жующими? Эти карминовые губки в крошках? Не годится.
Но Катя, его Катя, была нормальной живой женщиной. Герман надеялся, что она не станет жеманиться и будет есть с аппетитом. Наверняка она сама хорошо готовит. Это… как-то чувствуется. Живет над галереей… Казенная квартира? Неужели она одна? Непохоже. «Я не встречаюсь с женатыми», – вспомнилось Герману. Значит, она не замужем. Была бы замужем, не стала бы так говорить. И кольца нет.
Но что-то в ней есть такое… Ей лет тридцать, может, чуть больше, неужели до сих пор никто к ней не посватался? Герман и раздумывать бы не стал! Она такая милая, такая симпатичная, такая… душевная. Порядочная. Приглашать ее сюда в первый же вечер – безумие. Так можно все испортить. Нет, за ней надо ухаживать, ее надо добиваться. Может, все-таки купить цветы?
Как горячо она рассказывала про Мазаччо и машину времени! Вспомнив об этом, Герман достал книжечку о великом итальянце и решил почитать, чтобы при встрече не ударить в грязь лицом.
Оказалось, что Мазаччо, как и Чимабуэ, – это прозвище. Мало того, прозвище не слишком лестное. Пусть и не Бычья Башка, но Неряха. Герман и сам подумал, что это прозвище, но в духе народной этимологии перевел его как «Мазила». Однако ж нет, выяснилось, что художник, чье длиннейшее подлинное имя он не запомнил, был страстно увлечен искусством и совершенно не следил за собой, на свою внешность ему было наплевать. В чем работал, в том и спал. Отсюда и прозвище.
И еще в книжке говорилось, что на него большое влияние оказал Джотто. Вот и Катя упоминала о Джотто, это Герман запомнил. Он нашел Джотто в Википедии. Там говорилось, что Джотто – основатель итальянской школы живописи и что он «разработал абсолютно новый подход к изображению пространства». Герман просмотрел иллюстрации и испытал полное разочарование. Ему эти картинки ничего не говорили. Плоские, двухмерные, примитивные. Где там новый подход? Что за пространство такое? Надо будет спросить у Кати. А может, лучше не спрашивать? Еще подумает, что он совсем тупой.
Нет, она не такая. Она добрая. Эта улыбка, эти чудные ямочки на щеках… И она по-настоящему любит этих старых художников. Очень интересно будет узнать, что она в них видит. Когда она рассказывает, все становится как-то понятнее… Вот – он уже почти начал любить Мазаччо.
Герман бросил взгляд на часы. Пожалуй, пора выезжать, движение в Москве тяжелое, а опаздывать не годится. Лучше он в машине подождет, если приедет слишком рано.
Катя тоже готовилась к предстоящему свиданию. Она наскоро поела, вымылась, вымыла голову. Уложилась. Как приятно надевать обновки! Катя осторожно натянула новые колготки, черную юбку с живой оборкой и тонкий черный свитер. Может, все-таки сменить лифчик на черный? Нет, черный просвечивать будет. А если оставить бежевый, Герман так и будет весь вечер гадать: надела или не надела? Кате не хотелось, чтобы он думал о ее белье. И все же она оставила бежевый бюстгальтер. Раз Нина сказала, что так и надо, пусть остается.
Так, теперь подведем брови и ресницы… До чего же приятно краситься не просто так, а для кого-то! Тем более для такого, как Герман.
Кате вдруг вспомнился Алик. Когда-то он считался самым красивым мальчиком в классе. И куда это все подевалось? А главное, как скоро! Этери однажды – давно уже – спросила ее, зачем она вышла замуж за Алика. Катя начала оправдываться: была беременна, ребенку нужен отец… Этери хмуро выслушала.
– Я не о том, – прервала она тогда Катю. – Как ты вообще, в первом приближении решила с ним сойтись?
И тогда Катя сказала, что Алик был самым красивым мальчиком в классе. Не одна Катя, многие были в него влюблены.