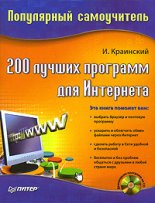Прощай, Атлантида Шибаев Владимир
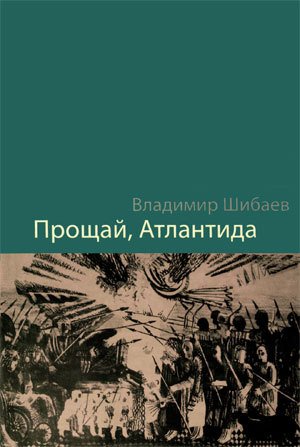
– Дело не в подполье. Отчасти вы правы. Уход в древние истории помогает превозмогать непереносимый быт. Но. Во всех этих дальних сведениях и глубоких колодцах веков для нас, может быть, и содержится влага назидания.
– Очень забавно, – кивнул доцент. – Какая же?
– Ну, вы прекрасно все видите, что ход истории это зачастую повторение прошлых витков – в виде сатирическом или гротескно-пародическом, или в форме жуткой и ужасающей разум почти копии. Извлечь из породы древних событий крупицы живительного опыта, хрусталины горнего духа – вот не совсем пустая задача. Я верю в учебную пригодность пособий по древним катаклизмам.
– Извините, – возразил доцент. – А если сейчас никто не хочет учиться, заглядывать в истории и анналы. Все озабочены душащими заботами, зачем же зря потрошить прошлое, если никто, почти никто не воспринимает Ваши розыски и благотворные выводы. И правда, не лучше ли собраться нам, человекам разумным, и растирать до крови свои ладони – убеждая людей хлипких и грубых в преимуществах разумного равенства перед разгулом насильного потребления.
– Но я все-таки предпочитаю почитать про древнюю страну, – рассудительно сообщил Юлий.
– И я, ладно? – спросила Элоиза.
– Я Вам почитаю вслух, – ободрил ее надежды Юлий.
– Да, бывали такие времена и в старые времена. Когда никто ничего не хотел, кроме своего, и ожесточение захватывало сердца людей. Когда чума перешагивала через растерзавшие сами себя толпы. В разных полисах и веках. Тем более важно заглянуть, а как удалось на время покинуть эти выжженные пустыни, как сподобились идеи победить географический тупик.
– Методом дней рождения, и подарков, – пошутил Воробей. – Побольше рождений в виде подарков, вот и восстановится популяция.
– Ждите данайцев, дары приносящих, – вынула из памяти подруга доцента.
– У меня, Июлий к тебе тоже… если захочешь… небольшая вещь, – молвила Элоиза, наконец решившись.
– А Элоиза, – воскликнул Юлий, в восторге поднявшись со стула и размахивая руками, – преподнесла мне огромный букет этих данайцев… даров: у нас теперь в квартире все сияет, окна сияют сами, пол – будто в таврических замках, все вымыто и выглядит, как чудо-юдо. Ну не волшебный ли мир.
Элоиза спутешествовала в кухню, притащила пакет и вынула из него сияющую хрусталем вазу и водрузила на стол.
– Вот, – зарделась она. – Тебе. А цветы потом докуплю, после… получки.
Юлий в растерянности посмотрел на вазу:
– Это очень дорого, – сказал он дрогнувшим голосом. – У нас была… в детстве. Это не знаю… могу ли принять.
– Бери, – попросила Элоиза. – Или разобью.
– А сколько же это стоит? – встряла залежалка, нервничая.
– Ну какое для подарка это… очень, очень хорошо, как красиво стоит… давайте ка танцевать… – попытался успокоить подругу доцент.
– Нет, все же, – та не сдалась. – Сколько же и из каких денег это заплатили?
Юлий непонимающе уставился на нее.
– Это дико дорогой предмет, – продолжила. – А Вы к нам записывались, жаловались на нужду. И мы все видели.
– Со старого, может, накопила, – буркнула Лиза. – Чужого не беру. А что, нельзя?
– Так Вы врали. Соврали нам тогда. Или сейчас?
– Прекрати, немедленно прекрати, – вступился доцент.
– Она никогда не врет, – воскликнул Июлий.
– Да, не вру! Заработала. Пошла и заработала. А другие не могут. Вот и все, – сообщила Элоиза, сжимая губы. – Потому что эта ваза… она нужна.
– Как заработала? – в тихом ужасе прошептала залежалка. – Что ли телом? Опять? Здесь, у нас, в партгруппе…
– Нет. Нет, – как бычок замотал головой Юлий.
– Так ты опять проститутка? – тихо спросила залежалка.
– Молчите, – крикнул политсекретарь. – Замолчите.
– Сама ты… политическая… – выкрикнула Элоиза, и слезы брызнули у нее из глаз.
А Июлий обвалился на стул, обвел присутствующих белым взглядом и жалко протянул:
– Лизанька, зачем?
Потом поднялся и, шатаясь, как невзрослый медведь после спячки, выбросился в коридор и, спотыкаясь, вышел из партячейки. А Арсений устремился за ним.
Некоторое время Юлий, а за ним на дистанции в десять шагов и Арсений – бродили бесцельно по сморщенным вечерним переулкам, дважды или трижды Юлий направлялся, что-то бормоча, наперерез рявкающим сигналами машинам, и географу удавалось, мягко поправляя Юлия за локоть, вновь направлять того на бесцельный безопасный маршрут. Наконец они устали, барабанщик споткнулся и приземлился на какую-то скамью. Туда же опустился и отдувающийся географ.
– Что Вы за мной ходите? – тихо, незнакомым голосом просипел Юлий.
– Я почти в Вашей сейчас ситуации, вот и хожу, – ответил Полозков.
– Я не в ситуации, я нигде. И, главное, барабан полностью развалился.
– Ну, да. А у меня глобус дома сломан. Она страшно на меня обиделась, моя женщина, и отдубасила глобусом. Да и я убить ее, как говорится, готов.
– Убить? – поднял глаза Юлий. – Ну и убейте. Останетесь с глобусом.
– Это так. Просто поговорка. Ничего я подобного не совершу, все равно ведь люблю ее. Зачем мне оставаться без нее с этой любовью.
– С какой Любовью? А… ну да. Все равно, – согласился Юлий. – И с древними собранными историями.
– Хотя, я мог бы отвлечься худо-бедно. Рассмотреть истоки эллинизма с точки зрения всеобщей любви и Атлантиды. И даже, – тихо прошептал географ, боясь, что его примут не совсем адекватно, – обмозговать легенду о периодической гибели земных цивилизаций за миллиар лет. Это бы меня увело от боли.
– Куда увело? Какой миллиард? – не понял Юлий, думающий о сиюминутном.
– Есть подозрение, – произнес географ, вращая, как агент, глазами, – что во время бега земли великие цивилизации вместе с любовью, вазами, цветами и слипающимися моллюсками возникали не раз.
– Не раз? Два?
– А потом гибли под напором катастроф: технических взрывов магмы, великих обледенений или исчезновения атмосферы. Это, знаете, Юлий, случайность, что мы еще ходим, дышим и встречаем прекрасных девушек, которые готовы отдать за нас все.
– Что все? – шмыгнул носом Юлий. – Зачем? Чтобы я газ открыл? Я и так еле брожу. И мне маму жалко.
– Какой газ? Газы уже все открыты учеными. А… если бытовой. Так это чепуха. Я, думаете, к газу не подходил. И не раз. А потом зажгу, поставлю чай, и давай вспоминать прекрасные дни. Когда мы вместе ходили…
– По партийным делам?
– Ну! – утвердил молодежно географ. – По студенческим. Она меня страшно обидела, с этим…
– С другим? – посмотрел на географа Юлий, и щеки его затряслись.
– Ага, – по студенчески подтвердил Арсений. – Но и я ведь хорош гусь. Сделал все, чтобы наказать ее хуже любого злодея. Вернее, ничего не сделал. Мне как теперь быть?
– А мне? – эхом повторил студент.
– Вам то чепуха, все понятно. Один выход.
– Куда?
– Да никуда, – припечатал географ. – Если вы ее сейчас бросите, она опять погибнет.
– Ага. А я разве – гусь?
– А как же. И вы гусь. Если она Вам нравится, так прямо и скажите – нравишься мне, и никуда от меня впредь не отходи, раз не умеешь. А подарки будем вместе выбирать.
– Будем? И стихи, и барабанить. Она ведь очень настрадалась – и кто у нее теперь друг. Только я.
– Ну! А то, что девушка из побуждений где-то и оступилась, так без любви это и не главное. А то закончится очередной природный цикл, наползет на землю оледенение или оторвется кусок солнца. Или загриппуем все от кур. Будете тогда мотаться, ища друг друга, как ошпаренные, и вспоминать, как по глупости нашей расстались и расплевались, затая обиды.
– Вам-то легко, – обиделся Юлий. – А я о ней думать больше не могу, и не думать – тоже заболею. Уже заболел, – пощупал гудящую голову барабанщик.
– И не думайте, какой в думах прок. Идите сейчас домой и спите. Или не спите, ворочайтесь. А завтра протянете ей руку, скажете: " Я больше о тебе не думаю, просто пришел. Пошли вместе на партийное задание"
– А то " Белые наливы" сгниют, – с надеждой улыбнулся Юлий. – Но я ведь теперь до нее дотронуться не смогу.
– Сможете, – нагло заявил географ. – Еще как сможете, по жизни. Как дотронетесь, она сама, как букет, расцветет. Вот увидите.
– Тогда я пошел домой? – вскочил Юлий.
– Доброго пути, – напутствовал юбиляра географ.
Но все же некоторое время, стараясь витать в темноте, он следовал за юбиляром и потом понял, что Юлий бредет, изредка спотыкаясь, куда угодно, только не домой. Тот шел, пошатываясь от рюмки выпитого кислого вина, только в одно место – к квартирке сине-зеленых. И только тогда Арсений отправился восвояси.
У двери офиса, на коврике, сжавшись и кутаясь в куртку, сидела Элоиза. Она посмотрела на Июлия и тихонько заплакала.
– Что ж Вы здесь сидите? – спросил Юлий, прокашливая горло.
Элоизе некуда было идти. Она тоже вслед за Июлием выбежала из партийной квартиры и долго бродила по опасным улицам. К Эвелине Розенблюм было уже не дойти, слишком поздно. Та, скорее всего, отправилась под красный фонарь, а дочке Краснухе наказала никому не открывать. Да и нечего было Элоизе там делать, так ей осточертел и ночной фонарь, и пахнущие рыбой рожи, и вся эта местность, глухая и нищая. Здесь, на партийных буйных митингах, под ветром площадей она совсем по другому видела себя – свободной и гордой девушкой, которая может распоряжаться собой сама, может быть, впоследствии и медсестрой, или сестрой милосердия. Поэтому захотела она вернуться, так как никто ее пока из ночных сторожей не увольнял. Но войти, как будто была воровка, не смогла. И уселась на пороге.
Подошедший Юлий поглядел сверху на плачущую особу и, сочтя это неудобным, уселся рядом на коврик возле входной двери квартиры. И тоже взялся тихо и беззвучно плакать, даже нет – он просто сидел и молчал, а слезы иногда выбегали из его глаз и слетали, орошая щеки, вниз. Так сидели они рядком какое-то время, пока не дунул склизкий сквозняк и противно потянуло из соседней квартиры холодным жареным. Тогда Юлий неловко, тяжеловато поднялся и спросил:
– Что ж сидите? Замерзнете, – повторил студент.
– А что ж мне делать, Июлий? – подняла глаза девушка.
Барабанщик протянул руку и помог ей подняться.
– Я больше о тебе не думаю. Просто пришел. Так соскучился, – прошептал Юлий.
А девушка опустила лицо ему на куртку, где грудь, схватилась за нее розовым бледным маникюром и умолкла.
Всю ночь молодые люди просидели в офисе за чаем, не смея тронуть словами все произошедшее, не обсуждая ничего, только почитывали иногда друг другу распечатанные сказки про исчезнувшую и канувшую в средиземноморских волнах страну.
Знаете, все это ни к чему. Стоны и упреки, и стенания, и даже нестройные вопли о произошедших неурядицах, стрясшихся неприятностях и явно уже грозящих невзгодах. Почему бы заранее, загодя не разметить их прилет или второе и третье «случайное» пришествие и не возвести на пути стену предвидения или запруду угадывания – на случай мора, обид или хлада горького прозрения. Как уже все научены, как часто препроводимы судьбиной в те же закоулочки выметаться из тех же сусеков, тыканы в похожие дымящиеся лепешки, раскиданные чьей-то и нашей же дурью по часто навещаемым дырам и захолустьям. Ан нет, все никак не сподобимся, не сладим следить за зреющим временем, за прочкнувшимся случаем, на что требуется вовсе не терзаемый трезвостью ум и расчерченный черствый расчет. Нужны лишь упорство упыря, хилая смекалка хитрована, потребен пробный прикид покойника, чтобы расчленить и взвесить беды свои. Не можем, однако! Слабы и побиты наметанной грязью взбаламученной природы и грешными замыканиями генных цепей, превращенных в тупые кандалы привычек, в вериги веры. Не можем, тужимся, но слабы.
Тогда все это ни к чему. А есть ведь специальные люди. Обратимся к этим, хорошим, которые придут и расчертят. Вон они, уже бредут к нам – эти прозорливцы и гадатели. Только им, этим глашатаям тумана, вопрошателям глубины и интерпретаторам эха позволим поучать нас.
А то поди разгреби это варево вранья, томление толпы и шарады шарахающихся и несущихся в ненастье. Язык изъязвлен, руки скрючены и ноги онемели каменной немотой. А эти поймут. Придут в город и увидят сразу, насквозь и навсегда.
Вон на скамье у дома, поодаль, сидят две. Провидец влет смекнет – ждут. Или просто, ожидая, тасуют планы и прикидывают, как бы чего не вышло или вошло толком. Одна, нервная и изредка вдруг дергается, говорит что-то тихо и резко, будто сама с собой согласилась, не смогла отказать, будоража, тихо рвет слова. Нервная и бледная, но хороша, потому что ясным холодом блестят глаза и с образованием, недюжинным, взятым не даром, в тревогах и упорных ночных бдениях. Да и вы смекнете, что особа держит на себя зло, зло стучит палкой памяти в дверь прошлого, поливая грядки обид склизкими слезками воспоминаний. А гадатель глянет и брякнет одно – "достукается".
А вторая барышня и вовсе – китайская. На этом мы и замолкнем, но некто, полный прозрений, добавит – лет тридцати кукла косоглазая, небось учится в нашем университете, аспирант и стажер уже давно географического факультета, с теплым, полным мелкой дрожащей мимики лицом, неразличимой европеоидом. Спокойная, мягкими точными движениями оправляет синюю глухую блузу и брюки, с маленькими, выращенными в мучениях ступнями, упрятанными в крохотные ботики. Но, – добавит он, приглядевшись. – Скорее всего она офицер, и даже не самый мелкий чин разведки великого восточного друга. Да кто об этом знает? Никто.
Это, по виду, самозабвенная восточная механическая кукла, совершенно сделанная по восхитительному иероглифическому проекту, и в глубине души не знает ни попреков совести, ни воззваний милости, да и души тоже. Железная механическая самозаводная милая девушка. Опасная игрушка.
И только один или два на этом свете и в этой же тьме, которых в городе отродясь не бывало, какие-нибудь дотошные знатоки обрядов империи Цинь и чтецы старых свитков времени Хань, глянув на изящного почти глиняного божка слезящимися от старых свитков глазами, скажут – не кукла. А нежная птица, с трепетной летящей памятью и невесомыми крыльями стояла – или стоит? – медленно поворачивая расписные веера, по журавлиному поджав одну ногу, облаченная в театральный расшитый пестрыми пернатыми халат, на площадке перед старым храмом в провинции Гуанси, где горы нависают прямо над головами синеющих зубами знойных сосен, а пропасть падает от храма влево в глубину веков.
Эта птица ненавидит армию, разведку, команды, строй, чистые кителя и яд, капающий из зашитого в китель шприца. Просто птица в пылающем бирюзовой вечерней зарей небе.
Но вот из подъезда выходит человек. Прозорливец сразу видит – это географ, учитель какой-никакой школы. Выходит он, нерешительно оглядываясь, плетется кое-как, в руке его фибровый чемоданчик, какие еще есть у стариков и старух.
– Нет, – говорит, издали оглядывая вышедшего, одна из сидящих китаянке. – Пока он не поедет. Знает мало. Не волнуйся, скоро вернется.
Китаянка с удивлением взирает на собеседницу. Но та права – помявшись и поплутав с полквартала, географ возвращается и понуро бредет в свою конуру – прожив жизнь, он мало знает, и ему, догадался провидец, нечего сказать в конце пути.
А, если кто много знает, ответьте. Почему эта же особа в этот же день мелькнула в официальных хоромах двух организаций – золоченого адвокатского бюро и мраморного банковского офиса. В одном из них грубый белобрысый солдафон в стальном немнущемся костюме хамски ухватил особу за локоть и нагло потряс ее, сея вокруг маловнятные злобно выдавленные междометия. Но особа с искаженным бешенством лицом хрястнула солдафона ладонью со всей силы по зубам, да так, что тот, потерявшись и опешив, выпустил особу и остался в одиночестве, злобно потирая щеку и щерясь убийственной улыбкой.
А почему, например, в другом месте, в том банке в боковом кабинете практически такой же солдафон в стальном негнущемся сюртуке вдруг бухнется перед этой же особой на колени и будет, передвигаясь по ковру, как по гороху, ползти на чашечках за ней, выпрастывая руки и глупо, театрально закидывая шею. На что получит лишь одно, свистящим шепотом выдавленное благословение: " Пошел ты!".
Гадатели, не роясь в аргументах, сразу пришпилят ситуацию – "страсть", но будут ли правы. Все это смутно, неявно, без свидетелей и последствий. Все снесет мутная игра дней.
Хотя наблюдательные провидцы и заметят в этом же кабинете позже конфузливо кланяющегося стоящему теперь железным монументом солдафону пухленького милицейского майора, что-то пришамкивающего и скалящегося металлической улыбкой. Тут же на коленях будет ползти навстречу орущему солдафону, вздымая корявые руки, пьяный и драный, пахнущий пополам собственной мочой и отрыжкой, похож на Хорькова. И все же получит в виде последнего срока на руки и на грудь под драную куртку одну фотографию рабочего активиста.
Зачем она ему, зачем ему вообще фотографии, этому башибузуку. Пускай бы он высветил в памяти отпечаток своего сына, бесшабашного паренька, и шептался бы с ним, сев в рядок, посетовал на жизнь:
– Вот, – сказал бы, – Димка. Сердце чего то жмет, не сдохну ли?
– Вот, устал уже. Здоровый был, крепкий, как солдатский ремень. По переулкам валандался, свистел. А теперь кожа треснулась, ухо шпана малолетняя по пьяни отшибла, плююсь красным.
– Вот, – добавил бы. – Один ты у меня, Димок. А я все с ножом хожу. Ты бы, хоть, сын, подошел и сказал: гордый я за тебя, папка. Что ты один, не в кодле. Сам себе главный. Егошистый ты, но справедливый. Плохих не любишь. А все плохие. Сел бы рядом, положил бы голову свою белобрысо стриженную мне на плечо, да предложил – бросай, мол, все это к цельной Фене, поедем отсюдова в дальние восточные края, где грибы и земляника ягодицей трясет, и где рыба голавль в жидкой траве по реке бегает.
Но нет. Бредет похожий на Хорькова с подлой фоткой под курткой по блестящим зеркалам луж, ковыряя разбитыми кедами заплаты грязи и спотыкаясь о недопитые банки и недобитые бутылки. Плохо ему, видит провидец. И скажет: знаю я, полз ты перед погонной шпаной на коленках не с того, что трус и боялся, а с того, что пьян и не держит больше земля таких. Хотел бы он, этот бывший сильный, издать небритым кадыком орлиный гордый клекот, да уж осипла вытравленная политурой гортань, хотел бы, как раньше, взобраться на ледяной пригорок или недорубленную стопу сруба, и оттуда страшным рыком и жутким видом пугать пробирающихся мимо, что побираются у жизни и шмыгают скорее в тепло, кто забыл звериный завет веков – но негож уже башибузук, падает и скрипит гнилыми деснами, изъеденный злобой изнутри.
Еще подскажет ему прозорливец – не суйся ты в глухие переулки, зашло твое время. Там скоро шпана и ребята с гитарами, будущие Папанинцы, дождутся сумерек и выбредут стаями из косых бараков читать речитативы и учить случайных своему уму-разуму, ногами и палками. Не ходи, похожий.
Вот ведь пухлый майорский чин – уж на что при силе, и старшину, если надо, кликнет и замордует, но и тот в гнилую темноту и вечернюю сырость ни ногой. Сидит не на службе, дома, в угловой комнатенке, заставленной изъятым при расследованиях – малыми стиральными агрегатами, послевоенными ламповыми устройствами, современными передающими звук с речью плеерами и китайской бытовой дрянью, – и усердно чистит-блистит многими тряпками и снадобьями страшный бельгийский карабин с оптическим блоком точного боя. Ведь никто не знает, дорогой прозорливец, что майор – кандидат в мастера стрельбы и, бывало, выбивал пятак наспор из пальцев потного старшины с жуткой дистанции. А, кто гадает, могли бы и угадать – так уж майор гладит на службе рукоятку и ствол допотопного пистолета.
Куда ему стрелять, куда целиться – вот незадача. Эй, прорицатели, враги пустых измышлений, помогайте, состройте толковую мишень. Кто уж мог что сказать поперек – большинство окопаны в глине, проросли желтой, чахлой травой, а по весне отправляют наверх послания из полевых и луговых цветов. Кто вставал грудью на защиту сколоченного своего овина или избы-пятистенка, добытых потом и жестоким трудом, кулачье, да зажиточные куркули – все уже почти отправлены к ледовитым тундрам копать носом морошку возле ржавых шпал, чтоб неповадно новым было – каким-то еще фермерам и арендаторам. Сидят сплошь теперь и падают от пьяного угара между завалинок совсем малогожие. Разве это цель.
Да и лишние мозгляки поизвелись, кто лезет со своим интересом в иностранные атлантиды и размахивает смешной указкой-бандерильей на уроках бескровных коррид – многие уж отловлены служивыми, сослуживцами и доброхотами и переучены жезлом, модной нынче бейсбольной битой или немодной, но надежной сучковатой палкой. А другие, справедливо заметит провидец, те, что шляются без толку по задворкам европейских мытых столиц: где насрут, где выпросят, а где и покрадут один у другого – те и вовсе не в счет. Отребье разве цель!
Поэтому и чистит свой оптический указующий конец жизни жезл майорский человек бесцельно, для искусства, для поправки расположения духа. Но и рядовой, районный или поселковый, гадатель чует: ружье, если и на стене, возьмет вдруг, да и бабахнет ни с чего, свалится и повредит вместо охоты лепных слоников, фарфоровых лыжников и хрустальную передачу в серванте. Так что снимать его с гвоздя (или вытаскивать из-под укромных половиц) и ласково драить – самое милое занятие, милее мордобоя в кутузке и сподобней отъема вещдоков.
Хотя предупреждал как-то майорского человека один невзрачный теперь, но злой гадатель:
– Кончай, дура, по мелочевке обирать. Или ты кандидат в мастера, или в покойники.
Но вы то знаете, что у милицейских, даже нынешних, с гадателями и особистами, работниками меча и забрала, даже бывшими, параллельная практическая умственная работа, если так можно выразиться, не часто завершается телесными объятиями. Так уж у них по разному функционируют лобные доли, и ничего с ними не поделаешь, с долями. Однако, что командному составу синица, то среднему майорскому чину – точный журавль.
Кстати, этот невзрачный гадатель и сам был не промах. Догадался, что сидят на скамье возле одного дома особа и китайская бестия, видел, шелуша по привычке одной ладонью колоду свежих картишек, как особа заскакивала к адвокатам дать одному по роже и к банкирам дать одному поползать на чашечках по ковру, смекнул догадаться – где опять соберется толпа мастеровых, посиневших от бескормицы и злоупотреблений напитками и законами людей и начнет буйствовать, выкрикивать бессмысленное и ломать бесполезные скамьи на удобные орудия пролетариата.
У адвокатских и банкирских, прежде чем раскидать перед руководством колоду на столиках наборного дерева и получить для них совет звезд на ближайшую декаду, предложил сей гадатель по пути двум белокурым, сунутым в серые сюртуки похожим на оловянные солдатикам вытянуть себе на пробу по две карты – которые, ясно, оказались у одного дама и шесть треф, а у другого туз и тоже шесть, но пик. Солдафоны кратко поблагодарили гадателя скудной информацией, после чего одному оловянному гадатель раздумчиво напомнил " …старуха… в тузы не выйдешь… а дамка играет в свой покер…", а другому, скорей деревянному, с деревянной спиной и древесно-стружечным, побитым прыщавой болезнью лицом сначала напомнил " мать его", а потом " дамка-то заигралась в очко… не наша атлантическая штучка… косоглазым тузам прокладка…". Адвокатским потом он все же карты раскидал, и дородному одному знатоку офшорных казуистик шепнул, что карты, мол, дуры, прозорливей нас, и все, де, у тебя, толстый и съедобный человек, будет все красиво и игриво, особливо завтрева. И дочурке твоей, бестолковой размазне по празднику жизни, будет надбавок. " Какой-такой надбавок?" – недовольно удивился дородный толстяк. " Того карты не видят, высоко больно" – был краткий ответ.
Да и среди банковских колонн загадочный щуплый гадатель не потерялся, а ихнему самому финансовому воротиле сообщил, водя скрюченным пальцем над ворохом специальным строем разбросанных карт – "чего ищешь, того и сыщешь", на что банкир сначала побледнел зверской рожей, а потом схватил гадашку за грудки и справедливо призвал к ответу: " ты мне уклейку не клюй, ты зернистую по делу мечи. Будет мне большая радость или нет?".
– Через что ждешь? – слабо квакнув, возопил гадатель. – Через юго-восточную дружбу?
– Ты чего? – удивился финансовый бугай. – Через пройдоху газетного.
– Это картишки видят, – хмыкнул замухрышка. – Радость видят бескрайнюю и безмозглую. А опосле тебе сызнова труд, да мука, мука перемелется и мука будет, и пирожков счастья накушаешься. Картишки издаля различают…
– Ну, иди. Переварю твой прогноз, – отстранился банковский человек. – Не до тебя, косоглазые орды подпирают.
И гадатель, как легко разглядели сквозь другой туман провидцы и службы наружки, поплелся прочь. Уж его, или не его согбенная фигурка мелькнула в толпе мастеровых, сгрудившихся в грязной, давно не мытой промежности задов " Красной чесальщицы", то есть замеси полуподвальных обитых жестью сараюшек и складов, и краснокирпичным передом " Красного мотальщика", ощерившегося на толпу решетками окон заводоуправления, – гадайте сами. Потому, что в такой толпище, бурлящей бражкой и кишащей криком, затеряться – что пожать собственную ладонь и скосить свою же рожу. И, вообще, толпа, что знают все порядочные как один гадалки и ясновидящие авантюристы – это зверь.
Толпа – это не сборище особей, это сама особь. Животный организм или движущаяся химера. Кстати, китайская упомянутая бестия, как сообщали кому-то специалисты по древним обрядам, всегда, с впечатлений путаного деревенского детства считала толпу драконом, вылезшим от безумия из своей шкуры. Огромным огнедышащим существом с неопределенно расположенными глазами, лапами и первичными половыми признаками. И по преданию его надо очень и очень боятся, так же сильно, как одетого – уважать, не влезать без нужды внутрь и любить издали, хотя любить – страшно и не за что. И, правда, буть толпа хоть дракон, хоть медведь-шатун, а, может, и бурлящий кит, глотающий с голодухи провидцев и по недосмотру богоугодных чревовещателей – все равно это зверь.
Есть у него глаз или два, через них толпа глядит наружу, чтобы смекнуть, куда течь, ползти или сваливаться в грехе. У этой толпы, именно этой, глазами были два человека – орущий " Архиважно! Стойте, рабочий люд, одумайтесь!" активист Рабфронта и еще один, тоже активист, визжащий: " Громить управление! Брать кассу, жечь склады!", вертящийся в толпе, как соскочивший с оси, взбесившийся жироскоп и пытающийся спихнуть толпу на бег, выламывание скамей и сопутствующие непотребства. Оба глаза чудища, ясно, глядели в разные стороны и возможный путь толпы был двояк.
Имелось у чудища-толпы и луженое горло, непрерывно и пока неслаженно орущее самое разное:
– А кормить малолеток ты нам будешь? Вскроем сейфы с контрафактной контрибуцией… Кончай базар, братва, давай митингуй по порядку… Эстафету бегунов в облсовет… Дергай колья, запасайся горючим… пусть покажут книгу начислений… Трудовой оговор, а не договор… Круши несокрушимых… – и так далее.
Каждый бы случайно влипший догадался, что есть у этого зверины и органы внешних чувств – болеизъявления, хотения и упрямства, есть для слуха как бы уши и лапы дальних скопищ, осязающие края толпы, сжатые заборами и кордонами охранки – выставленными и набранными всякими евсей евсеичами из окрестных люмпенов, прибывших на временный постой в бывшие пионерлагеря бойцов заднебугских дружин и подрабатывающих промеж смен охранников, наколотых по рукам.
Что странно и малообъяснимо, и редкие охранники, рядочками разбросанные оторвавшимися от основного тела полипами, тоже были неотъемлемой частью этой зверины и, будьте уверены, очень даже готовы были слиться с материнским организмом, как его же зубы и когти с копытами, если бы ситуация подошла к малым грабежам и мародерствам. Так что капли отдельных клеток толпы – небольшие бегающие в теле людишки, мало что означали, слабо мыслили внутри крупного разума и туго из-за спертости догадывались.
Поэтому прибредший в драконовы оболочки хилый гадатель, случайно наткнувшийся в тканях зверя на некоего географа, попавшего сюда как чужеродный элемент песчинка или соринка, только и вымолвил:
– Ну, каково Вам, впечатляет?
– Да, – судорожно сглотнув почти одновременно со всеми сообщила эта чужеродная клетка толпы. – Как-то все на грани срыва.
– Хотите порядка? Или хотите благолепия малиновых колоколов, успокоения и медитации в среде древних откровений!
– А Вы, Кондратий, – молвил на разных тонах поджимаемый толпой географ, – что-то часто меняете стилистику речи. Не пойму я Вас. А просто хочу уже отсюда выбраться.
Но толпа поглотила, жала и выплескивала из себя кучи иного всякого людского хлама и отхожего материала: ныряли и ерзали внутри мечущие камни и голубей школяры, паясничали ряженые медсестрами на случай увечий телесных всякие аппетитные алевтины и старшие дежурные особого отделения больниц, а также сами не свои бывшие и нынешние биологички и бухгалтеры, высчитывающие на внутренних счетах костяшками мозга, а не списать ли чего под этот кавардак. И даже случайно командированные издалека тихо наблюдали повадки площади с дальних подступов. Даже мелькнула пара каких-то явно сумасшедших, пепельная девка в длинной глухой юбке с боковым разрезом до пояса и парень, кадет или пухлый пионервожатый в сатиновых шароварах и сине-зеленой, расчерченной вертикально бывшей бабьей кофте, толкаемые всеми и тащащие за две ручки небольшой матерчатый гнущийся, как под ветром парус хуторской шаланды, плакат с плохо читаемой шифрограммой: " Господам и дамам рабочей закваски – сине-зеленый привет, а не хозяев сказки!".
Итак, это было ясно каждому смелому наблюдателю и осторожному гадателю – животное "толпа" дышит, пожирает попадающихся детей своих и выплевывает пережеванное и обсосанное, дергается, сжимаясь-разжимаясь и перекатываясь – то есть движется, а также слышит, кое-что видит и даже различает речь и музыку нот. Попробуйте-ка в чреве бушующей толпы завести шарманку "Мистериозо" или накидать синкопов "Буги-вальса" – тут же зашикают, запихают, согнут шарманку, обоссут и плюнут.
И тогда встает в полный рост последний вопрос – есть ли у создания "толпа" мозг, думательный орган, компонующий соображения и выплескивающий приговоры. Или это создание рефлекторное и спорадически дергающееся от разрядов внутренней энергии, как скат или медуза. Или все же это почти "Неандертал" с его тягой к общим пещерным посиделкам, совместному звериному шкурничеству, обобществлению острых кремней и кресал и почти коммунальному пользованию самкой.
И вот здесь самое главное – кто точнее поймет это животное упрямое создание – какой-нибудь расчерчивающий круги проблем прозорливец с вымученным ученым лицом и трясущейся от точных наук ручкой, или беспутный непутевый практик-гадатель, мастер подмены мастей и перевоплощений дам в тузы.
Вот она среди фабричных стен стенает, вот бушует эта толпа, сорваны уже из частокола все колья, разломаны и упрятаны под драные кафтаны и короткие куртки обломки скамей, сжаты мозолистые кулаки и грязные ладошки с годами невиданным маникюром. Какой глаз – или глас! – поведет толпу – ярый сверкающий и мечущий злую слюну Гафонов, или глас боевика народных чаяний и блюстителя рабочей и ботанической чести Холодковского-Горячева.
Сжалось в страхе и предчувствии общего спазма крохотное личное сердце пронырливого никудышного Воробья, прикрыл веки перед грозящим испытанием недавно наученный народным правам в училище Зыриков, и даже командированный из центральных мест, присевший было на скамью, вскочил и согнал ладонью со лба пот. Ау, разум, где ты? Сюда! Грядет страшное и пустое, убийственное и бестелесное – толпа прет.
Но вдруг… вылезли откуда-то на потешную арену в виде трех треснутых ящиков и гнилой ржавой бочки из-под литола два странных плакатиста, пухленький паренек и девка, да такие потешные и кривые, что хохот полыхнул по толпе, подняли над собой две свои палки со стягом дурного плаката, писанного мелко и второпях, так, что многие и не стали разбирать букв: нам… рабочей закваски… а не сказки… – и запели эти двое песню, чудно фальшивя и вскидывая, где не надо, голоса:
– " Мы пионеры… дети рабочих… всегда буть готов…"
И тут вдруг гадатели и прозорливцы ахнули – один сблизи подтянул голос, заголосил другой, и третий поднял, но другую чуть песню, а еще одному, озверело дернувшему бензиновую болгарку, чтобы запилить певцов, слышно дали в ухо, прямо в перепонку. И площадь зашлась в песне. Потом затянули с другого края, где пришлась по душе " как родная меня мать провожала…", и еще. А попев, разошлись, чуть устав и выразив хоть немного свое, отколовшись бригадами, группами и поодиночке.
Аккуратно сложив куда-надо до поры дреколье.
Ау, гадатели и прозорливцы, где вы? Толпа-то любит петь!
Тогда простой вопрос – нужны ли вы, провидец путей и озиратель несостоявшихся фактов, умозрительный отгадыватель уморительных несообразий и фатальный натягиватель правил. Давайте-ка призовем, что ли, мудрого старца, немного слепо-глухого с рождения, который спокойно воссядет на престол или табурет провидения и честно разведет в незнании еще сохранившимися пока руками – неведомо все. Неведомо и это тоже.
Серебристая стремительная машина уверенным с себе мясницким ножом беззвучно рассекла вечернюю мглу и вывалила Арсения Полозкова у подъезда погруженного в калейдоскоп сияний и огней пригородного особняка. Вышедший вслед за географом, почти силком притащивший его сюда штабс-капитанского вида водитель, оправив темный, безукоризненно сидящий английский костюм, сухо и неприязненно напутствовал Арсения:
– Все время, педагог, лезешь куда не звали. А бабку позабросил, – и стянул с рук кожаные лайковые, в цвет загорелых ладоней водительские перчатки. – Смотри, Полозков, шаг влево-вправо, и бетон.
– Да я Вас, Альберт Артурович, и не звал в адвокаты. Мне и без Вас очень неплохо, – осадил Колина географ.
– Если адвокат уже не нужен, зови священника, – выдавил совладелец бюро. – Ты там давай скромнее, женишок, – усмехнулся спортивного покроя водитель. – Супружницу-то Павловскую поздравь, не забудь, а то долго обижаться будет…
Перед особняком на сквознячке мялась и молилась приезжим лицам охрана, а ее начальник, почищенный и принаряженный в портупею майор Чумачемко браво козырнул козырному солдату особого порядка Альберту Колину, а географу, несколько стушевавшись, сумел лишь подмигнуть сначала левым, а потом и противоположным глазом, что, впрочем, можно было принять и за тик.
В огромном, похожем на застекленную веранду вертепе, где сверкали белоснежным, уже заляпанным деликатесами, крахмалом столы, переливалась через край музыка и вертелись ряженые гости, почти не отличимые от пингвинами снующих официантов. Чернявые люди специально небрежного вида, художественно нечесанные, приседали в разные позы и стреляли вспышками огромных телевиков, фиксируя неровный переменчатый ток торжества. Оркестр, состоящий из живописной группы полуумирающих евреев, виртуозного аккордеониста-итальянца Сидорини, цыганской танцовщицы и одетого в тубу лауреата всех международных областных конкурсов, выделывал попурри – то выплескивал жалобные для скрипок аккорды "Лунной сонаты", то взрывался народной песней "Хава нагиле" и хитом "Дубинушка, ухнем", а выползающая на невысокую сценку худючая девица с состоящим из двух огромных глобусов бюстом выдавала на гора такие басовые перлы и нежные трели соловья – что жующие, пьющие и трущие салфетками себе и соседкам губы чуть захмелевшие гости визжали всеми октавами от восторга.
– Тихо! – крикнул распорядитель, по виду, возможно, начальник местных проводов и столбов. – Подарок от порта. Прошу, очень прошу, господин Усамов.
Из-за одного стола выкатился небольшой человек с огромным, как рекордсмен арбуз грозящим лопнуть пузом, подкатился к ближнему к эстраде столу и приобнял, стеснив пузом, приподнявшуюся там со своего кресла основательную тетищу.
– Этот, – крикнул он в зал, потрясая небольшой бумажкой, – мой записка. Спроси, что тут пишешь, Усамов. Читай, если могишь. "В порт. Пропусти без таможни денег и одна вагон. Целуй, абнимай Алишер".
В зале засмеялись и захлопали. Кто-то подковыристо крикнул:
– А наркоты вагон можно?
– Умный не спросит, – отчеканил Усамов. – Умный тихо вагон пройдет. Арбуз-марбуз любой товар. А этот – прекрасный дам верный до конец спутник жизнь нашего всегда Теодор Федрч – красавец и умниц. Порт наш государсвн поздравляйт и целуйт.
И Усамов опять схватился за тетищу и потерся об ее лицо небритой щекой, вызывая звук отчищаемой шкуркой сковороды. Веселая именинница вдруг выскочила на авансцену и взялась дирижировать задувшим туш оркестром откуда то выхваченной черной розой. Тетища была довольно обширна и высока, маленькие глазки торжественно сверкали из-под белокурого аля Мэрелин Монро парика и толстых щек, в такт розе колыхался обширный подбородок и весь наряд, состоящий из покрытого блестками розово-коричневого платья и усыпанных стразами черных туфель. Вслед за разыгравшейся именинницей выбрался из-за стола ее муж господин Павлов и, страдальчески морщась и улыбаясь красным каменным лицом, стал вновь упихивать за стол упирающуюся и протестующую супругу, и при этом еще получил розой по фейсу.
– Идем, представимся, – угрюмо кивнул Колин, и географ поплелся за ним к главному столу. Компаньон мужа чмокнул, не донеся губ, именинницу в руку, но так, будто хотел откусить, и кивнул на географа.
– Ах, вот он, – выдохнула распаренная мадам Павлова. – Так, подойди небольшой. Издали не разгляжу, – сказала она громко. – Ну и кто это, Теодор?
– Это наш жених, мулечка, – упирая на последнем слове, сообщил Павлов.
– Нашей Клодетты? – поразилась тетища. – Такой… сомнительный…
– Один из кандидатов в женихи, не самый главный. Запасной, – сообщил географ, почтительно глядя на тетищу.
– А-а… – протянула мулечка.
– Чрезвычайно полюбила скромного перспективного человека, дружат – не разлей вода, – схитрил Павлов. – Чрезвычайно известного в сферах милицейских, китайских и даже районах ответственности ГКЧП. Вон, наш астролог не даст соврать. Ильич! Правду говорю?
– Сокровенную правдушку. Гражданин хороший имеет крепкую гражданскую диспозицию. Карты по нем хорошо лежат. Истинный крест на нем, – проверещал тут же и подвернувшийся гадатель, имевший от благодетеля Павлова в свое время бесполезную вырезку.
– Помыть, причесать, приобудь – наш человек будет, – вдруг крикнул сидящий во главе стола вице-губернатор, изрядно уже принявший. – Я сам в город пришел в лаптях, и рожа, как из коровы улыбка. Ведь наш, Теодорка?
– Самый наш, нашей нашего, – скромно потупился адвокат.
– Ну, вот, – успокоился вице и хлебнул из бокала. – А что жених, ну и черт с ним, все женихами ходили, это мудей трясти не мешает, – пошутил. И все хохотнули. – Невеста-то, прорва, где?
– Клодетка! – взвизгнула мамаша. – Куда тебя черти носют?
– Здесь я, мама, не орите, – подплыла к столу, держась за бокал шампанского, дочура.
– Может, потом, мулечка? По семейному? – умоляющим зверем глянул на жену адвокат.
– Так что он тебе… этот? – протянула мулечка, указывая на географа ложкой, с которой сочился на скатерть жульен.
– Дружат неразлучно уже три дня, – зажжужал Павлов. – Совместно копят мои деньги на мелочи для будущих маленьких, коляски, подгузнички…
– Она чего, уже… товось… с этим? – изумилась мамаша. – Клодетка! – опять взвизгнула. – Так вы чего, юноша потертый… кем, вообще? Где состоите?
– Изучаю древние цивилизации, – вежливо сообщил географ. – Их фундаментальные сокровищницы знаний и материальной культуры. Извлекаю золотой опыт поколений в целях обустройства сегодняшней планеты, а также наполняю ведущие медицинские учреждения области контингентом, которые обласканы голубем.
– Так ты антикварный фрайер, так и скажи, не трись. Говоришь складно, – усомнилась тетища. – Ну-ка выпей, и протянула ему свой бокал, набухав туда коньяку. – Устойчивый ты, в жизни то?
Географ перелил себе в стоящий рядом чистый и свежий и пригубил:
– Не решаюсь пока испить с Вами из одной чаши полную чашу. Пока не наделен благословением.
Тетка откинулась:
– А ты почтительный… Так чего копаешь, древние… чего… кости чтоль?
– Он черный копатель, – встрял вдруг Ильич, гламурно закатывая глаза и котячьи улыбаясь. – Добывает черте что из-под земли.
– Знаю, слыхал, – вдруг крикнул вице-губернатор, корча зверскую рожу. – Черные копатели. Это банда еще та. Ржавое оружие, доспехи, золотые бляхи… мухи… Сам недавно открывал торжественно мемориал павших врагов. Эти банда, – радостно подтвердил он. – Нефть копать в области будешь?
– Нефть готов, – скромно подтвердил Арсений.
– Пристроим, – заорал вице. – Кто готов чего скажут копать – тот наш. Парень смышленый, по хитрой роже видать.
– Так ты нефтяной, – одобрительно кивнула мамаша. – А чего корчишься, Клодетка!
– Небогемно орете, мамаша, – промямлила Клодетта. – И чего? Этому дала, этому дала, и столько же еще осталось.
– Вы что ж… с ним… уже товось… сложились крылышками, ангела голубиные… Что это папашка про колясочку?
– Врет, как сивый, – поджала дочка губки. – Я с такими только за бешеную зарплату. Я дочка тихая. Кого папенька в женихи выпишет, у того и буду кошелек сосать, и волосатый и пузатый. Такая презентация-меструбация.
– Вот это по-нашему, – хрякнул, добро улыбаясь вице. – У младшего соси, старшему носи.
Тут дочурка вдруг подъехала к географу, крепко схватила его за шею, и, почти удушив испарениями виски и пузырьками содовой, вцепилась в губы, походя шепнув: " Нефтяные денежки пополам, суженый".
Еле географ под аплодисменты зала отцепил оторву и промямлил, дико озираясь: " Ну не здесь же, мулечка".
Тут же тетеха их отправила, напутствуя:
– Ну идите, детки, дружите. Только с предохранением. Иди, иди, Клодетта. Посади где-нибудь кандидата сзади. Там, там, – махнула она рукой, плохо гнущейся от обилия перстней. – Пускай покамест икру трескает, молоки набирается. А после докажет дочуре – в жеребца корм, не зря жрал.
Арсений очутился за дальним столом, в компании с каким-то типом, который тихо оглядывался, быстро наливал из припрятанной между ног бутыли коньяка, опять оглядывался и закусывал уже не спеша. Тип удивительно напомнил Арсению некоего встреченного в недобрый больничный час главбуха "Красного мотальщика", хотя с уже посиневшей от выпитого рожей и прищуренным оперированным глазом тот вообще мало кого напоминал.
Где же этот кабинетик, или библиотечка чертова с групповой фотографией знатных людей на фоне преставившегося областного шефа, подумал географ. И не сейчас ли ускользнуть и начать раскопки черного копателя. Но ощутил, оглядываясь и крутя шеей, что пока все в похожих на нормальные чувствах, не время.
Забрался на подиум вице-губернатор и крикнул:
– А я скажу. И поздравлю милейшую…
– Браво! – всполошились. – Просим. Просим немного, – неожиданно крякнул сосед Арсения и попытался опустить голову на неправильно удерживаемые ножик и вилку, чему Арсений еле успел воспрепятствовать.
– А что скажу, – громовым бархатным баритоном вывел областной вице. – Кто не с нами, тот… – и он взмахнул вилкой, как дирижерской палочкой.
– Тот против нас, – слаженно рявкнул зал.
– Кто против нас, тот…
– В жизни пас.
– Свиней пас…
– Покойник в час, – ответил зал. – Зараз, пидарас, – добавил кто-то вразброд, но тихо.
– Старые подряды, новые…
– Награды, – догадался зал. – Парады, – влез отдельный голос.