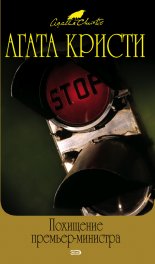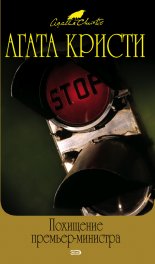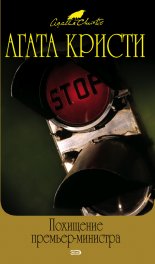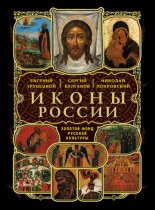Люди, обокравшие мир. Правда и вымысел о современных офшорных зонах Шэксон Николас

Во всем мире в трасты вложено несколько триллионов долларов
И когда сенатор де ла Торре в 1934 году нашел в трюме Norman Star погребенные под гуано ящики с документами Вести, он, возможно, даже не догадывался, насколько изобретательны его соперники. Вскоре после инцидента на корабле Norman Star нашли новые изобличающие Вести документы – на этот раз в Уругвае. А сенатору удалось добиться еще одного успеха: он убедил министерство иностранных дел Великобритании (британские дипломаты были глубоко обеспокоены сомнительным деловыми приемами братьев Вести) принять запрос Аргентины о проведении расследования межгосударственной комиссией.
«Уильям немедленно понял опасность, – писал Найтли. – Комиссия, несомненно, захочет изучить бухгалтерские книги в Лондоне, и нельзя предсказать, что обнаружится в ходе подобной проверки». Братья перешли в наступление. Когда их управляющий в Аргентине умер от сердечного приступа, Уильям Вести написал письмо в комиссию, расследовавшую деятельность братьев, и обвинил в его смерти сенатора де ла Торре. Правительство Аргентины ответило яростной отповедью, назвав письмо Вести «беспрецедентной наглостью». Министерство иностранных дел Великобритании согласилось, что письмо Уильяма оскорбительно, но заявило, что ничего сделать не может. С этого момента дело пошло на спад.
Межгосударственная комиссия работала два года, в течение которых братья Вести использовали все свои связи в Лондоне, чтобы лишить ее работу всякого смысла. Несмотря на то что было проведено шестьдесят заседаний, а в отчете содержались детальные подробности аргентинской торговли мясом, комиссии так и не удалось добраться до бухгалтерских книг Вести в Лондоне. Филип Найтли описывает, что произошло потом: «Сенатор де ла Торре, человек, который более чем кто-либо другой приблизился к проникновению тайны империи Вести, застрелился 5 января 1939 года. В своей предсмертной записке он выразил все свое разочарование в разумности поведения человечества».
Тем не менее Налоговое управление Великобритании уже начало собирать силы для следующего штурма трастов Вести. Налоговики опирались на закон 1938 года о финансах, надеясь, что он позволит им облагать налогами зарубежные трасты. Свои атаки Управление продолжало даже в 1942 году, в самый разгар Второй мировой войны. Уильям Вести умер двумя годами ранее, до последнего вздоха борясь с налоговиками, оставив после себя в Великобритании всего лишь 261 тысячу фунтов стерлингов и проклиная «несправедливые налоги на наследство». Траст, живой и здоровый, продолжал выплаты членам семьи. Новый британский закон определял: если человек обладал «правом на получение» дохода (эта формулировка, по-видимому, охватывала и семью Вести), он подлежал налогообложению. Поначалу казалось, что Налоговое управление берет верх, однако налоговикам не удалось раздобыть оригиналы документов парижского траста. Последним известным семье Вести местонахождением этих документов была какая-то коробка, которую видели в Бордо незадолго до того, как в город вошли немцы. И все же налоговики продолжали добиваться успеха, отклоняя апелляции семьи одну за другой. Однако в заключительной схватке удача перешла на сторону семьи. До принятия закона о финансах Вести предстали перед высшим судом Великобритании; они сумели убедить судебных лордов, что не располагают индивидуальными правами управлять доходом, что у них есть только совместные права. И снова Вести благодаря этой уловке увернулись от налогов – в то время, когда молодые британцы отдавали свои жизни на полях сражений Второй мировой.
Подобная игра продолжалась еще несколько десятилетий. В последующих атаках Налоговое управление Великобритании добивалось каких-то мелких успехов, но Вести всякий раз совершенствовали свою защиту, и большая часть их богатства выскальзывала из налоговой сети. «Попытки схватиться с Вести из-за налогов, – сказал сотрудник Налогового управления, – напоминают потуги зажать в кулаке кусок рисового пудинга». Вскоре после очередной атаки налоговиков Sunday Times – в то время одна из самых уважаемых газет мира – провела в 1980 году свое расследование. Было установлено, что компания Dewhurst – принадлежавшая Вести сеть розничной торговли мясом – заплатила в 1978 году 10 фунтов стерлингов в качестве налога на прибыль, которая превысила 2,3 миллиона фунтов, то есть расплатилась по ставке, равной 0,0004 %. «Перед вами – обладающая невообразимым богатством династия, и на протяжении более чем 60 лет она платит совершенно ничтожные налоги, – писала газета. – Все эти годы представители семьи
Вести наслаждаются всеми возможными благами и удовольствиями, которые могут себе доставлять богатые люди в Англии. Они не внесли ничего, что хотя бы приближалось к справедливо причитающейся с них доли. Они не дали ни гроша на те ценности, благодаря которым их жизненные удовольствия стали возможными, – на защиту от врага в военное время, на борьбу с беспорядками и болезнями в мирное время».
Неприятно об этом вспоминать, но в подавляющем большинстве откликов, присланных читателями в ответ на эту статью, семье Вести выражалась полная поддержка. «Всяческой им удачи», – обронил лорд Торникрофт, один из столпов Консервативной партии Великобритании. А Эдмунд Вести, внук лорда Эдмунда Вести, цинично бросил: «Посмотрим в лицо фактам: никто не платит налогов больше, чем его вынуждают. Мы все уклоняемся от налогов, не так ли?»13.
Лазейка, созданная парижским трастом, была закрыта в 1991 году, но у богатых британцев еще остается множество возможностей уклоняться от налогов законным образом14. Когда наконец, в результате возмущения общественности, в 1993 году подоходный налог начала платить королева, последний лорд Вести улыбнулся и сказал: «Итак, я остался один».
Как вскоре увидим, все совсем не так. Последний лорд Вести оказался вовсе не одинок.
Глава 3
За щитом нейтралитета
В четыре часа десять минут 26 октября 1932 года наряд парижских полицейских начал обыск в изысканном доме на Елисейских полях, где размещался скромный парижский офис швейцарского Basler Handelsbank 1 Некий высокопоставленный сотрудник банка представил в полицию список тысячи трехсот клиентов банка, уклонявшихся от налогов. Вскоре полицейские убедились, что поступившая информация подтверждается. В приемной они задержали нескольких человек, в карманах у которых обнаружилось в общей сложности более 200 тысяч франков наличными. По ходу расследования список подозреваемых вырос до двух тысяч имен, среди которых были богатейшие и известнейшие люди Франции.
Через две недели после обыска список оказался в руках депутата-социалиста Фабьена Альбертина. В парламенте разгорелись горячие дебаты, в ходе которых депутаты все яростнее требовали назвать имена клиентов банка. И Альбертин, раздразнив коллег некоторыми подробностями, устроил настоящий политический стриптиз: два епископа, дюжина генералов, начальник финансового управления французской армии, трое сенаторов, несколько бывших министров, ведущие промышленники, в том числе представители семьи Пежо, придерживавшийся правых взглядов владелец газеты Le Figaro, и его конкурент – владелец газеты Le Matin. Обнаружилось, что замешаны еще пять швейцарских банков. По оценке Альбертина, Франция ежегодно теряла поистине ошеломляющую сумму по тем временам – 4 миллиарда франков2. Один коммунист в парламенте сопоставил снисходительное отношение правосудия к богачам, уклоняющимся от налогов, с отношением к мелкому торговцу, которого за обман системы социального обеспечения на три года отправляют в тюрьму.
Уже в 1920-е годы, когда братья Вести упражнялись в ловкости при уходе от налогов, швейцарские банкиры вовсю рекламировали собственные гарантии «абсолютной банковской тайны». Делали они это с такой наглой назойливостью, что министр иностранных дел Швейцарии призвал их к большей сдержанности в рекламе. Правительства европейских стран были обеспокоены не только своими налоговыми поступлениями, но и бегством немецкого капитала в Швейцарию, что подрывало возможности выплат репараций, возложенных на Германию Версальским договором после Первой мировой войны. Федеральный совет Швейцарии заявил в 1924 году, что «принял решение жестко отвергать… любые меры, направленные на борьбу с этим бегством капитала» 3.
Но скандал, разразившийся во Франции, отличался от прежних. В разгар Великой депрессии во Франции готовили бюджет строгой экономии и в обществе господствовали негативные настроения. Всем тридцати восьми следователям Парижа было предписано возбудить судебные дела против людей, имена которых попали в список клиентов швейцарского банка, а министр финансов Франции пообещал бороться с уклонением от налогов «всеми имеющимися у правительства способами и средствами»4. Швейцария отвергла запросы Франции о сотрудничестве. «Предоставление французским агентам юридического сотрудничества ни в коей мере не соответствовало бы нашим интересам. Это могло бы оказать крайне неблагоприятное воздействие на весьма значительный бизнес, который обеспечивают нашим банкам иностранные депозиты», – отмечалось в одном из конфиденциальных правительственных документов5. Но когда французские власти заключили в тюрьму двух должностных лиц Basler Handelsbank за отказ от сотрудничества, Швейцария и ее банкиры нанесли ответный удар.
В первую очередь была организована кампания в швейцарских газетах, и на Францию обрушился шквал острой критики по поводу жесткой тактики ее полиции. Авторы статей игнорировали проблему уклонения от налогов в условиях строгой экономии и представляли Швейцарию жертвой правительств крупных стран, прибегающих к запугиванию. Как утверждали швейцарские газеты, развернуто «ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА ШВЕЙЦАРИЮ» и начат «НАСТОЯЩИЙ ПОХОД НЕНАВИСТИ». Заголовки тех давних статей оказались предвестниками современных: в наши дни швейцарские газеты практически дословно повторили свои обвинения, когда власти США поймали сотрудников банка UBS на очевидном оказании помощи богатым американцам в уклонении от налогов.
Принято считать, что Швейцария ввела режим банковской тайны, чтобы защитить деньги немецких евреев от нацистов
Все, происходившее далее, является для нас крайне важным. Сегодня распространена версия, будто Швейцария ввела режим банковской тайны, дабы защитить деньги немецких евреев от нацистов. Этот миф восходит к одному из документов, опубликованных в 1966 году в бюллетене банка Schweizerische Kreditanstalt (ныне банк называется Credit Suisse)6. С тех пор швейцарские банкиры используют его с максимальным эффектом. Американские представители, которые в то время вели переговоры со Швейцарией о новом налоговом соглашении, предъявили официальную претензию, что им слишком часто приходится выслушивать лекции о банковской тайне, якобы введенной ради защиты еврейских денег. Именно эта история получила официальное одобрение правительства Швейцарии, что и было зафиксировано в марте 1970 года в докладе Федерального совета7. Эта же версия поддержана в сенсационной публикации бывшего редактора одной женевской газеты; в книге изложен миф об агентах гестапо, проникших в Швейцарию, чтобы разузнать банковские реквизиты принадлежавших евреям счетов8. Проблема ситуации заключается в том, что вся эта история – сплошная ложь. Во время Великой депрессии в Швейцарии возникло протестное движение фермеров и рабочих, в 1931 году громко потребовавших усилить контроль над деятельностью банков. Возникла опасность проверки федеральными органами дотоле строго закрытой финансовой сферы, а значит – реальная угроза утечки банковских секретов. В ответ швейцарские банкиры не только настоятельно, но даже свирепо потребовали принятия нового закона, который приравнял бы нарушение банковской тайны к уголовному преступлению. Весьма влиятельная правая ежедневная газета Neue Zurcher Zeitung развернула в августе 1931 года кампанию острой критики государственного надзора за банками; а в феврале 1932 года ведущие банкиры представили правительству законопроект, в одной статье которого нарушение банковской тайны считалось преступлением. Однако настоящую активность правительство начало проявлять только после скандала, разразившегося в октябре 1932 года во Франции. В Швейцарии было разработано новое законодательство о банках, официальный проект которого подготовили в феврале 1933 года – за восемнадцать дней до прихода Гитлера к власти, то есть задолго до того, как он консолидировал власть и сумел установить полный контроль над всеми разведывательными службами Германии. В законе, окончательно принятом в 1934 году, формулировка статьи об обязательстве банка о неразглашении дел клиентов практически не подверглась никаким изменениям. Впервые именно в Швейцарии разглашение банковской тайны стало уголовным преступлением, караемым штрафом и тюремным заключением 9. В Германии смертная казнь за владение незадекларированными в Третьем рейхе счетами в заграничных банках была введена только в 1936 году. Даже в ассоциации швейцарских банков не располагают документальными свидетельствами той деятельности, которую якобы вели проникшие в Швейцарию агенты гестапо с целью сбора информации о деньгах немецких евреев.
Хотя сюжет о банковской тайне, возникшей из-за участия швейцарских банкиров в судьбе немецких евреев, оказался мифическим, многие считают его историческим фактом. Эта история, писал финансовый журналист Николас Фейс, «…снабдила сплачивающей идеей швейцарцев, вечно находящихся под прицелом критики; она вложила им в руки знамя нравственности, которым так удобно прикрываться, если вас обвиняют в укрывательстве преступников всех подданств и национальностей». Историю о защите еврейских денег неоднократно использовали, когда в 2008 году американское правительство начало расследование деятельности в США швейцарского банка UBS, помогавшего богатым американским клиентам уходить от налогов. «Швейцарские законы о банковской тайне, – отмечала в 2009 году газета Financial Times, – были приняты в 1934 году отчасти для защиты от нацистов немецких евреев и профсоюзных деятелей».
Сохранение секретности в Швейцарии имеет очень древние и глубокие корни. «Надо полагать, Швейцария является старейшей и самой мощной налоговой гаванью, – объясняет Себастьен Жийо, профессор истории экономики университета Лозанны. – Каймановы и Багамские острова – всего лишь отростки Лондона, не обладающие настоящей автономией. Другое дело Швейцария – она не просто сейф для богатых американцев. Швейцария стала налоговой гаванью в силу мощных вековых традиций, существующих уже семь столетий и связанных с политикой тридцати или сорока семей. Если вы принадлежите к одному из этих кланов, у вас в руках весь мир. Причем их влияние не зависит от финансового состояния»10.
У швейцарцев есть собственный миф об основании их страны – столь же для них значимый, как и «бостонское чаепитие» для американцев. Это сказание XIV века о Вильгельме Телле. Любой школьник знает, что Телль нанес оскорбление императорскому сборщику налогов и в наказание должен был сбить стрелой яблоко, поставленное на голову собственного сына. Легенда об отважном горце-лучнике, не признававшем власти австрийского императора, отображает идеальный образ Швейцарии, сложившийся у самих швейцарцев, – образ гордой высокогорной страны. Этот образ прекрасно соответствует такому исконно швейцарскому понятию, как Sonderfall, – представлению о том, что Швейцария занимает в мире более чем особое, более чем высокое место11.
Исторически швейцарцы веками организовывались в большие общины горцев, полагающихся только на собственные силы, что делало невозможным установление в стране власти иноземных захватчиков. Как страна Швейцария была создана из отдельных, самостоятельных, слабо связанных между собой административных единиц, разъединенных глубокими горными ущельями. В стране насчитывается четыре языковые группы. Германоговорящее большинство проживает на территории вокруг Цюриха, на востоке и в центре страны. Франкоговорящее меньшинство сосредоточено вокруг Женевы на западе страны. Еще меньшую группу составляет италоговорящее население, компактно проживающее вокруг Лугано на юге страны. Совсем маленькую ретороманскую группу представляют швейцарцы, населяющие одну долину на юго-востоке и говорящие на архаическом романшском языке. Однако надо понимать, что подобное лингвистическое членение Швейцарии очень приблизительно: прежде всего оно не совпадает с этническо-административными границами между кантонами и общинами; далеко не всегда соответствует конфессиональным различиям, существующим между протестантами и католиками; и совсем не отражает идеологических разногласий.
Обычно из-за такого этнического, языкового и культурного многообразия возникают сложнейшие проблемы, но швейцарцы научились их обходить. Во-первых, при помощи специфической внешней политики – они сохраняют нейтралитет во всех внешних конфликтах. Например, присоединение к Франции или Германии во время войн между этими странами могло столкнуть франкоязычное население с германоязычным и привести к гражданской войне. В Швейцарии традиции нейтралитета очень давние, но формально они были признаны только в 1815 году на Венском конгрессе, когда европейские державы гарантировали ей «вечный нейтралитет». Во-вторых, для преодоления внутренних разногласий швейцарцы используют продуманную политическую систему предельной децентрализации власти. При всей сложности и даже запутанности своих государственных структур, Швейцария является страной прямой демократии, а ее территориально-административные единицы обладают большими полномочиями. Все конституционные вопросы решаются исключительно при помощи референдумов – их проводят так часто, что швейцарскому правительству всегда удается опережать на шаг назревающее в обществе недовольство. Швейцарцы, как объясняет историк из Кембриджа Джонатан Стейнберг, «верят, что всегда можно прибегнуть к политическому компромиссу и всегда найдется тот или иной конституционный механизм, который позволит преодолеть любую трудность». Швейцария представляет собой «веками складывавшуюся территориальную общность, которой удалось избежать централизации, столь характерной для новой истории. Этот осколок Священной Римской империи сумел пережить и взлет и падение современного централизованного государства»12.
Из-за крайне децентрализованной структуры национальное правительство получает лишь около трети собираемых в стране налогов, остальное делится примерно поровну между 26 кантонами и приблизительно 2750 коммунами. Подобная ситуация способствует конкуренции между кантонами в снижении ставок налогов, что в свою очередь благоприятствует активизации внутренней офшорной политики: постоянное снижение налогов наряду с банковской тайной сегодня привлекает в страну ряд крупнейших корпораций мира. Уютный маленький кантон Цуг в условиях чрезвычайной секретности гостеприимно принял 27 тысяч корпораций – по одной на каждого четвертого жителя. В их числе такие сырьевые гиганты, как Glencore и Xstrata, и компания, ведущая строительство трубопровода, по которому в Европу будет поступать значительная часть российского газа. Кантон Цуг стал убежищем беглого финансиста Марка Рича (в 2001-м президент Клинтон помиловал его, что вызвало неоднозначную реакцию общественности) и приютом для многих знаменитостей, например бывшей звезды тенниса немца Бориса Беккера. Гигантские многонациональные корпорации неизмеримо превосходят кантоны по экономической мощи, что дает им огромные возможности оказывать влияние на местных законодателей. Компания Tyco Electronics Ltd, договорившись об особой ставке налогообложения, поменяла место регистрации с Бермудских островов на кантон Шаффхаузен; высокопоставленное должностное лицо компании объясняет: «Этот кантон так мал, что у вас есть любой доступ к его властям»13.
В государственной системе Швейцарии есть еще один механизм, благодаря которому финансовый капитал чувствует себя очень уверенно. Швейцарская политика основана на принципе согласия – сами швейцарцы обозначают его словом concordance. На практике это означает соглашение всех политических фракций, достигнутое в ходе переговоров. Правительством страны является Федеральный совет – коллективный орган, состоящий из семи человек, как правило, представителей разных партий. Однако члены Федерального совета всегда должны отстаивать только коллективную волю, ставя ее превыше партийных интересов. Любопытно отметить, что пикировка между правящими и оппозиционными кругами – столь обычная для демократических стран и играющая такими яркими красками на полотне их политической жизни – в Швейцарии обычно имеет приглушенные оттенки. В этой стране политикам не позволяют доводить свои разногласия до серьезного обострения. И хотя социалистическая партия издавна выступает против банковской тайны, партийные лидеры, члены Федерального совета, должны не только поддерживать официальный курс, но и следовать ему.
В своих публичных выступлениях они вынуждены прибегать к довольно уклончивым оборотам, вроде «да… действительно… но…», и это весьма ослабляет оппозицию. Правда, в последние годы принцип согласия несколько нарушается из-за шумной правой Швейцарской народной партии, выступающей против иммиграции, но при этом энергично отстаивающей банковскую тайну.
Из всего сказанного понятно, что представители финансового капитала могут не опасаться: швейцарцы не станут раскачивать лодку. Более того, система политической власти создает еще один уровень надежности. Швейцарские коммуны, возникшие из объединений свободных крестьян и городских жителей, обладают, как объясняет Стейнберг, «той любопытной устойчивостью, которая есть у куклы-неваляшки – сколько бы ребенок ни наклонял ее, она всегда принимает вертикальное положение. Центр тяжести в коммунах всегда находится внизу, поэтому социально-политический строй страны всегда находится в состоянии устойчивого равновесия». Кроме того, Швейцария, из-за горного рельефа, дробящего ее экономическую структуру, никогда не отличалась сильным рабочим движением. Например, ткацкие предприятия располагались по берегам горных рек, энергия которых приводила в движение машины, а это означало, что текстильная промышленность состояла из множества разрозненных мелких фабрик. Рассеивание рабочей силы затрудняло становление рабочего класса, обладающего самосознанием и готовностью с боем отстаивать свои права14. И указанные выше особенности, и способность системы нейтрализовывать возможные конфликты помогают объяснить, почему швейцарское общество, в отличие от остальных развитых стран, продолжает мириться с одним из самых неравных распределений богатства. Никакая народная революция в обозримом будущем Швейцарии не грозит. А это как раз то, что приходится по вкусу финансистам всего мира.
Представители финансового капитала могут не опасаться: швейцарцы не станут раскачивать лодку
В Швейцарии веками умели хранить финансовые тайны. Короли Франции высоко ценили благоразумное молчание женевских банкиров. Если обнаружилось бы, что короли-католики берут взаймы у протестантов-еретиков, это стало бы катастрофой для французской короны. Великий совет кантона Женева в 1713 году (в те времена Женева была независимым городом-государством) постановил, что банкирам «запрещается разглашать такую информацию кому-либо, за исключением самого клиента или случаев, когда на разглашение такой информации дано явно выраженное согласие
Городского совета». Но истинный расцвет банковская секретность обрела в XIX веке, когда швейцарская элита стала мечтать об империи.
В период с 1860 по 1870 год ряд мелких государств, находившихся к югу от Швейцарии, вошли в состав объединенной Италии. Нечто похожее произошло и к северу от Швейцарии, где в 1871 году появилась единая Германия. В это же время европейские державы боролись за заморские колонии. За стремительным расширением Британской империи последовала колониальная экспансия Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов и Италии. Но у Швейцарии не было выхода к морю, поэтому о создании собственной колониальной империи не могло быть и речи. Швейцарская промышленная и банковская элита разрабатывала планы либо с помощью армии захватить выход к морю, либо в результате переговоров получить доступ к порту города Генуи. Был даже план приобретения Мадагаскара у Франции. Себастьен Жийо пишет:
Итак, вы – швейцарская буржуазия, и у вас есть проблема.
У большинства конкурировавших со Швейцарией крупных буржуазных стран, особенно у Германии [и Франции], довольно быстро появились огромные армии; в процессе колониальной и империалистической гонки буржуазия начала делить мир. Швейцария оказалась окруженной именно такими державами, у которых было все: и колониальные империи, и доступ к сырью, и военно-морской флот, и торговля, и многое другое. А что было у Швейцарии? Что оставалось делать швейцарцам? Этим гордым швейцарским буржуа с многовековой историей? У них ведь не могло быть империи.
И тогда швейцарская буржуазия начала готовить принципиально иной путь, к этому времени уже наполовину сформировавшийся: она все поставила на свою политику нейтралитета. Вы третья сторона, соблюдающая принцип невмешательства во время чужих войн, – на этом можно делать огромные деньги. Вы вольны по-прежнему иметь деловые отношения с каждой из воюющих держав, вы пользующийся доверием и никому не угрожающий посредник. Из этого положения можно извлекать большую прибыль. «Если какой-нибудь немец хотел заниматься коммерцией во Франции (или наоборот), – пишет Жийо, – он делал это через Швейцарию, которая обеспечивала маскировку и предоставляла скрытые компании для завершения сделок. Таким образом коммерсанты защищали не только свои грузы, но и покупали собственное спокойствие: они могли перевозить в Швейцарию семьи и не опасаться за жизнь жен и детей». Однако не только это способствовало притоку капитала в Швейцарию. По мере того как враждующие страны погружались в экономический хаос, естественно, деньги устремлялись в мирные нейтральные страны, валюты которых оставались сильными и даже укреплялись вследствие притока иностранного капитала.
Швейцарцы уже обнаружили все преимущества невмешательства: во время Тридцатилетней войны (1618–1648) – одной из самых опустошительных войн в истории Европы – торговля шла как никогда успешно, а уровень жизни в их стране никогда не был так высок. По словам Джонатана Стейнберга, именно тогда «швейцарцы начали связывать нейтралитет с прибылью, добродетелью и здравым смыслом»15. Банкиры кантонов, которые потом образовали современную Швейцарию, в XVIII веке проявляли высокую активность по всей Европе. Его императорское величество в Вене, короли Франции и Англии, мелкие германские князья и главы французских муниципалитетов – все были в долгу у швейцарских банкиров. «От Банка Англии до Ост-Индской компании не существовало практически ни одного инструмента коллективного капиталовложения, к которому не были бы причастны власти швейцарских кантонов», – писал швейцарский историк Жюль Ландсманн16.
Швейцарские прибыли многократно возросли во время Франко-прусской войны (1870–1871)17. Жийо пишет: «Именно так и задумала швейцарская буржуазия: “В этом – наше будущее; мы будем играть на противоречиях между европейскими державами; нейтралитет станет нашем щитом, а промышленность и финансы – нашим оружием”». Еще больше прибыли принесла Первая мировая война, и элита швейцарской буржуазии начала мечтать о своей стране как о великом мировом центре финансового капитала. Кроме того, большую роль сыграл еще один фактор: европейские страны, чтобы оплачивать свои военные расходы, начали повышать налоги. Например, подоходный налог во Франции ввели только в 1914 году, а к 1925-му его предельная ставка уже составляла 90 %18. По мере роста налогов богатые граждане стали искать возможность избежать налогообложения – и их выбор пал на старую добрую Швейцарию с ее нейтралитетом. Но даже Первая мировая так не обогатила швейцарскую буржуазию, как приход к власти Адольфа Гитлера.
В один прекрасный день в октябре 1966 года комитету сената США, расследовавшему деятельность швейцарских банков во время Холокоста, дала показания маленькая морщинистая женщина по имени Эстель Сапир. В последний раз она видела своего отца через колючую проволоку лагеря на юге Франции, вскоре его отправили на смерть в один из концентрационных лагерей в Польше. Но перед смертью отец успел подробно объяснить, где помещены его активы. После войны Эстель посетила несколько английских и французских банков, и их сотрудники без всякой суеты или недовольства, по ее просьбе, проверили счета и сняли с них деньги. Затем Эстель рассказала сенаторам, что случилось, когда она отправилась в Швейцарию с найденным в бумагах отца бланком о размещении депозита. Расписка была датирована 1938 годом, банк назывался Credit Suisse.
Ко мне вышел молодой человек и спросил: «Покажите мне свидетельство о смерти вашего отца». Я ответила ему: «Откуда у меня такое свидетельство? За ним мне надо было бы обращаться к Гиммлеру, Гитлеру, Эйхману и Менгеле». Я расплакалась. Выбежала из банка на улицу. В тот же день я вернулась в банк, но так и не смогла успокоиться. Никогда больше я в Швейцарию не возвращалась. Никогда не возвращалась. Никогда.
Эстель Сапир обращалась во многие отделения банка в других странах мира с 1946 по 1957 год, и двадцать раз Credit Suisse отклонял ее просьбы о возврате ей отцовских денег.
Для многих швейцарцев Вторая мировая война была временем сопротивления и героизма – и это придавало особое значение «швейцарской исключительности». Зажатая между фашистской Италией с юга и гитлеровской Германией с севера, отважная маленькая Швейцария оставалась свободной, но одинокой. Генерал Анри Гизан, командующий швейцарской армией, 25 июля 1940 года мобилизовал весь офицерский корпус и дал обещание защищать страну. Гизан отдал приказ о стратегической передислокации: армия снималась с обороны границ страны и перебрасывалась в район хребтов и горных массивов Альп. Гитлеровские войска могли захватить Цюрих, Женеву или Люцерн, лежавшие в низинах, но им пришлось бы изрядно помучиться при попытке овладеть самой лучшей из укрепленных позиций, какие были у Швейцарии в ее неприступных горах. Швейцария, говорил Гизан, будет сражаться до конца. И это был звездный час швейцарской армии. Но за геройской историей кроется другая, менее благородная. Первая часть ее имеет отношение к швейцарским банкам. Но обнаруживается и нечто другое, менее известное.
У Швейцарии издавна была конституционная обязанность предоставлять убежище политическим беженцам. И вдруг в апреле 1933 года, всего через несколько недель после прихода Гитлера к власти, принимается новый закон, на основании которого евреи автоматически лишались права на предоставление убежища, поскольку фактически они являются не политическими беженцами, а людьми, бежавшими по причинам расового преследования. «Мы должны защищаться со всей силой и, если необходимо, безжалостно отказывать в иммиграции евреям-иностранцам, особенно с востока», – сказал Генрих Ротмунд, начальник федеральной полиции Швейцарии. Ротмунд даже потребовал от Германии в 1938 году, чтобы в гестапо ставили в паспортах евреев штамп с большой красной буквой «J»[12], дабы облегчить процесс их распознавания на пропускных пунктах19. Ради справедливости надо заметить, что это было не желанием швейцарского народа, а решением руководителей страны. Напротив, рядовые швейцарцы радушно принимали иммигрантов-евреев и вставали на их защиту, громко протестуя против жестокого обращения с беженцами.
Согласно многим свидетельствам, большинство граждан Швейцарии показали себя противниками нацизма 20.
С началом войны в 1939 году Швейцария ужесточила ограничения на въезд; более того – из страны были насильственно высланы многие евреи, которые, спасаясь от нацистов, сумели пробраться в Швейцарию горными дорогами. Швейцарских евреев власти обязали платить за каждого нового еврейского беженца и заботиться о всех вновь прибывших. «Перед тем как предоставить право искать убежище на территории Швейцарской Конфедерации, беженцев подвергают строгим допросам, – сообщала одна швейцарская газета. – Люди с большим состоянием пользуются правом убежища без допросов»21. Как объясняли швейцарские чиновники, «политика невмешательства» означает только военный нейтралитет. А по словам президента Швейцарской Конфедерации, экономический нейтралитет – «неизвестный юриспруденции термин». Наконец, в 1942 году Швейцария фактически закрыла свои границы для искавших спасения евреев22. Том Бауэр, автор книги «Blood Money: the Swiss, the Nazis, and the Looted Billions» («Кровавые деньги: швейцарцы, нацисты и украденные миллиарды») пишет, что евреи, попавшие в Швейцарию легально, были «теми немногочисленными счастливцами, которые сотрудничали со швейцарцами, позволяя им наживаться на своем несчастье». Например, один немецкий еврей-бизнесмен получил гарантированную визу на въезд в Швейцарию, когда продал за одну марку свою обувную фабрику в Берлине швейцарской компании.
Еще в начале войны крупные немецкие корпорации и очень состоятельные частные лица стали накапливать средства в Швейцарии, чтобы в случае возможного поражения Германии создать новый, Четвертый рейх 23. Министерство экономики Германии в сентябре 1939 года создало особый отдел контроля над валютным обменом – по сути для сокрытия немецкой собственности за рубежом, особо пристальное внимание уделялось, конечно, Швейцарии. Ведущие немецкие корпорации, прежде всего производители вооружений и химический гигант IG Farben, поставлявший отравляющий газ в нацистские лагеря смерти, наняли швейцарцев в попечители и управляющие для организации тайной юридической структуры собственности24. Швейцарские агенты Германа Геринга, Йозефа Геббельса, Йоахима фон Риббентропа и самого Гитлера помогали хранить множество ценностей, золото и произведения искусства из разграбленных нацистами европейских галерей и частных коллекций. В записке, подготовленной Государственным департаментом США на основе захваченных немецких документов, в общих чертах описаны схемы, хорошо знакомые современным специалистам по офшорам: фальшивые счета-фактуры, подставные компании, тайные хранения, отложенные платежи по фальшивым контрактам и тому подобное. Высокопоставленный бернский банкир признался одному британскому дипломату в 1941 году, что «во всех странах нацистского блока каждый крупный член правящих группировок имеет средства в Швейцарии»25. Гитлер так и не вторгся в Швейцарию; по одной версии, принадлежавшей высокопоставленному нацистскому чиновнику, потому, что эта страна представляла для него слишком «неудобоваримый кусок»26; по другой, по словам одного бернского юриста, – Швейцария и крохотный соседний Лихтенштейн, служили ему «сейфами»27.
Как современные налоговые гавани с радостью принимают коррупционные деньги, валом валящие к ним из развивающихся стран, так и Швейцария, видимо, прямо и активно покровительствовала созданной нацистами коррупционной системе. Гитлеровская Германия исчерпала свой золотой запас и валютные резервы уже в 1941 году, и правительство Швейцарии предложило Германии кредит в размере 850 миллионов швейцарских франков, а швейцарские промышленники поставляли нацистам вооружение и аппаратуру. По заключению Независимой комиссии экспертов, «. военную экономику Германии субсидировала Швейцария», а ее собственные химические, машиностроительные, часовые заводы, предприятия высокоточных измерительных приборов переживали «подлинный бум»28.
Союзники по антигитлеровской коалиции потребовали у правительства Швейцарии ограничения торговли с Германией. Швейцарские чиновники очень «огорчились» из-за «необоснованных» претензий и откровенно отчитали послов союзных государств. Более того, швейцарцы потребовали права вести торговлю с Японией29. По словам американского консула в Базеле, швейцарские банкиры превратились в «фашистских финансовых агентов». Когда осенью 1942 года сотрудники швейцарского Красного Креста получили прямые и неопровержимые свидетельства геноцида и стали подумывать о заявлении протеста, правительство Швейцарии приказало им замолчать30. Министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден в том же году вызвал посла Швейцарии в Лондоне, чтобы заявить ему протест против переговоров о заключении нового торгового соглашения между Швейцарией и Германией; и только постепенно до сознания министра стало доходить, что швейцарский посол просто не понимает, что нацизм – это зло, которое подлежит уничтожению31. В октябре 1942 года Швейцария предоставила Германии еще один крупный кредит для закупки вооружений. А в декабре того же года консервативная газета Neuer Zurcher Zeitung написала: «Еврейский вопрос обернулся массовым убийством евреев».
После высадки союзников в Нормандии в 1944 году агенты союзных разведок отмечали резкое увеличение ввоза в Швейцарию трофейного имущества, сопровождавшееся стремительным увеличением золотых резервов других стран, официально соблюдавших нейтралитет, – Испании, Турции и Швеции. Разведчики также наблюдали оживление грузопотока из Испании в Латинскую Америку, предположительно, вызванное транспортировкой нацистских сокровищ. Союзники подготовили операцию под кодовым названием «Надежное убежище» с целью отследить немецкую собственность и принудить нейтральные страны к отказу от укрывательства нацистских трофеев. От этих стран требовали «незамедлительно принять меры» и не принимать, не хранить, не передавать и не скрывать преступные сокровища32.
В сентябре 1944 года, по мере продвижения союзных войск к границам Швейцарии, ассоциация швейцарских банков пообещала прекратить сотрудничество с немцами, но только на основе саморегулирования – без контроля извне. Казалось, англичане удовлетворены, чего нельзя было сказать об американцах. Швейцарские банкиры держались твердо. США усиливали давление, тогда как Великобритания не проявляла никакого рвения. Разумеется, отслеживать нацистские трофеи было нелегко: после месяцев расследования английский торговый атташе в Берне Уильям Салливан сообщал, что все усилия наталкивались на «непроницаемость, характерную для рэкета»33. Впрочем, позицию Великобритании нельзя было даже назвать вялой. «В Швейцарии, – писал Э. Г. Блисс, чиновник британского министерства экономической войны, – маскировка деятельности немцев не является ни преступной, ни предосудительной». Нейтральные страны, утверждал Блисс, не обязаны выдавать немецкие активы, если не доказано, что они похищены. «Мы полагаем, что нейтральные государства могут использовать немецкие деньги для погашения собственных претензий к Германии»34. Подобная позиция ошеломляла американцев.
Министр финансов США Генри Моргентау обнаружил, что его попытки отследить спрятанные в Швейцарии нацистские трофеи встречают сопротивление со стороны сотрудников Государственного департамента его родной страны. Том Бауэр писал в своей книге: «Моргентау подозревал, что не следует недооценивать влияние Лондона» 35. Агенты американской и британской разведок препирались по поводу банка Johann Wehrli, который, как было известно союзникам, служил каналом перевода нацистских активов в Латинскую Америку. Великобритания противилась попыткам США внести этот банк в черный список, американцы подозревали, что банк находился под защитой капитана Макса Бинни, зятя Верли и почетного британского консула в Лугано36, однако Великобритания противилась попыткам США внести этот банк в черный список. Премьер-министр Уинстон Черчилль в речи, произнесенной в декабре 1944 года, с похвалой отозвался о Швейцарии, которая «имела величайшее право на награду» как «демократическое государство, отстаивающее свободу и в своих горах, и в своих помыслах, несмотря на давление, оказываемое в основном с нашей стороны»37. Возможно, эти слова и были справедливы по отношению к большинству швейцарцев, но совершенно неоправданны в отношении швейцарских правителей и банкиров.
К февралю 1945 года победа союзников уже стала неизбежной, и Швейцария пошла на новые уступки, пообещав заморозить немецкую собственность и вернуть нацистские трофеи их настоящим владельцам. Однако юристы союзников вскоре выяснили, что в процессе очень неспешного выполнения своих обязательств швейцарские власти возводят все новые преграды, придумывая многочисленные уловки и лазейки. Один из юристов описал ситуацию, происходившую тогда в Швейцарии, как «сигнал, подаваемый немцам, прятать богатства, чтобы избежать наказания». Давление союзников усиливалось, и тогда Швейцария поставила Великобританию перед сложным вопросом: изменение швейцарских законов и открытие банков для поиска не имеющих наследников активов могло означать разрешение на проверку британских счетов в швейцарских банках. Даже намек на такую возможность, отмечает Бауэр, «в министерстве финансов Великобритании назвали “мощной взрывчаткой”, обращение с которой требует “величайшей осторожности”». Высокопоставленный британский чиновник предупредил, что вмешательство в швейцарские банковские тайны «возымеет следующий эффект: британские банки будут вынуждены в некоторых случаях раскрыть имена собственников номерных счетов». Эдди Плейфер, занимавший высокую должность в министерстве финансов Великобритании, заявил, что Британии «не следует с этим торопиться. мы не хотим, чтобы нас вынуждали раскрывать наши банковские секреты». Британскому юристу Динглу Футу срочной телеграммой из Лондона сообщили: «Вы не должны (повторяем, не должны) предпринимать ничего такого, что привело бы к запросам о раскрытии информации британскими банками»38.
Швейцарцы все-таки подписали всеобъемлющее соглашение с союзниками о прекращении бизнеса с нацистами и замораживании их активов. Это произошло 8 марта 1945 года. Но Швейцария продолжала играть на два фронта. Через три недели швейцарские высокопоставленные официальные лица подписали с немецкими чиновниками секретное соглашение, по которому их страна обязалась принять еще три тонны трофейного золота – какую-то часть его составляли переплавленные зубные коронки и обручальные кольца, снятые с евреев и цыган в концентрационных лагерях39.
После капитуляции Германии в мае 1945-го начала разворачиваться длинная и запутанная история, вызванная гневом американцев, стремлением британцев спустить дело на тормозах, двурушничеством и запирательством швейцарцев.
Многие в Великобритании настаивали на более снисходительном отношении к швейцарским банкирам, оправдывая их поведение тем, что именно такая политика позволила Швейцарии сохранить нейтралитет во время войны. Поэтому и после войны позиция Великобритании оставалась неизменной. Британские дипломаты – эти «женоподобные слабаки», как их охарактеризовал Джеймс Манн, высокий чиновник из министерства финансов США, – продолжали противодействовать введению санкций против швейцарских банков. Манн полагал, что Великобритания нуждается в швейцарских займах, – и оказался прав. За неделю до того как в Вашингтоне должны были начаться переговоры между Швейцарией и западными союзниками, Швейцария предоставила Великобритании первый кредит. Посол Швейцарии в Лондоне заявил, что заем предоставили в целях «…обеспечить снисходительность британского правительства… если иметь в виду будущие переговоры с союзниками». Франция получила еще больший кредит; по признанию другого швейцарского чиновника, это было сделано, чтобы на тех же переговорах «не выводить французов из душевного равновесия».
Швейцарские банки не передали никаких сведений о личностях своих иностранных клиентов, не являвшихся немцами. А процедурой выявления немецких активов занялась полугосударственная швейцарская контора, которая переложила большую часть своей работы на плечи самих банков40. Первый же аудит, проведенный ассоциацией швейцарских банков по ею собственной инициативе, выявил активы жертв нацизма, не имеющих наследников, на сумму всего лишь 482 тысячи франков. При другом аудите, проведенном под давлением еврейских организаций в 1956 году, банки сообщили о 86 счетах на общую сумму 862 тысячи франков. Американские евреи продолжали давить на Швейцарию вплоть до 1990-х годов, и очередной аудит, выполненный швейцарцами в 1995 году, выявил еще 775 счетов, принадлежавших иностранцам. Общая сумма, хранившаяся на этих счетах, составляла 38,7 миллиона франков. В мае 1996 года Швейцария согласилась на проведение независимого расследования с правом изучения банковских документов. Комиссию возглавил Пол Волкер, бывший председатель Федеральной резервной системы США [далее везде ФРС]. Кроме того, парламент Швейцарии согласился провести собственное расследование. К этому времени в судах США уже рассматривались несколько коллективных исков. Комиссия Волкера обнаружила еще 53 886 счетов, возможно, связанных с жертвами Холокоста41, и в августе 1998 года швейцарские банки согласились выплатить 1,25 миллиарда долларов в качестве урегулирования этих коллективных исков. Британские банковские тайны так никогда и не были раскрыты. Банк Credit Suisse, наконец, обнаружил счет отца Эстель Сапир и урегулировал дело, выплатив ей полмиллиона долларов.
Швейцария остается крупнейшим в мире хранилищем грязных денег. На офшорных счетах, принадлежащих нерезидентам Швейцарии, в 2009 году лежало около 2,1 триллиона долларов. Примерно половина этих денег принадлежала европейцам. До мирового финансового кризиса сумма составляла 3,1 триллиона долларов42. По оценкам, сделанным в 2009 году аналитиками швейцарской брокерской фирмы Helvea, эта сумма соответствует примерно 80 % тех денег, которые не были задекларированы европейскими владельцами в своих странах 43. Если говорить об итальянцах, данный показатель достигает 99 % 44.
Швейцария остается крупнейшим в мире хранилищем грязных денег
Швейцарский парламентарий и яростный противник банковской тайны Рудольф Штрам обращает внимание правительств тех стран, которые пытаются пресечь уклонение от налогов через Швейцарию, на один важный момент. Поскольку офшорная система имеет в стране крепкие традиции и за многие столетия пустила мощные корни в ее общественную и политическую жизнь, внутреннее сопротивление банковской тайне бесполезно. Однако давление извне, направленное непосредственно на правительство Швейцарии, обычно также не приносит результатов. Успешными оказываются только те внешние вмешательства, которые нацелены непосредственно на швейцарские банки. Только это вынуждает банкиров идти на перемены. Последний пример: когда правительство США пригрозило UBS самыми страшным последствиями, Швейцария подписала в 2010 году соглашение об обмене информацией, касающейся более четырех тысяч американцев, имеющих счета в этом банке. «Оказывать давление на швейцарское правительство бесполезно, – говорит Штрам. – Чтобы добиться перемен, нужно давить на банки» 45.
В последнее время раздаются голоса, что эти изменения «распечатали банковскую тайну» (воспользуюсь формулировкой автора статьи, появившейся в 2010 году в журнале Time)46. Однако подобные заявления уводят от действительности: на самом деле Швейцария уступила совсем немного. Соглашение, которого добились США, – действительно прорыв, но оно предусматривает обмен информацией с другими странами, применяемый только при стандартах прозрачности, становящихся все более неадекватными. О них речь пойдет ниже. Последние изменения, внесенные в банковскую тайну, слишком скромны – и приносят пользу только гражданам кучки богатых стран. Как обычно, развивающиеся страны остаются за рамками соглашений[13].
Глава 4
Антитеза офшорам
Третий том жизнеописания Джона Мейнарда Кейнса – великого английского экономиста – увидел свет в 2002 году. Удивляет слишком оборонительная интонация, прозвучавшая в предисловии к этому американскому изданию. Предисловие написал Роберт Скидельски – английский экономист и известный биограф Кейнса. Скидельски возражал против обвинений, выдвинутых в его адрес другим известным экономистом Брэдфордом Делонгом, будто он, Скидельски, подпал под «влияние странной и даже зловещей секты британских консерваторов-империалистов»1. Версия, которую отстаивает Скидельски, вкратце такова: во время Второй мировой войны Великобритания на самом деле вела две войны. На фронтах первой – страна, возглавляемая Уинстоном Черчиллем, сражалась с нацистской Германией, на фронтах второй – с Америкой. «Вторую войну», проходившую между союзниками, возглавил Джон Мейнард Кейнс. Скидельски считает, что для США второй целью после основной – разгрома держав гитлеровской коалиции – являлось уничтожение Британской империи. «Черчилль сражался с нацистской Германией за сохранение Британии и ее имперских территорий; Кейнс бился с США за сохранение Британии как Великой державы. Войну с Германией Британия выиграла, но при этом истощила свои ресурсы до такой степени, что обрекла себя и на отказ от имперских амбиций, и на утрату великодержавного статуса»2.
Аргументация всех участников спора была довольно запутанной, и в этом нет ничего удивительного, ведь на переговорах в Бреттон-Вуде (1944) главный партнер Кейнса со стороны Соединенных Штатов почти наверняка передавал информацию Советскому Союзу – им был Гарри Декстер Уайт [14]. Однако версия, предложенная Скидельски, не оставляет сомнений: США и Великобритания тихо сцепились в титанической борьбе за финансовое господство. В конце концов два экономических конкурента достигли договоренности, правда, случилось это лишь спустя много лет после окончания войны. Такое станет возможным, как я покажу в следующей главе, благодаря созданию современной системы офшоров. В настоящей главе речь пойдет о мире, сложившемся сразу после войны, – о международной финансовой системе, спроектировать которую помог Кейнс. Она предусматривала, с одной стороны, тесное сотрудничество между национальными государствами, с другой – строгий контроль над их взаимными потоками капитала. В известном смысле, финансовая модель Кейнса – полная противоположность нынешней либеральной офшорной системы – при всех своих ошибках принесла огромный, поразительный результат.
Кейнс имел довольно сложный характер – впрочем, это явление вполне обыкновенное для человека, сумевшего добраться до вершин мировой политики. Его жизни с лихвой хватило бы на двадцать человеческих судеб. Стареющий Альфред Маршалл, который был ведущим экономистом своего поколения, прочитав работу молодого Кейнса, сказал: «Истинно говорю вам, что нам, старикам, пора повеситься, если молодые люди способны излагать свои мысли так откровенно и преодолевать столь большие трудности с такой завидной легкостью». Кейнс впервые заставил громко заговорить о себе в 1920-м, когда появилась его книга «Экономические последствия Версальского мира» («The Economic Consequences of the Peace», 1920). С провидческим даром он предлагал ряд мер, которые могли бы радикально изменить послевоенный политический ландшафт. Кейнс возражал против наложения на Германию, проигравшую Первую мировую войну, огромных контрибуций, поскольку они могут окончательно развалить ее экономику, а заодно – разрушить всю Европу. Последствия подписанного мирного договора, предупреждал он, будут ужасны: «Этот мир возмутителен, невозможен и не в состоянии принести ничего, кроме новых несчастий»[15]. Кейнс оказался прав: именно новый передел и политический кавардак в послевоенной Европе и привели к власти Адольфа Гитлера, заложив фундамент Второй мировой войны.
Его жизни с лихвой хватило бы на двадцать человеческих судеб
Вскоре Кейнс занялся спекуляциями на международных валютных и товарных рынках. Его очень заинтересовал вопрос крайней нестабильности рыночных цен. Он отказался от использования растлевающей инсайдерской информации, хотя именно она стала двигателем финансового бума 1920-х годов. Кейнс действовал иначе: вооруженный поистине энциклопедическими знаниями о финансовых системах, прекрасно разбиравшийся в закоулках международной политики, проанализировавший все финансовые неврозы и предрассудки, с которыми ему приходилось иметь дело, он с головой нырнул в исследование балансовых отчетов разных фирм и их статистических показателей. На финансовые документы он мог тратить не более получаса в день и занимался ими по утрам, лежа в постели3. Об изучении статистических данных Кейнс писал, что «ничего, кроме секса, не может быть столь же захватывающим»4. Сначала благодаря своим исследованиям он нажил целое состояние; потом он, правда, почти все потерял. Но банкротство не прошли даром – Кейнс извлек хороший урок, испытав на себе, что такое иррациональное поведение рынка.
Годы спустя, одновременно с возведением здания своей экономической концепции, воплотившейся в знаменитой книге «Общая теория занятости, процента и денег» («General Theory of Employment, Interest and Money», 1936)[16] – ставшей за прошедшее столетие, пожалуй, самым мощным учебником по экономике – Кейнс построил в Кембридже за собственные деньги театр, а при нем открыл ресторан. Он собирал ресторанные счета и нераспроданные театральные билеты, сопоставлял доходы ресторана с посещаемостью театральных представлений, на основе этих данных вычерчивал кривые успеха и неудач – и благодаря такому невероятному анализу сумел добиться впечатляющего профессионального и коммерческого успеха. Его женой стала русская балерина. Чем только ни занимался Кейнс: он был весьма уважаемым искусствоведом, государственным чиновником, на голову превосходившим коллег, дипломатом, необычайно энергичным редактором экономических журналов. пишущим журналистом, чьи статьи оказывали мощное влияние на курсы валют. О его работе по теории вероятностей («Трактат о вероятности») эрудит и философ Бертран Рассел отозвался так: ее «невозможно хвалить сильнее, чем она того заслуживает», добавив, что интеллект Кейнса «… отличался такой ясностью и остротой, каких я более не встречал…». О своих беседах с Кейнсом Рассел писал, что, вступая с ним в спор, всегда чувствовал себя так, будто его «душа подвергается опасности»[17]. Идеи Кейнса оказались глубоко созвучными нашему времени. Прошло шестьдесят три года после его смерти, и лауреат Нобелевской премии экономист Пол Кругман в статье «Почему экономическая наука бессильна?», разбирая причины, по которым кризис застал экономистов врасплох, приходит к выводу, что «кейнсианство остается лучшей из имеющихся теорий о природе рецессий и депрессий» [18]. Кейнс был отличным экономистом и «никогда не переключал фары с дальнего света на ближний». В конце жизни Кейнс заметил, что сожалеет только об одном – о том, что слишком мало выпил шампанского.
Многие биографы, стремясь придать больше блеска личному и профессиональному наследию Кейнса, лакируют те стороны его жизни, которые, по их мнению, общество могло бы счесть неприглядными. В очень откровенном письме близкому другу Литтону Стрейчи он писал: «Я хотел бы управлять железной дорогой, создать трест или, по крайней мере, надувать почтенных инвесторов»[19]. Сэр Рой Харрод, один из биографов Кейнса, заменил фразу «надувать инвесторов» многоточием. Но никоим образом нельзя считать Кейнса мошенником, просто в нем было много озорства, безошибочного чутья и безусловной одаренности – всего, что так восхищало в нем Литтона Стрейчи и что доводило благочестивую викторианскую публику до шокового состояния. Эта пара – Кейнс и Стрейчи – с удовольствием предавалась пороку, который Скидельски назовет «модной для тех времен склонностью к привлекательным юношам и кощунственному поведению». Кейнс не мог не осознавать, что отчасти сам загнал себя в ловушку собственной, как он писал, «отталкивающей репутации». Но ему повезло. В эпоху, когда гомосексуальность сурово наказывалась (гомосексуалистов приговаривали к химической кастрации даже через много лет после смерти Кейнса), значительная часть его жизни прошла в весьма толерантной обстановке – академической и культурной среде Кембриджа, где, по словам самого Кейнса, «даже бабники прикидывались гомосексуалистами, чтобы не утратить собственной респектабельности»5.
Кейнс с юности принадлежал к избранному кругу английских интеллектуалов. Он был признанным авторитетом в элитарной группе Блумсбери, члены которой – по крайней мере до Первой мировой войны, привнесшей тяготы в жизнь многих, – называли себя авангардом британского искусства, философии, культуры и, по определению одного из членов кружка, бунтарями, «восставшими против викторианства». Однако Кейнс – этот нонконформист, выбравший путь атеизма, пацифизма и сексуальной раскрепощенности, – всегда принадлежал к британскому истеблишменту. В разное время он возглавлял Банк Англии, был казначеем Королевского колледжа в Кембридже и членом правления в Итоне.
Довольно забавно (это отмечает и Роберт Хайлбронер), что именно Кейнс – плоть от плоти британской элиты, порой выказывающий все присущие ей предрассудки, и в первую очередь высокомерие и антидемократизм, – предложил рядовому человеку лекарство от нужды и безработицы. Лекарство Кейнс назначил в «Общей теории занятости.» – книге, появившейся уже на исходе Великой депрессии; в рецепте было прописано следующее: в случаях, когда у частного бизнеса исчезают стимулы вкладывать деньги, восполнить недостающее звено временно должно государство. «Казалось предельно логичным, – пишет Хайлбронер, – чтобы взявшийся изучить и нарушить это парадоксальное соседство дефицита производства и тщетно ищущих работу людей человек происходил из левой части политического спектра и активно сочувствовал пролетариату, иными словами, был зол на систему…»[20] Ничто не могло быть дальше от истины, чем эти логичные предположения.
После смерти Кейнса критики неоднократно пытались связать его идеи с социализмом или коммунизмом. Когда в 1947 году увидел свет первый вводный курс по его экономической теории, американские правые развернули кампанию, заставляя многие университеты отменять заказы на этот учебник. Один из идеологов американского консерватизма Уильям Ф. Бакли обрушился на тех, кто приобрел книгу, обвиняя их в пропаганде «порочных идей». Неприятие кейнсианства живо и по сей день, приведу недавний пример: противники Барака Обамы утверждают, что экономическая программа президента очень напоминает кейнсианские попытки с помощью финансируемых за счет дефицита бюджета общественных работ ограничить систему свободного предпринимательства и преобразовать традиционный капитализм по советскому образцу. Однако вопреки домыслам консерваторов Кейнс никогда не разделял социалистических взглядов и никогда не был сторонником Маркса и Энгельса. Он считал государственное вмешательство лишь временной мерой и всегда страстно верил, что свободные рынки и торговля – лучшие пути к процветанию: «Я стою на защите свободы частного суждения, частной инициативы и частного предпринимательства, эти свободы следует сохранять настолько широкими, насколько возможно». Кейнс пытался не губить, а спасать капитализм.
Когда у частного бизнеса исчезают стимулы вкладывать деньги, восполнить недостающее звено временно должно государство
Многие критики Кейнса, постоянно твердящие о его скандальных идеях и эпатирующем образе жизни, даже не осознают, что сами находятся под глубоким влиянием его учения. Действительно, американская экономика с конца 1940-х годов полагается на огромные дотации, которыми налогоплательщики дополняют частные инвестиции. Явно имея в виду фразу, сказанную Ричардом Никсоном в далеком 1965 году: «Мы все сейчас кейнсианцы», – Пол Кругман уже в 2000-е годы не только заявлял, что он «… всегда был кейнсианцем», но и «… похоже, кейнсианские воззрения остались единственными достойными внимания».
Сторонники фритрейдерства господствовали на протяжении почти всего XIX столетия. Тогда многие считали самоочевидным, что свобода торговли обеспечивает процветание государств и несет мир их народам, поскольку экономические связи между странами и узы взаимозависимости препятствуют развязыванию войн. Такая уверенность немного напоминает незабвенный довод Томаса Фридмана, приведенный им в 1990-е годы, будто страны, где открыты рестораны «Макдоналдс» – эти истинные символы фритрейдерства и Вашингтонского консенсуса [21], – уже никогда не смогут воевать друг с другом. (Правда, подобным разговорам положил конец март 1999-го, когда авиация
НАТО начала бомбардировки Белграда.) В течение очень недолгого времени Кейнс тоже веровал в свободу торговли. «Как и большинство англичан, я воспитывался в уважении к свободной торговле и не только как к экономической доктрине, – писал он в 1933 году. – Ее принципы едва ли не приравнивались к нравственному закону. Любое отклонение от них я считал одновременно и проявлением слабоумия и грубым произволом»6.
Когда две стороны торгуют друг с другом – это встреча более или менее равных партнеров. Но Кейнс понимал, что в финансах дела обстоят несколько иначе. Кредитор и заемщик находятся совсем на разных ступенях финансовой иерархической лестницы. Такое положение вещей замечательно прокомментировал Джеймс Карвилл, советник Билла Клинтона: «Если переселение душ действительно существует, то я хотел бы переродиться в рынок облигаций. Можно будет всех запугивать». Капиталисты-промышленники подчинены финансовым капиталистам, и интересы этих двух групп часто расходятся. Так, финансисты любят высокие процентные ставки, из которых можно извлекать немалые доходы, а промышленникам по душе низкие ставки, снижающие их затраты. Кейнс признавал этот конфликт, но с одной поправкой: финансовые узы, скрепляющие разные государства, вовсе не являются гарантией мира во всем мире – ведь «в свете жизненного опыта и дальновидности легче доказать совершенно обратное». Началась Великая депрессия, и в 1933 году, на который пришелся пик самоубийств биржевых маклеров; во времена, когда царила атмосфера бесплатных столовых и массовой, ставшей уже системной, безработицы, взгляды Кейнса на свободную торговлю претерпели изменения: «. Но позвольте нашим товарам быть местного производства, поскольку это и разумно, и удобно; а главное, позвольте нашим финансам быть прежде всего национальными».
Великая депрессия началась в 1929 году и стала кульминацией длительного периода экономической свободы, ослабления государственного регулирования финансовых рынков и безудержными биржевыми играми на повышение курса – все это вызвало настоящий разгул ссуд, кредитов и долговых обязательств, в свою очередь приведший страну к просто ошеломляющему экономическому неравенству. Например, на излете биржевого бума, скорее напоминавшего агонию, двадцать четыре тысячи самых богатых кланов Америки получали доходы, «втрое превышавшие достаток» шести миллионов самых бедных семей7. То есть американская элита, составлявшая всего один процент общества, имела почти четверть всех доходов. Эта пропорция лишь немного превышает ту, что была зафиксирована в начале глобального кризиса в 2007 году. «Мы вляпались в колоссальный беспорядок, – писал Кейнс, – допустив промах в управлении чувствительной машиной, функционирования которой мы не понимаем». Трудно не заметить сходства с нынешней ситуацией.
В те дни не существовало взаимосвязанных офшоров, о которых можно было бы говорить как о целостной системе. Всего насчитывалось несколько зарубежных юрисдикций, которые элиты разных стран использовали, чтобы уводить от налоговых органов свои состояния и доходы. Богатые «континентальные» европейцы в основном обращали внимание на Швейцарию, богатые британцы чаще прибегали к услугам соседних Нормандских островов и острова Мэн. Что же касается пристрастий богатых американцев, то огромный интерес представляет письмо, написанное в 1937 году министром финансов США Генри Моргентау. «Уважаемый господин Президент, – так начинается его послание. – В этом предварительном отчете раскрыты обстоятельства настолько серьезные, что необходимы незамедлительные действия». Уклоняющиеся от налогов американцы создают частные холдинговые корпорации за рубежом, в местах, «где налоги низки, а законы о корпорациях – размыты». Далее министр финансов указывает на Багамские острова, Панаму и старейшую колонию Великобритании Ньюфаундленд. «Акционеры прибегают к всевозможным уловкам, позволяющим предотвратить получение информации об их компаниях, которые зачастую организуют через зарубежных юристов, использующих подставных лиц – на них и регистрируют компании с подставными директорами. Поэтому имена подлинных собственников нигде не появляются»8.
Схемы, описанные Моргентау, хорошо знакомы приверженцам современных офшорных мошенничеств, хотя по нынешним стандартам и крайне примитивны. «Рядовой гражданин, живущий на заработную плату, или мелкий торговец не прибегают к этим или подобным приемам. Узаконенное избежание или уклонение от налогов так называемых лидеров деловых кругов… взваливает дополнительное бремя на других членов сообщества – на тех, кто наименее способен вынести этот груз, кто уже и так послушно несет свою долю законного налогового бремени».
Несмотря на всю разницу, пролегающую между прошлыми временами и сегодняшним днем, дальновидные и проницательные предвидения Кейнса позволяют нам понять офшорную систему. В свете недавнего глобального экономического кризиса его предупреждения представляются зловещими пророчествами.
Капиталы, вложенные в заводы, обучение, исследования, заработные платы и многое другое, благодаря чему общество становится богаче, – это только одна сторона дела. Совершенно иное – финансовые инвестиции и финансовый капитал. Когда одна компания приобретает другую, то часто думают, что совершаются своего рода капитальные инвестиции. Но такие приобретения чаще всего не имеют ничего общего с реальными инвестициями. Когда компании или правительства продают облигации или акции, инвесторы за свои деньги получают клочки бумаги, наделяющие их держателя правом на участие в будущем потоке доходов. Когда облигации или акции эмитируют впервые, происходит мобилизация сбережений и сбор средств, которые направляются в производственные капиталовложения. В общем все перечисленное – вполне здоровое явление. Однако далее возникает вторичный рынок, где торгуют этими акциями и облигациями. Сделки с ценными бумагами непосредственно не увеличивают производственные капиталовложения, а просто перетасовывают права собственности. Сегодня свыше 95 % приобретений, совершаемых на мировых рынках, состоят из таких вторичных сделок, не предполагающих капиталовложений в реальное производство.
И Кейнс объяснил, что происходит, когда начинается отделение реальных предпринимательских операций от их собственников (держателей тех самых клочков бумаги), и особенно когда это происходит в трансграничном масштабе. «Если тот же самый принцип применить в международных масштабах, – пишет Кейнс, – то во времена стресса это становится нестерпимым: я веду себя безответственно по отношению к тому, что является моей собственностью, а люди, оперирующие моей собственностью, проявляют безответственность по отношению ко мне». Возможны определенные теоретические расчеты, демонстрирующие эффективность перераспределения ценных бумаг по миру в соответствии с рыночным предложением и спросом. «Но у нас все больше эмпирических доказательств того, что дистанция между собственностью и ее использованием – это зло в человеческих отношениях, вероятно (а в отдаленной перспективе наверняка), порождающее напряженность и враждебность, делающие финансовые расчеты бессмысленными».
В мире, где кредитные деривативы и разные финансовые махинации вызвали экономический хаос, создав хитроумные, но непроницаемые барьеры между инвесторами и принадлежащими им активами, слова Кейнса более чем уместны. Огромные задолженности по ипотечным займам и кредитным картам сначала обертывают в несбыточные мечты об обогащении, затем фасуют большими партиями и перепродают дальше по цепочке инвесторов – так это и расходится по всему миру. С каждой подобной сделкой увеличивается расстояние между покупателем ценных бумаг и реальными работягами и предприятиями. Хорошие проекты должны получать финансирование. Небольшая спекулятивная торговля на этих рынках повышает качество информации и сглаживает разброс цен. Но когда объем такой торговли в сотни раз превышает объем торговли реальными товарами, результатом наверняка оказывается катастрофа.
Система офшоров – своего рода первоклассная смазка, облегчающая движение капитала по всему миру во имя эффективности, – расширила эту пропасть в капитализме. Как обнаружилось после 2007 года, система отличается кошмарной неэффективностью. Вспомните об уничтоженных богатствах и обрушившихся на плечи налогоплательщиков издержках. Я не говорю уже о других генераторах дистанции между собственниками и их собственностью и об искусственности, которая таится в офшорах, о секретности и сложности, создаваемыми офшорами как корпорациями, распределяющими свои финансовые интересы по налоговым гаваням всего мира. Эта отдаленность собственников от собственности в налоговых гаванях увеличивается еще более вследствие защиты инвесторов от законов и правил других стран.
Система офшоров – своего рода первоклассная смазка, облегчающая движение капитала по всему миру во имя эффективности, не оправдала возлагавшихся на нее надежд
Офшоры препятствуют эффективному надзору за финансовыми рынками, увеличивают вероятность кризисов и позволяют богачам перекладывать как все риски, так и все расходы, предназначенные для помощи разоряющимся корпорациям, с инвестирующего меньшинства на трудящееся большинство.
Эффективность, о которой говорят поборники офшоров, фальшива. Капитал более не устремляется туда, где от него можно получить максимальную отдачу. Он направляется туда, где можно получить максимальные налоговые льготы, где обеспечена абсолютная секретность и где легче всего обходить не устраивающие капитал законы, правила и нормы. Ни одна из этих приманок не имеет ничего общего с более эффективным распределением капитала. Кейнс был абсолютно прав.
Памятуя об этом, обратимся теперь к рассмотрению одного из величайших подвигов Кейнса – построению нового мирового порядка после Второй мировой войны. Порядка, прямо противоположного системе офшоров и отрицающего эту систему.
Когда началась Вторая мировая война, Кейнса отправили в Вашингтон вести переговоры с американцами. Какая работа выпала на его долю, Кейнс понял только прибыв на место: большинство американцев относилось к его стране намного враждебнее, чем он предполагал. Рузвельт, отмечает Скидельски, ненавидел Британскую империю, не доверял английской аристократии и «подозревал Форин-офис в профашистских симпатиях»9. После краха кредитного пузыря в 1920-х годах и последовавшей Великой депрессии американцы весьма успешно ограничили и обуздали Уолл-стрит. И многие американцы относились к намного менее регулируемому лондонскому Сити, истинному центру ненавистной Британской империи, с глубокой настороженностью. В международной торговле Великобритания прибегала к дискриминации американских товаров, и противников Рузвельта из числа республиканцев страшила перспектива вовлечения в новую чужую войну. Многие спрашивали, зачем снова помогать Британии после того, как она втянула Америку в Первую мировую войну, а затем отказалась оплачивать собственные военные долги и вцепилась в свою империю? После унизительного бегства британской армии из Дюнкерка в 1940 году некоторые политики в Вашингтоне тоже заколебались: а стоит ли поддерживать то, что казалось окончательно проигранным.
Хотя центр тяжести мировой экономики уже решительно сместился из Лондона на другую сторону Атлантики – в Нью-Йорк, Британия все еще силой удерживала Индию, а также большую часть Африки и Среднего Востока, и отказывалась уходить из колоний. Воинственно настроенного Кейнса сразу признали «больно умным», что вполне соответствовало американским стереотипным представлениям о британцах, как о страшно коварных и лицемерных имперских манипуляторах, всегда готовых облапошить бедных американцев при первой же возможности. При первой встрече с министром финансов США Генри Моргентау, не любившим формальностей, Кейнс говорил в течение часа, тщательно излагая все детали. Как писал позднее чиновник, посвященный в тайны вашингтонской политики, Моргентау «не понял бы ни слова», если бы один из присутствующих переговорщиков «не записывал бы все сказанное односложными словами и не читал бы написанное министру – вот тогда-то Генри все отлично понял»10. Советник Рузвельта Гарри Гопкинс назвал Кейнса «одним из тех парней, знают ответы на все вопросы».
Проблема, стоявшая перед Кейнсом, была такова: Америка хотела, чтобы Британия, которой в соответствии с принятым в марте 1941 года законом о ленд-лизе предоставлялась огромная военная помощь, принимала участие в борьбе с фашизмом. В то же время американцы испытали большое желание низложить Британию и раз и навсегда лишить ее имперских замашек. Как писал позднее Кейнс, администрация США, «прежде чем оказать помощь», приняла все мыслимые меры предосторожности и, лишь убедившись, что британцы «очень недалеки от банкротства», решилась сделать необходимые поставки. Напротив, главной целью Британии было «сохранение достаточных активов, чтобы сохранять способность к самостоятельным действиям»11.
Для Кейнса эта дипломатическая миссия стала изнурительной войной с противником, который решительно превосходил его мощью. «Почему вы так давите на нас?» – спросил он однажды своих американских собеседников 12. Кейнс тогда серьезно болел: у него был септический тонзиллит, осложненный «расширением сердца и аорты», и он являлся представителем империи, поставленной на колени. «В тех случаях, когда Кейнс не соглашался с Уайтом [американским партнером по переговорам Гарри Декстером], – пишет Брэд Делонг, – он обычно проигрывал, так как США обладали превосходством мощи. Но мне кажется, что всякий раз Кейнс, пожалуй, оказывался прав»13.
В Вашингтоне Кейнс вел переговоры о построении нового, основанного на сотрудничестве, международного валютного порядка, который позволил бы управлять отношениями между странами мира. Доводы Кейнс черпал из опыта распоясавшегося международного капитализма, господствовавшего перед Великой депрессией и собственно породившего ее. Частные банкиры и центральные банки, возглавляемые Уолл-стрит и лондонским Сити, стремились восстановить финансовый порядок, существовавший до 1914 года и основанный на принципах свободы торговли. Порядок, дававший им устанавливать полную власть и предусматривавший сбалансированные государственные бюджеты, свободные движения валют и капитала по всему миру. Порядок, который был немного похож на современную глобальную финансовую систему.
Великая депрессия не только уничтожила мечты о таком финансовом порядке, но и полностью дискредитировала его. «Приходящий в упадок интернациональный, но индивидуалистический капитализм, – писал Кейнс, – не приведет к успеху. Он нерационален и не прекрасен. Он несправедлив и недобродетелен. И он не производит товаров. Короче, он нам не нравится, и мы начинаем презирать его». Кульминацией мирового переговорного марафона стала конференция в Бреттон-Вуде (1944) – на ней предполагалось сформировать структуру международных финансов, которая была бы работоспособной в течение будущих десятилетий. Как заявил Моргентау, целью Бреттон-Вудской системы должно было стать «изгнание занимающихся ростовщичеством кредиторов из храма международных финансов»14.
Однако конференция, в которой участвовало множество стран, обернулась своего рода американской вечеринкой: сотрудники министерства финансов США руководили редакционными комитетами и самой встречей таким образом, что нужные Америке результаты оказывались у них в руках. Председатели комитетов должны были, как сформулировал их задачи Гарри Декстер Уайт, «предотвращать голосования» по всем вопросам, по которым голосование было, по их мнению, излишним, и «организовывать дискуссии» так, чтобы не поднимать неудобных тем15. Представители других стран в основном сидели в сторонке. Кейнс недоумевал: трудно понять, что же предназначалось совершить этому международному «обезьяннику»; и потом ехидно заметил: «Ну а завершить весь праздник предназначалось острому алкогольному отравлению».
Целью Бреттон-Вудской системы должно было стать «изгнание ростовщиков-кредиторов из храма международных финансов»
Кейнсу так и не удалось сформировать ни новый Всемирный банк, ни особенно Международный валютный фонд по тому образцу, по какому он надеялся их создать. Он предполагал, что МВФ станет деполитизированным учреждением, надзирающим за механизмами, посредством которых автоматически разрешаются финансовые дисбалансы. В его системе не предполагалось, насколько это могло быть возможным, никакой политики и грубого американского влияния. По тем же причинам он не хотел, чтобы создаваемые учреждения находились в Вашингтоне. Но его усилия ни к чему не привели, и, когда на следующей встрече в 1946 году все эти вопросы были решены, Кейнс ядовито заметил: «Как-то я упустил, что все может обернуться недобрым умыслом злой феи – этой старой карги, которую я почему-то не заметил и не пригласил на бал». Кто-то услышал, как Фред Винсон, главный представитель США на переговорах, бывший, вероятно, объектом этого замечания, парировал: «Не возражаю против того, что меня уличают в коварных умыслах, но решительно протестую, чтобы меня называли феей»16.
Однако без поразительной энергии и блестящего ума Кейнса результаты для Великобритании оказались бы еще более плачевными. Прослушав выступление Кейнса, один явно очарованный канадский чиновник сказал: «Это самый необычный человек из всех, кого я когда-либо слышал. Да принадлежит ли он к нашему биологическому виду? В нем есть нечто невероятно мистическое. Я чувствую в нем что-то грандиозное, он подобен сфинксу, у которого, однако, есть намек на крылья»17. Когда больной Кейнс, устало волоча ноги, пришел на грандиозный банкет по случаю завершения Бреттон-Вудской конференции, сотни собравшихся гостей встали и в почтенном молчании ждали, когда он займет свое место.
Сегодня многие люди видят в МВФ и Всемирном банке – этих детищах Бреттон-Вуда – инструмент банкиров Уолл-стрит, прислужниц глобализации, неограниченной торговли и свободных потоков капитала. Но подобные роли не входили в первоначальный замысел Кейнса. Он стремился построить совершенно другую систему, почти полную противоположность современному миру свободного движения денег по телеграфным проводам офшорных центров. Кейнс хотел создать мир открытой торговли, но считал, что свободное движение товаров будет возможно только в том случае, если финансы останутся под строгим государственным контролем. Без такого регулирования мощные волны изменчивого и нестабильного капитала будут порождать повторяющиеся кризисы, которые в свою очередь начнут затруднять экономический рост, разрушать и дискредитировать торговлю и, возможно, бросят европейские страны с их хрупкими экономическими системами в объятия коммунистов. Как отмечал Кейнс, существует фундаментальное противоречие между демократией с одной стороны и свободным движением капитала – с другой. Если, скажем, попытаться снизить процентные ставки, чтобы стимулировать испытывающую трудности национальную промышленность, в поисках более высоких доходов капитал устремится за рубеж. Инвесторы обладают правом вето в отношении действий национальных правительств, и реальная жизнь миллионов людей определяется теми, кого индийский экономист Прабхат Патнаик назвал «сворой спекулянтов». Директивное управление, к которому прибегали правительства, подменяется неконтролируемым искусственным раздуванием экономического подъема – а такие пузыри имеют обыкновение лопаться. Свобода финансового капитала приводит к ограниченной возможности для самих стран определять собственную экономическую политику. Подобная, очень специфическая, свобода превращается в своего рода кабальную зависимость.
Рецепт Кейнса прост и эффективен: необходимо установить контроль над трансграничными потоками капитала. Такие меры возникли во время Первой мировой войны. Правительства стремились остановить бегство капитала из своих стран, чтобы иметь возможность облагать налогами доходы с капитала, удерживать процентные ставки на низком уровне и финансировать свои военные расходы. Меры контроля испарились после Первой мировой войны, потом к ним вновь частично вернулись, когда пришла Великая депрессия, и наконец с окончанием Второй мировой войны и благодаря Бреттон-Вудскому соглашению распространились на весь мир. Постепенно система контроля стала давать протечки и мало-помалу в 1970-х годах была демонтирована. В США от наиболее важных мер контроля избавились в 1974 году.
Кейнс считал, что свободное движение товаров будет возможно только в том случае, если финансы останутся под строгим государственным контролем
Людям, не сталкивавшимся вживую с действием мер контроля над капиталом, трудно их представить. Профессор Сол Пиччотто однажды показал мне свой старый паспорт с особыми страницами, называвшимися «Средства обмена иностранной валюты лицами, совершающими частные поездки». Эти страницы были густо покрыты печатями и подписями. Чтобы получить иностранную валюту для поездок за рубеж, требовалось официальное разрешение. Даже компании нуждались в разрешениях на перевод денег за рубеж. Сегодня подобная система кажется почти немыслимой. Меры контроля над капиталом ослабляли связь между внутренней и внешней экономической политикой, но оставляли возможность добиваться другого, например поддержания полной занятости. Вместо ограничения демократии Кейнс предлагал ограничить международную мобильность капитала.
Джеф Тайли, автор одной из книг о Кейнсе, считает главной причиной, по которой Кейнс поддерживал идею контроля над капиталом, его убежденность, что процентные ставки следует устанавливать и держать на низком уровне. Эта позиция прочно ставит Кейнса на сторону промышленников (для которых процентные платежи становятся издержками производства) в их противостоянии с финансистами (для которых процентные платежи – источник дохода)18. Сам Кейнс формулировал это так: «Контроль над движением капиталов должен стать постоянной характеристикой послевоенной системы». Финансам следует служить обществу, а не править им. Его Бреттон-Вудский план, при всех недостатках, обеспечил именно такое положение в мире.
Финансам следует служить обществу, а не править им
Это помогает понять, насколько далеко мы ушли от созданной Кейнсом и Уайтом мировой системы. Демонтаж мер контроля над капиталом – малая часть того, что нами сделано. Мы умудрились шагнуть за грань и вступили в мир, где капитал не только свободно перемещается из страны в страну, но и его активно поощряют к этому разнообразными офшорными приманками – секретностью, уклонением от мер благоразумного банковского регулирования, нулевыми налогами и многим другим. Возникла целая офшорная инфраструктура, у нее на службе – армия с иголочки одетых юристов, бухгалтеров и банкиров, кровно заинтересованных в ускорении потоков и усилении порочного стимулирования. Полагаю, Кейнс пришел бы в ужас.
Эта история содержит еще нечто крайне актуальное, хотя и менее известное. Сегодня господствующее течение в экономической науке основано на простой теории, суть которой можно изложить примерно так: бедные страны испытывают недостаток капитала, и иностранные инвестиции могут это восполнить. Обычно именно к такому доводу и прибегают, чтобы обосновать освобождение капитала от всякого контроля и позволить его направлять в нуждающиеся страны. Казалось бы, очень хорошая идея, но господствующее в экономической науке течение, в сущности, игнорирует простой факт: если освободить капитал, то деньги необязательно начнут приходить в нуждающиеся страны; они вполне могут и уходить из таких стран. Кейнс прекрасно осознавал эту проблему: «Нам следует прибегнуть к целесообразным внутриполитическим мерам, чтобы попробовать исключить явление, называемое бегством капитала. Пугающее пророчество, ибо во времена Кейнса бегство капитала составляло ничтожную часть по сравнению с ошеломляюще огромными суммами трансграничного движения капиталов в наши дни.
Даже в послевоенное время, когда действовали строгие нормы регулирования, случались утечки. Чтобы инвестировать капитал за рубежом, многонациональным компаниям надо было получать разрешения. Но при переводе денег на текущие нужды (для финансирования торговли и других повседневных операций) свободы было гораздо больше. Разумеется, капитальные платежи легко маскировали под платежи по текущим операциям. Но и для подобного заболевания у Кейнса и Гарри Декстера Уайта имелось лекарство. Эрик Хеллейнер отмечает: «Часто забывают, что Кейнс и Уайт коснулись этой проблемы, выдвинув следующее предложение. Они утверждали, что контроль над капиталом будет более эффективным, если страны, принимающие потоки капитала, помогут осуществлять этот контроль»19. В первых версиях проекта Бреттон-Вудского соглашения Кейнс и Уайт требовали от правительств стран – реципиентов обмена информацией с правительствами стран, страдающих от утечки капитала. Без приманки секретности спасающегося бегством капитала стало бы намного меньше. Короче говоря, Кейнс и Уайт требовали большей прозрачности для международных финансов. Попробуйте сегодня проникнуть в тайны американских банкиров и их лоббистов!
Американские банки в 1930-е годы получали огромные прибыли на операциях с капиталом, бежавшим из Европы, поэтому они вытравили суть предложений Кейнса и Уайта, опасаясь, что прозрачность сделает Нью-Йорк менее привлекательным для инвесторов. Если в первоначальной редакции устава МВФ сотрудничество в контроле над бегством капитала было «обязательным», то в окончательной редакции устава это заменили неопределенной формулировкой «разрешается». Одно слово открыло сторожевые ворота, и спокойно потекли нескончаемым караваном из потрясенной войной Европы через Атлантику грузы сокровищ.
Последовавшее за этим бегство капитала соответствовало страшным опасениям Кейнса и Уайта. В аналитическом исследовании, выполненном в июне 1947 года правительством США, сообщалось, что хотя аналитики и увидели лишь часть картины, но смогли установить, что частные активы европейцев составляли сумму 4,3 миллиарда долларов – по тому времени гигантская цифра, намного превышавшая цифру крупного кредита, предоставленного США Великобритании в 1947 году. Американские банкиры пришли в дикое возбуждение, а в Европе разразился новый экономически кризис. Америка тем временем приступила к восполнению дефицита капитала в Европе – с 1948 года начал действовать план Маршалла. Распространено убеждение, что он был разработан с целью покрытия зияющих бюджетных дыр в европейских странах. Но, как утверждает Эрик Хеллейнер, подлинное значение плана Маршалла заключалось в том, чтобы «просто компенсировать неспособность США установить меры контроля над притоком горячих денег из Европы». Даже в 1953 году корреспондент влиятельной газеты New York Times Майкл Хоффман отмечал, что объем помощи, оказываемой США после войны в Европе, был меньше суммы средств, пришедших в США из той же Европы20.
Американские налогоплательщики отныне оплачивают политику, доставляющую наслаждение Уолл-стрит и ее клиентам
Сенатор-республиканец Генри Кэбот Лодж отметил скандальность этих обстоятельств: «Существует маленький класс раздувшихся от эгоизма людей, активы которых размазаны повсюду. Американцы умеренного достатка платят налоги, средства от которых идут на программу помощи другим странам. Но зажиточные люди за рубежом не оказывают финансовой поддержки этой программе»21. Сегодня слова Лоджа были бы до боли знакомы гражданам Аргентины, Мексики, Индонезии, России и многих других стран, бессильно наблюдающим, как национальные элиты грабят богатства их стран и вступают в сговор с западными финансистами и бизнесменами, стремясь спрятать награбленное в офшорах и избежать уплаты налогов. План Маршалла создал зловещий прецедент: американские налогоплательщики отныне оплачивают политику, доставляющую наслаждение Уолл-стрит и ее клиентам. То, что представляли как акт предусмотрительного эгоизма, в сущности превратилось в рэкет в полном и точном смысле этого слова. Расцвету послевоенного мошенничества способствовало общественное неведенье. Как скоро увидим, с тех пор рэкет только умножился.
Менее чем через год после капитуляции нацистов, в апреле 1946 года, Кейнс умер. И сразу со всех сторон ему стали петь дифирамбы. «Он отдал жизнь за свою страну – так же, как если бы он пал на поле битвы», – писал Лайонел Роббинс, один из самых сильных идеологических противников Кейнса. Фридрих фон Хайек, бывший ученик Роббинса, только что начавший продвигать новую идеологию свободного рынка с целью низвергнуть кейнсианство, назвал покойного «единственным действительно великим человеком, которого когда-либо знал». Хотя Кейнс допускал немало ошибок, многое из того, что он отстаивал, существовало и действовало. Не в последнюю очередь это можно сказать о получивших широкое распространение мерах контроля над капиталом, введенных с целью обеспечения свободы государств избирать собственную внутреннюю экономическую политику. И по-видимому, события подтвердили правоту Кейнса. Или указали на то, что по крайней мере он не ошибался. Первые два года после войны стали кратким периодом, когда интересы американских финансов господствовали в процессе принятия политических решений, и международный порядок, подразумевавший ограничения, отсутствовал. Это обернулось катастрофой 1947 года, приведшей к новому экономическому кризису, дискредитировавшему банкиров. На следующий год ограничения были ужесточены22.
Итак, с 1949 года началось триумфальное шествие не только идей Кейнса, но и их широкого внедрения в практику. Продолжалось это примерно четверть столетия – теперь то время называют «золотым веком» капитализма, эрой широко распространенного, быстрорастущего и сравнительно ничем не омраченного процветания. Премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан в 1957 году подвел всем памятный итог кейнсианского периода: «большинство нашего народа никогда еще не жило так хорошо». С 1950 по 1973 год в условиях широкого применения мер контроля над капиталом (и крайне высоких ставок налогообложения) ежегодные темпы роста составляли в среднем 4,0 % в Америке и 4,6 % в Европе. Устойчивый, быстрый рост переживали не только богатые страны: как отмечает кембриджский экономист Ха-Джун Чан, в 1960-1970-х годах доходы на душу населения в развивающихся странах возрастали на добрых 3 % в год, намного быстрее, чем впоследствии. Причем все это происходило в условиях широко распространенного контроля над капиталом23. По мере прогрессирующего ослабления этого контроля по всему миру в 1980-х годах темпы роста резко снизились. «Финансовая глобализация не сопровождается увеличением капиталовложений или более высокими темпами экономического роста на развивающихся рынках, – объясняли в 2008 году американские экономисты Арвинд Субраманьян и Дэни Родрик. – Быстрее всего развивались те страны, которые менее всего полагались на приток капитала извне»24.
Усредненные темпы роста – это только один из показателей, но, чтобы понять, насколько хорошо живется большинству людей, необходимо обратить внимание на очень важную проблему. В эру офшоров, начавшуюся с середины 1970-х годов, в одной стране за другой резко усилилось неравенство. По данным Федерального статистического управления США, с поправкой на инфляцию, в 2006 году средний американский рабочий, не занимавший руководящей должности, получал за час работы меньше, чем в 1970 году. В тоже время заработки генеральных директоров американских корпораций стали превышать средние заработки рядовых работяг не в тридцать раз, как это было в 1970-м, а в триста раз. Впрочем, речь идет не только об экономическом росте и неравенстве. Как показывает другое исследование, в период с 1940 по 1971 год, примерно совпадающий с золотым веком капитализма, в развивающихся странах не было банковских кризисов, не говоря уже о целой веренице других экономических бедствий. Этот вывод подтвержден экономистами Карменом Рейнхардтом и Кеннетом Роговым в их новом фундаментальном труде (2009), в котором охвачена экономическая история более чем за восемьсот лет. Авторы пришли к заключению, которое британский экономический обозреватель Мартин Вулф кратко сформулировал так: «Либерализация финансов и финансовые кризисы неразделимы, как лошадь и повозка»25.
Следует проявлять осторожность и не делать из приведенных выше фактов необоснованных выводов. Для высоких темпов роста, наблюдаемых в течение золотого века капитализма, были и другие причины. В немалой степени они обусловлены послевоенным восстановлением, а его стимулировали массированный государственный спрос и внедренные в годы войны технологические усовершенствования. Последующее сползание к кризису и стагнации отчасти объясняет нефтяной шок 1970-х годов.
Однако сегодня мы можем прийти к не столь радикальным, но все же убедительным выводам. Золотой век показывает, что национальные экономики и мировая экономика в целом вполне могут развиваться быстрыми и устойчивыми темпами – при условии что движение капитала находится под обуздывающим влиянием мер всестороннего, даже бюрократического контроля. Стремительно развивается сегодняшний Китай, в котором тщательно продуманными государственными мерами ограничивают внутренние и внешние инвестиционные потоки и другие потоки капитала26. Вероятно, именно такие меры контроля, на долгое время вышедшие из моды, должны стать вариантом политики. И мы сегодня наблюдаем, как наконец постепенно меняется господствующее отношение к контролю над капиталом. В феврале 2010 года МВФ опубликовал доклад, в котором утверждается, что меры контроля над капиталом порой «оправданы как часть политического инструментария» тех стран, экономики которых пытаются справиться с притоком капитала27. Большую часть времени страны, как считал Кейнс, удовлетворяют свои потребности в капитале с помощью национальных кредитных систем и местных рынков капитала, не подвергая себя воздействию убийственных волн глобальных офшорных финансов. Основное опасение Кейнса – вал горячих денег, то есть спекулятивный капитал, ограничивающий свободу действий национальных государств, – сегодня дает более серьезные причины для опасений, чем при жизни ученого.
После 1970 года налицо не только возвращение свободного движения капиталов, но и финансовая либерализация, имеющая довольно сильные стимулы. Система офшоров, с 1970-х годов разрушавшая меры финансового контроля, действует и как катализатор бегства капитала, и как поле, искажающее реальность. В этом поле искажения потоки капитала направляются не туда, где им найдут наиболее производительное применение, а туда, где их встретят абсолютная секретность, максимально облегченные меры регулирования и свобода от правил цивилизованного общества. Представляется разумным вырвать корень этого катализатора.
После смерти Кейнса его учение, особенно в среде политиков, воспринималось как ортодоксальное. Но прошли годы, и возрождающийся либерализм стал подрывать веру в идеи кейнсианства. Чикагский экономист Роберт Лукас мог, например, написать в 1980 году, что Кейнс смехотворен, что на «научных семинарах его не воспринимают более всерьез; а заслышав о кейнсианстве, публика начинает переговариваться и хихикать». Однако наступление на Кейнса в академической среде – это только одна сторона медали. Параллельно с этим явлением развивалось другое – сначала в лондонском Сити, затем и на Уолл-стрит. Научные основы антикейнсианства и идеология свободных рынков капитала подготовили все условия для создания нового мира, в котором царствуют офшоры.
Глава 5
Евродоллар – «Большой взрыв» более мощной силы
В полную силу Бреттон-Вудская система заработала в 1950-е годы; экономика США развивалась вполне успешно, и почти каждый американец получил возможность первые в жизни приобрести холодильник и телевизор. А вот американская финансовая олигархия оказалась связанной по рукам и ногам регулирующими правилами, причем многие из них были введены сразу после Великой депрессии. Демократически избранные политики обуздали банкиров, и на Уолл-стрит, во имя спасения от жестких внутренних ограничений, начали срочно искать выход из трудного положения. Поиски пути привели американских банкиров в Лондон.
В какой-то момент, а именно в середине 1950-х годов, была отмечена новая вспышка активности, проявляемая лондонским Сити в офшорных делах. Сейчас уже никто не сможет сказать, когда точно началась эта странная инициатива, но служащие Банка Англии впервые заметили ее приблизительно в июне 1955 года. Они обратили внимание на какие-то нерегулярные операции, которые проводит Midland Bank (ныне он стал частью банка HSBC, энергично осуществляющего мировую экспансию)1. Во времена практически безраздельного господства идей Кейнса, когда считалось, что освобождение финансов ввергнет национальные государства в самые непредсказуемые виды рабства, – в те времена валютные курсы преимущественно были фиксированными. Банкам не рекомендовалось торговать иностранными валютами, за исключением финансирования конкретных клиентских сделок; более того, им не разрешалось принимать вклады в иностранной валюте. В те дни в развитых странах на государственном уровне осуществлялся строгий контроль за тем, с какой скоростью капитал поступал в их национальную экономику и как быстро уходил за рубеж.
Лондонский Сити представляет собой воплощение истинно британского сообщества, где правят кумовство и семейственность
Надзорные органы Банка Англии обнаружили в действиях Middland Bank нарушения правил валютного обмена: он принимал не связанные с его коммерческими трансакциями вклады в долларах США. Что еще важнее, банк предлагал проценты по долларовым вкладам, которые были существенно выше процентов, разрешенных американскими правилами. Сотрудник Банка Англии вызвал главного управляющего Middland Bank для беседы. Впоследствии он отметил, что управляющий «правильно отнесся к нашей встрече как к предупреждающему сигналу»2. Принятая в те времена процедура предписывала приглашать нарушителей в Банк Англии «на чай»; во время церемонии официальное лицо, нахмурив брови и насупившись, пристально смотрело на преступившего закон. К счастью для Middland Bank, в тот момент Британия отчаянно пыталась укрепить свои шаткие валютные резервы, и Банк Англии решил не наносить удар по этому новому направлению международного бизнеса: «Нам тогда следовало проявить мудрость и не оказывать дальнейшего давления на Middland Bank»3.
Лондонский Сити представляет собой воплощение истинно британского сообщества, где правят кумовство и семейственность, и весь этот круг однокашников и родственников скреплен замысловатыми, тщательно продуманными правилами и ритуалами. В Сити вексельные маклеры носили цилиндры, и каждый вечер в час пик совершали обход «города» гвардейцы в красных мундирах и медвежьих шапках. «Там банкир выражал свое неодобрение чьими-то неблаговидными делишками просто тем, что переходил на другую сторону улицы. За всеми этими церемонными условностями лежали представления об особой организации – этаком своеобразном “клубе”, основанном на общих ценностях и одинаковых представлениях о порядочности. Члены клуба вполне могли прибегать к инсайдерским и тайным сделкам, действуя вопреки государству и обществу и вразрез с интересами своих внешних акционеров. Клуб был сформирован на принципах картели, что исключало появление конкурентов и чужаков. Вся система работала очень результативно» – это описание Сити принадлежит Энтони Сэмпсону, автору книги «Who Runs This Place? The Anatomy of Britain in the 21st Century» («Кто здесь главный? Анатомия Британии в XXI столетии»), увидевшей свет в 2005 году, уже после смерти автора4. Зачастую было достаточно крепкого рукопожатия, чтобы получить кредит. Джо Гримонд, лидер Либеральной партии, писал: «Большинство деловых сделок совершаются там без затей – безо всех обычных меморандумов, совещаний, контрактов и прочих штучек»5.
В принципе, члены этого неформального клуба уже нашли пути, позволявшие обойти правила валютного регулирования. «Сегодня никто, кроме мелюзги, и не думает обращать внимания на валютный контроль», – заметил один высокопоставленный государственный служащий. В жуликоватой части Сити банкиры прибегали к некоторым своим старым фокусам, к чему Банк Англии относился более или менее снисходительно. Одним из излюбленных трюков было отмывание облигаций. Крупный налогоплательщик продавал облигации непосредственно перед погашением купона, а затем выкупал их по более низкой цене. Эта операция создавала необлагаемый налогом прирост капитала. Лицом, на короткое время становившимся собственником облигации и получавшим деньги по купону, был другой человек, обычно за рубежом, умудрявшийся с помощью всяческих уловок уходить от подоходного налога. Как довольно прозаично заявил сотрудник Банка Англии, об отмывании облигаций «болтали во всех швейцарских барах»6. Один из директоров Банка Англии был пойман на отправке своему сообщнику в Гонконг телеграммы, в которой сообщалось, что следует ожидать «дорогих денег»[22]; сообщение было отправлено как раз перед резким повышением официальной процентной ставки. Директор предстал перед комиссией по расследованию и сумел развеселить многих, когда на просьбу рассказать, «какую информацию, где и кому он уже успел передать», взмолился: «Трудно вспомнить точно, как это происходило, ведь все случилось на болоте, во время охоты на куропаток»7.
Однако, несмотря на временное оживление, лондонский Сити пребывал в глубокой спячке. «По четвергам, ровно в четыре пополудни, один из старших партнеров выходил к младшим партнерам и говорил: “Как? Вы все здесь еще здесь? Ведь уже почти уик-энд”», – вспоминал американский банкир8. «Банки пребывали в дремотном бесчувствии. Это было жизнью во сне», – писал Оливер Фрэнкс, председатель правления банка Lloyds, сравнивая подобную жизнь с вождением мощной машины на скорости двадцати миль в час.
Сегодня трудно даже вообразить те времена – эпоху, когда банкиры, хоть и кипели от бешенства, но оставались совершенно бессильны перед могуществом политиков. Те несколько лет после Второй мировой войны оказались единственным за несколько столетий периодом, когда политики имели какое-то подобие контроля над банковским сектором. Но государственная власть, прежде чем банкиры сумели наконец освободиться от ее пут, успела проникнуть в систему здравоохранения и реформировать ее. В результате появилась Государственная служба здравоохранения, которая, при всех своих недостатках, была и остается самым популярным из английских социальных институтов. Господствующее в те годы настроение хорошо передает письмо, написанное в конце 1940-х годов. Откликаясь на речь председателя министерства торговли, исповедовавшего левые взгляды сэра Стаффорда Криппса, член правления Middland Bank лорд Харлек писал:
В дальнейшем я отказываюсь слушать свинские речи этого господина или его партийного собрата Далтона. Они, ради личных и политических амбиций, изливают злобу на нашу империю, ненавидят все, связанное с ее интересами: ее коммерцию и промышленность. Они понятия не имеют об игре по правилам. Эти два типа – враги всего, что мы отстаиваем в Middland Bank. Они худшие представители этого чертова правительства, и я прошу у вас защиты от подобных посланий 9.
Хью Далтон был министром финансов Великобритании в лейбористском правительстве Клемента Эттли – правительстве, только что, в 1946 году, проведшим национализацию Банка Англии и многих других компаний. Далтон любил цитировать изречение Кейнса о том, что низкие процентные ставки приведут к «эвтаназии рантье». В данном контексте слово рантье определялось как «инвестор, не выполняющий никаких обязанностей», то есть человек, который не засучивает рукава и не развивает настоящий бизнес, а просто наблюдает, как другие тяжким трудом увеличивают его капитал. Эта мысль до боли мне знакома, поскольку годами я имел возможность видеть, как диктаторы богатых нефтью африканских стран и их приближенные почти безо всяких усилий становятся сверхбогачами благодаря тем, кто извлекает сырье из недр земли.
Кейнс подчеркнул типичные и принципиальные противоречия, всегда существовавшие, с одной стороны, между финансовым капиталом и доходами рантье, с другой – между финансовым и промышленным капиталами. Как я уже отмечал, банкирам очень выгодны высокие процентные ставки – помимо всего прочего, с их помощью можно заманивать иностранный капитал, который всегда ищет сверхприбыли. Однако высокие ставки влекут за собой повышение курса валюты и удорожание кредитов, а значит, и увеличение затрат на местную продукцию, что автоматически ставит национальных производителей в невыгодное положение по сравнению с их иностранными конкурентами. Поэтому понятно, чем Далтон так восстановил против себя банкиров, заявляя о необходимости «стать на сторону активных производителей, а не пассивных раньте».
Пока все это происходило, в Швейцарии, в ту пору самой главной мировой налоговой гавани, тоже вынашивали свой радикальный план наступления на кейнсианство. В апреле 1947 года Альберт Хунольд, высокопоставленный банкир Credit Suisse10, финансировал конференцию, проходившую в уютном швейцарском местечке Мон Пелерин близ Монтре. Под руководством Фридриха Хайека собралась группа из тридцати шести ученых. Хайек, австрийский экономист либерального толка, уже был широко известен благодаря ставшей очень популярной книге «Дорога к рабству» («The Road to Serfdom», 1944)[23] направленной против социализма и «большого правительства»[24]. На той конференции было создано общество «Мон Пелерин» – организация, объединившая ученых, желавших возродить идеи либерализма (на современном языке это назвали бы неолиберализмом) и начать интеллектуальное контрнаступление на кейнсианскую экономическую модель11. «Мы должны собрать и подготовить армию бойцов за свободу, – говорил Хайек. – Но прежде, ценою непрерывных усилий, нужно разработать философию свободы». Один из участников той встречи – американский экономист Милтон Фридман – впоследствии оказал большое влияние на политику и Маргарет Тэтчер, и Роналда Рейгана. Как пишет в своем исследовании Ричард Коккетт, конференция, состоявшаяся в 1947 году, стала «знаменательной встречей, благодаря которой в значительной степени возродилось интеллектуальное движение экономического либерализма». Общество «Мон-Пелерин» с самого начала финансировали три крупнейших швейцарских банка и две самые мощные страховые компании, не говоря уже о центральном банке Швейцарии Swiss National12. Близкий к обществу «Мон-Пелерин» Себастьен Жийо писал:
Вообразите, что вы – Альберт Хунольд. Или Хайек. И перед вами лежит опустошенный и разоренный мир. Время нацизма окончено. Миллионы бедняков и рабочих, мобилизованных в годы войны британской и американской буржуазией, проливали кровь на полях сражений в Европе. Эти люди надеются, что за свои страдания они получат хоть какую-то компенсацию. У власти стоят Эттли и Рузвельт; Франция находятся на грани революции, итальянская коммунистическая партия насчитывает два миллиона членов. Вам нужно провести экономическую конференцию. Вы не хотите этого делать во франкистской Испании. Ни Бельгия, ни Нидерланды, ни Португалия вас не привлекают. Где вам собраться? Ведь не в Коста-Рике?
Для ваших целей необходимы и налаженное воздушное сообщение, и хорошие отели, и симпатизирующие вам буржуа. Мне известна единственная страна, где есть все, что вам нужно. Это Швейцария. Она и в 1930-е годы и на протяжении всей войны оставалась страной либеральной направленности. В Швейцарии есть крупная газета Neuer Zurcher Zeitung, представляющая свои полосы для ваших программ. В Швейцарии нет рабочего движения, а значит, у вас никто не отнимет время на отстаивание ваших идей. В этой стране вообще нет никакого социального сплоченного движения, которое могло бы вставлять вам палки в колеса.
С момента своего возникновения общество «Мон-Пелерин» установило тесные связи с лондонским Сити через сэра Альфреда Суэнсона-Тейлора, позднее ставшего лордом Грантчестером и председателем правления крупной страховой компании. Брат сэра Альфреда был членом британского парламента от Консервативной партии. Суэнсон-Тейлор не только обеспечил дружественные связи с рядом богатых финансистов из Сити, настроенных против лейбористского правительства, но и помог открыть сейфы Банка Англии. Таким образом британские делегации напрямую получали финансовую поддержку, когда собирались на конференциях общества «Мон-Пелерин»13. Согласимся, активное финансирование явно антиправительственного движения – довольно любопытное поведение для центрального банка государства. Но это не единственная странность.
Банк Англии был учрежден 250 годами ранее описываемого времени группой богатых финансистов из лондонского Сити. И только в XX веке, уже после Великой депрессии и ужасов Второй мировой войны, когда наступила эра краткого господства кейнсианства, – лишь в 1946 году государственные деятели наконец обрели политическую силу для его национализации. Но даже после этого шага британское правительство так и не получило полного контроля на Банком Англии. Оно не могло отстранить от должности управляющего Банка, а внутренние банковские операции все равно находились за плотной завесой секретности. По сей день между Банком Англии и частными финансовыми компаниями лондонского Сити действует великолепно отлаженная система вращающихся дверей, через которые в Банк постоянно проникают новые высокопоставленные сотрудники. Экспертами комитета Макмиллана[25] был сделан неутешительный вывод, что национализация не привела к «какому-либо фундаментальному изменению или разрыву» с прошлым14. Кейнс, бывший членом этого комитета, назвал как-то Банк Англии «частным учреждением, практически независимым от любой формы юридического контроля». По-видимому, национализация не сильно изменила это положение.
Кроме того, Банк Англии оставался могущественным лоббистом в Великобритании, своего рода преторианской гвардией, охранявшей лондонский Сити и его либертарианское мировоззрение[26], а в более широком плане – и офшорную систему. По словам ученого Гари Берна, автора книги «The Re-emergence of Global Finance» («Возрождение глобальной финансовой системы») банк был «самым мощным центром либерального мышления в Великобритании»15. Берн был прав: существовало только одно более могущественное учреждение, в котором господствовало похожее мышление, – Промышленно-торговая финансовая корпорация. С нею мы встретимся позднее.
Когда Middland Bank только начал проводить нерегулярные операции с долларами, а именно в 1955 году, становилось все более очевидным, что Британская империя официально рассыпается. Индия добилась независимости в 1947 году, в Малайе британским колониалистам наносили удары повстанцы-коммунисты, в Судане разразилась гражданская война, а Гана готовилась к обретению независимости. В июле 1956 года – через год с небольшим, как в Банке Англии обратили внимание на Middland Bank, президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал. Осколки имперского истеблишмента в Лондоне пришли в ужас – и не только потому, что Великобритания владела самым большим пакетом акций Suez Canal Company. Насер поставил под удар позиции Великобритании и Франции на всем Среднем Востоке и даже во всем мире. Великобритания и Франция, пытавшиеся приспособиться к своей более скромной роли в послевоенном мире, но все еще сохранившие мотивировки и амбиции имперских держав, вместе с Израилем совершили тройственную агрессию против Египта.
Это оказалось колоссальной ошибкой. США решили не допускать положения, при котором европейский империализм загонит арабский мир в союз с Советским Союзом, и отказались оказывать помощь Великобритании, испытывавшей мощное давление на фунт стерлингов (только с 20 октября по 8 декабря 1956 года валютный резерв страны сократился на 450 миллионов долларов16). Государство оказалось на грани банкротства и не могло не отступить. Большего унижения Великобритания не испытывала со времени падения Сингапура[27]. «Со всей очевидностью – как жестока она ни была бы – это знаменовало конец Британии как мировой державы», – писал Дэвид Кинастон, историк лондонского Сити. Через несколько месяцев после этого Кваме Нкрума свернул спущенный британский флаг и попрощался с британцами. А затем все здание Британской империи, уже изъеденное термитами, окончательно начало разваливаться.
Из пыли и пламени Суэца в Лондоне родилось нечто новое, что вознесло лондонский Сити к еще большему финансовому величию
Империя, под властью которой в конце Второй мировой войны жило более семисот миллионов человек, сократилась к 1965 году настолько, что ее население составляло всего лишь пять миллионов человек. Все это хорошо известно, но у нашей истории есть свой финансовый аспект – и о нем почти никто не знает. Из пыли и пламени Суэца в Лондоне родилось нечто новое, что впоследствии разрослось и, заменив собой старую империю, вознесло лондонский Сити к еще большему финансовому величию.
Во время Суэцкого кризиса роль Лондона как финансового центра основывалась прежде всего и главным образом на валютной зоне Британской империи. Входившие в эту зону страны вели свои банковские операции в Лондоне, используя фунт стерлингов как собственную валюту или устанавливая курсы своих валют по отношению к фунту стерлингов. В рамках это стерлинговой зоны товары и капитал могли перемещаться совершенно свободно, а против утечки валютных резервов принимались жесткие меры контроля. По словам Роберта Скидельски, это «было обществом взаимопомощи в хаотичном мире».
Даже в 1957 году около 40 % всей мировой торговли осуществлялось еще в английской валюте, и Банк Англии надеялся, что такое положение сохраниться и в дальнейшем17. «Политика Соединенного Королевства, – сказал высокопоставленный сотрудник Банка Англии Джордж Болтон, – по-прежнему строго ориентирована на поддержание и расширение использования фунта стерлингов как международной валюты»18. Однако в условиях развала империи и начала ослабления фунта стерлингов (тогда курс был зафиксирован на уровне 2,8 доллара за 1 фунт стерлингов) это оказалось под страшной угрозой. «Мы унаследовали старый семейный бизнес, который некогда был очень прибыльным и здравым, – отмечал в конце 1956 года премьер-министр Великобритании Энтони Иден. – Сегодня обязательства вчетверо превышают активы… Не знаю, кто теперь купит банковскую систему зоны фунта стерлингов»19. Именно тогда подобная ситуация, казавшаяся почти непереносимой для убеленных сединами господ капиталистов, и вывела на сцену нечто совершенно новое.
Министр финансов Великобритании хотел остановить утечку капитала, ограничив кредитные операции британских банков за рубежом. Однако у Банка Англии, который не мог спокойно видеть крайнее унижение лондонских банкиров, имелся в запасе совсем другой план восстановления нарастающего дисбаланса британских финансов. План сводился к повышению процентных ставок ради привлечения в Лондон новых денег и к подавлению потребления и спроса на импортные товары. Ну а если его реализация ввергнет страну в рецессию – что ж, пусть будет рецессия. В данном случае мы имеем классический пример извечного конфликта между финансовым капиталом, с одной стороны, и демократически избранными политиками и другими секторами экономики – с другой. Следующий премьер-министр Гарольд Макмиллан к своему удивлению обнаружил, что в законе 1946 года о национализации нет ни единого положения, позволившего бы ему принудить Банк Англии к изменению курса, поэтому пригрозил изменить закон так, чтобы получить контроль над банками и отдавать им приказы напрямую. Вероятно, в этот момент он понял, кто в действительности приводит в движение рычаги экономической власти.
Лорд Кобболд, управляющий Банка Англии, яростно утверждал, что такие полномочия, как отдавать распоряжения банкам, принадлежат ему и только ему 20. Кобболд пошел и дальше, пригрозив обанкротить правительство, если то попытается что-нибудь предпринять. В конце концов Макмиллан сдался. «Фунт стерлингов, – пишет Гари Берн, – был спасен без каких-либо неудобств для Сити. В битве с министерством финансов Банк Англии одержал победу» 21. Однако Макмиллан вырвал одну уступку. Правительство получало возможность налагать ограничения на кредиты в фунтах стерлингов. Эта мера прежде всего имела отношение к лондонским торговым банкам, которым международная арена была жизненно необходима, и могла закончиться для их деятельности погребальным звоном. Так по крайней мере казалось, но обернулось все иначе: в своих международных операциях банки перешли с фунтов стерлингов на доллары. И Банк Англии не попытался пресечь этот новый бизнес. Более того, он решил даже не контролировать его. В Банке Англии просто сочли это ненужным, поскольку такие сделки происходили за границей. Но в действительности они проводились в пределах суверенного пространства Великобритании, и регулировать их не разрешалось никому и нигде. Частные банкиры нашли все-таки свой план побега из той тюрьмы строгого режима, куда их заключили после Второй мировой войны.
В те кризисные дни Банк Англии находился под сильным влиянием страстного и упрямого Джорджа Болтона, который, по мнению Дэвида Кинастона, являлся «одним из интеллектуальных крестных отцов новых правых»22. Болтон начал свою карьеру в Сити в 1917 году. Работая там агентом по обмену валюты, он, как и многие биржевые дилеры, вскоре воспылал жгучей ненавистью к предписанным нормам. И поклонники и хулители Болтона считали его «защитником глобального капитализма, основанного на свободном предпринимательстве», «ловким авантюристом» 23 и «немного безумным». Болтон сумел пробиться наверх и попал в Банк Англии в 1948-м, то есть через два года после его национализации и после того, как Генри Моргентау заявил о намерении «переместить центр тяжести финансового мира из Лондона и Уолл-стрит в министерство финансов США». Переход свободного торговца валютой на работу в банковскую сферу, да еще именно в тот банк, где воцарился государственный валютный контроль, – такой поступок представлялся более чем курьезным, по крайней мере на первый взгляд. «Чтобы обсудить со мной операции по обмену иностранной валюты, – а в те дни это считалось делом весьма подозрительным, меня доставили контрабандой, после заката, через тайные ворота…» – вспоминал Болтон.
Болтон, уже слегка располневший, живой и общительный малый в роговых очках с сильными линзами, стремительно «набирал вес» – завоевывал авторитет и усиливал свое влияние. И он упорно бился за то, во что верил. «В его позиции не было ни капли двусмысленности или нерешительности, – говорил Зигмунд Варбург, легендарный владелец торгового банка. – Мне ничего не оставалось, как относиться с уважением ко всем его утверждениям – он проповедовал свои взгляды с убежденностью, энергией и личной заинтересованностью. Он был совершеннейшим идеалистом, целеустремленно служившим целям, в которые верил. Его симпатии навсегда были отданы частному предпринимательству, которое он прямо противопоставлял безликому могуществу государственной машины».
Болтона переполняло огромное желание оказывать всяческое содействие частным предпринимателям в их попытках обходить столь досаждающий им государственный контроль. Но не только эта страсть служила ему движущей силой – Болтон находился в плену своей мечты об имперском величии Великобритании. «Если мы смогли бы освободиться от мертвой хватки контроля и управления спросом, навязанных нам экономистами, – однажды заметил он, – и извели бы заразу социализма, мы снова смогли бы стать гордым народом»24.
Болтон, занимая пост главы отдела валютного обмена, обладал идеальной возможностью помочь новому нерегулируемому долларовому рынку завоевать Лондон. Банку Англии ничего не стоило принять решение контролировать этот рынок. Банк не только не пошел на такой шаг, но даже предотвращал попытки других стран вводить подобное регулирование. Из всего этого напрашивается единственный вывод: учреждение, выполняющее функции государственного центрального банка, принимало активное участие в создании долларового рынка. Так оно и было. По словам Болтона, долларовый рынок в Лондоне возник благодаря «целенаправленным усилиям многих из нас, стремившихся собрать оставшиеся обломки и создать из них рынок капитала». Родилось новое явление, о котором Ронен Палан, профессор Бирмингемского университета, позже написал, как о «нормативно-правовом вакууме, получившем название еврорынка, или офшорного финансового рынка». Любой английский банк должен был иметь бухгалтерские книги двух видов. Одни книги велись по операциям, проводимым внутри страны в соответствии с британским законодательством и британскими правилами, причем хотя бы один участник должен был быть, если он физическое лицо, британцем, если юридическое – британской компанией. Другие книги велись по офшорным операциям, участники которых не были британцами. Иными словами, как пишет Палан, «еврорынок можно считать не более чем механизмом бухгалтерского учета»25.
На самом деле понятия «евродоллар» и «еврорынки» вводят в заблуждение. Рынки не имеют ни малейшего отношения ни к современной валюте евро, ни к тому, что сделки на еврорынке осуществляются только в долларах США. Ныне таким образом торгуют всеми основными валютами мира. Но именно тогда действительно начала возникать современная система офшоров. И, как обычно бывает в таких случаях, ее возникновения почти никто не заметил.
Новый рынок в Лондоне немедленно начал подпитываться за счет политических событий. В те времена СССР не хотел держать слишком много долларов в Нью-Йорке, где, в случае обострения холодной войны, существовала угроза конфискации советских активов. Но СССР также не собирался рисковать деньгами и в стерлинговой зоне, поскольку не желал связываться с разваливающейся империей. В новом рынке Советское государство увидело свой шанс: можно было держать доллары в Лондоне. Начав с размещения нескольких сотен тысяч долларов на депозите Московского народного банка, открытом в 1957 году, СССР стал наращивать свои долларовые активы. Карл Маркс поднял бы свои густые брови от удивления: страна, исповедовавшая его учение, подкармливала систему самого неограниченного капитализма, какой только был в истории.
Карл Маркс поднял бы свои густые брови от удивления: страна, исповедовавшая его учение, подкармливала систему неограниченного капитализма
Хронология развития Лондона в качестве мирового финансового центра обычно указывает на 1986 год – время его настоящего взлета. Именно в том году произошла реорганизация финансовой системы, названная «большим взрывом», – когда премьер-министр Маргарет Тэтчер внезапно отменила контроль со стороны государства. Конечно, «большой взрыв» важен, но подлинная история указывает на другое, о чем свидетельствует Тим Конгдон, возможно, один из самых проницательных и наиболее профессиональных знатоков финансового мира Сити. В статье, опубликованной в журнале Spectator, он писал:
«Большой взрыв» был на самом деле всего лишь отблеском, побочным продуктом гораздо более мощного взрыва, который за последние тридцать пять лет преобразил международные финансы. Этот более мощный взрыв, по всем критериям измерения, многократно превосходил по силе «большой взрыв», случившийся в Лондоне26.
Возникла экстраординарная ситуация: еврорынок – не имевший никакого материального воплощения, например, здание биржи, не вооруженный хотя бы самым примитивным сводом правил и норм, – вдруг становится крупнейшим в мире источником капитала27.
В ином свете рассматривает еврорынок Гари Берн, писавший, что его возникновение явилось «первым выстрелом в неолиберальной контрреволюции против социальной системы и кейнсианского государства благоденствия».
Лондонская лазейка, а в сущности новая банковская технология, имевшая узкопрактические цели, была невидимым двойником интеллектуальноидеологического мятежа, поднятого обществом «Мон-Пелерин». Идеология обеспечила благоприятную среду, но именно лондонский рынок и его дальнейшие ответвления в итоге вызвали либерализацию мировой экономики – независимо от того, нравилось это гражданам мира или нет. Современная система офшоров начала свой мощный взлет вовсе не на скандальных островах Карибского моря, покрытых пальмами и позором, и не у подножия Альп – в добропорядочном Цюрихе. Все началось в Лондоне, где загнивающая имперская система уступила место более изощренной структуре. Исследователи британского империализма П. Дж. Кейн и Э. Дж. Хопкинс объясняют данный переход так: «Наше доброе старое судно “Фунт стерлингов” пошло ко дну, но Сити сумел взять на абордаж более мореходный и современный корабль “Евродоллар”. Сити пережил даже разрушение имперского фундамента – а ведь на нем зиждилось его могущество – и преобразился в “островной офшор”, который начал обслуживать бизнес, созданный благодаря индустриальному и коммерческому росту намного более энергичных партнеров».
Фактически официальная империя исчезла не до конца: четырнадцать мелких островных государств решили не добиваться независимости и стали британскими заморскими территориями под началом британской короны. Ровно половина этих территорий: Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Монтсеррат, Теркс и Кайкос – ныне остаются секретными юрисдикциями, активно поддерживаемыми Великобританией, управляемыми ею и тесно связанными с лондонским Сити.
Именно с описываемой ситуации и начался стремительный расцвет лондонского офшорного рынка. Общая сумма депозитов достигла к концу 1959 года 200 миллионов долларов, а к концу 1960-го – 1 миллиарда долларов, что все еще оставалось сравнительно небольшой суммой по сравнению с ВВП Великобритании, равнявшемся примерно 70 миллиардам долларов. Но рост продолжился, и в 1961 году общая сумма депозитов достигла 3 миллиардов долларов. Уже в начале 1960-х годов деньги стали уходить в Цюрих, на острова Карибского моря и далее, по мере того как одна юрисдикция за другой вступала в игру. До того времени эти страны были сравнительно хорошо изолированы от финансовых бедствий, происходивших за их границами, но еврорынок соединил финансовые секторы и экономики мира. Резкий рост ставок в одном месте, как электрический разряд, переданный по проводу, почти немедленно отзывался во всех юрисдикциях, включенных в офшорную сеть. По мере разрастания системы горячие деньги стали гулять по всему свету – своей цикличностью этот процесс очень напоминал ритмы приливов и отливов мирового океана.
Резкий рост ставок в одном месте, почти немедленно отзывался во всех юрисдикциях, включенных в офшорную сеть
Абсолютная политическая мощь Банка Англии и его либертарианские предпочтения начинали все сильнее беспокоить британских политиков. Однако Банк твердо поставил их на место: «Контроль за обменом валют – нарушение прав граждан. Поэтому я считаю такой контроль этически неправильным», – сказал в 1963 году управляющий Банка лорд Кромер – насквозь проникнутый имперским духом типичный представитель своего класса.
Крестник короля Георга V, выпускник Итона, по материнской линии – внук британского генерального консула, а на самом деле фактического правителя Египта, по отцовской линии – внук вице-короля Индии и генерал-губернатора
Канады – Кромер считал своей главной целью восстановление былого имперского величия лондонского Сити. «Несомненно, восстановление международной роли Лондона – дело, близкое сердцу лорда Кромера», – писал журнал Banker28.
Американские банкиры быстро поняли, что если этот новый странный лондонский рынок свободен от политического контроля США, то он свободен и от банковских законов США. Одним из этих законов был знаменитый закон Гласса-Стигалла, принятый в 1933 году и запрещавший обыкновенным ссудо-сберегательным банкам владеть наиболее опасными финансовыми компаниями определенных типов. Закон оказался настолько полезным, что его сохраняли до 1999 года, инициаторами его отмены стали президент Клинтон и министр финансов Роберт Рубин (в прошлом сопредседатель Goldman Sachs). Этот гений банковского дела, видимо, прислушался к совету Г. К. Честертона, сказавшего, что прежде чем сносить ограду, стоит, пожалуй, узнать, зачем ее поставили прежние хозяева. Впрочем, американские банкиры обходили закон Гласса-Стигалла задолго до его отмены, в чем им прежде всего помогал Лондон.
Джордж Болтон ясно видел открывавшуюся возможность: в феврале 1957 года он перешел из Банка Англии в Банк Лондона и Южной Америки (Bank of London and South America, BOLSA) [далее везде – BOLSA], ныне входящий в Lloyds Bank. Уже через месяц в BOLSA евродолларовые депозиты составляли 3 миллиона долларов; через три года этот показатель вырос до 247 миллионов долларов (в те времена это были очень большие деньги) и продолжал расти. Вскоре BOLSA стал крупнейшим игроком на рынке. Практически сразу же после перехода Болтона BOLSA открыл совместное предприятие на Багамах – крепкой и надежной британской налоговой гавани, в валютном совете которого одно место занимал представитель Банка Англии. Затем BOLSA развернул экспансию на Каймановых островах, Антигуа и в других зонах, вытягивая долларовые вклады из Северной и Южной Америки и без шума вливая их в нерегулируемый лондонский офшорный рынок.
Дефицит США, по мере того как 1960-е годы шли к концу, становился все больше и больше. Расходы США за рубежом были слишком велики по сравнению с доходами американской казны, и огромные суммы долларов уходили из страны на еврорынок.
Следующий стимул офшорный лондонский рынок получил в 1963 году, когда появились еврооблигации. Эти вновь изобретенные инструменты представляли собой нерегулируемые офшорные облигации на предъявителя, то есть были именно анонимными. Любой, кто предъявлял эти клочки бумаги, являлся их собственником. Еврооблигации немного напоминали сверхценные долларовые банкноты: никто не регистрировал имена их владельцев, а потому они были идеальным средством ухода от налогов. Облигации на предъявителя – непременный атрибут голливудских фильмов про мерзавцев вроде «Полицейского из Беверли-Хиллс» или «Крепкого орешка»; их считают настолько губительными, что во многих странах они запрещены законом. Крайнее свое воплощение цинизм офшорных деяний получил в составленном в 1963 году меморандуме Банка Англии, где черным по белому написано: «Какое бы сильное отвращение ни вызывал у нас спекулятивный капитал, мы не можем… отказываться принимать эти деньги» 29. Тут-то и были состряпаны новые еврооблигации. Банк, штаб-квартира которого находилось в Лондоне, эмитировал их в амстердамском аэропорту Схипхол, уклоняясь от британского гербового сбора; выплаты наличных по купонам обычно производились в Люксембурге, чтобы избежать британских подоходных налогов30.
Демонтаж системы государственного регулирования вполне успешно встраивался в общий процесс 1960-х годов, в частности, в мятежную культурную жизнь столицы Англии. Законодателем новой мировой моды становился Лондон, где свергались все общепринятые стереотипы и устанавливались новые каноны стиля. Приветствовалось все, что выбивалось из привычных представлений, что подрывало государственную власть и авторитеты, – подобные мятежные настроения пронизывали все общество сверху донизу. В этот ряд вписывались и вылазки Джеймса Бонда в офшоры: в фильме «Золотой палец» (1964) суперагент посещает Швейцарию, а в фильме «Шаровая молния» (1965) – Нассау. Зрителя бондианы бросало в дрожь от соблазнительных картинок налоговых гаваней и всего запретного, что с ними связано. Радиостанция Radio Caroline («самая знаменитая офшорная радиостанция мира») начала вещание с борта судна Caroline, находившегося в проливе Ла-Манш, то есть вне зоны действия британских правил и лицензий на радиовещание. Новая пиратская станция совершила настоящую революцию – благодаря ей мир начал слушать рок-н-ролл. И это вызвало еще большее любопытство и даже симпатию к загадочному слову «офшор».
Бурный рост еврорынка продолжался. Объем совершаемых сделок к 1970 году оценивали в 46 миллиардов долларов, а к 1975 году он превысил совокупный объем валютных резервов всех стран мира. Когда в 1970-х годах возникли потрясения, вызванные эмбарго на поставки нефти и резким ростом цен на нефть, еврорынок стал каналом, по которому богатые нефтью страны выводили избытки своих поступлений в страны-потребители, страдавшие от дефицита средств. По мере того как пламя от костра, называвшегося еврорынком, поднималось все выше, капитал начал штурм цитаделей власти и демократического национального государства. Известный экономист Александр Сакс не преувеличивал, говоря, что этот «новый банковский порядок… переписал каждую строчку в бухгалтерском учете»31. Гари Берн, один из весьма немногих ученых, глубоко изучивших рынок, пошел еще дальше, назвав евродоллары и еврорынок «новым видом денег и новым рынком, на которых эти деньги обращаются».
Еврорынок продолжал расти как снежный ком: в 1980 году его объем составлял 500 миллиардов долларов, а еще через восемь лет – уже 2,6 триллиона долларов32; к 1997 году на нем предоставляли почти 90 % всех международных кредитов. Теперь этот рынок стал настолько всеобъемлющим, что Банк международных расчетов, осуществляющий надзор за глобальными финансовыми потоками, отказался от попыток измерить его объем и теперь просто суммирует все сделки, совершаемые на расширенных валютных рынках.
Каждое новое правительство пытается облагать налогами этот рынок или регулировать его – и всякий раз терпит неудачу. «Евродоллар – докучливая, увертливая, скользкая тварь, – писала в 1975 году экономист Джейн Снеддон Литтл. – Пытаясь обуздать рынки, руководители центральных банков ставят себя в глупое положение людей, которые охотятся на слонов с сачками для ловли бабочек. Хотя различные власти время от времени захватывают слона за колено или даже набрасывают сеть на его туловище, животное, как правило, вырывается через прорехи в сети… Евродоллары представляют проблемы, с которыми центральные банки никогда прежде не сталкивались» 33. Тем примечательнее явление, которое Гари Берн называет «самым важным новшеством со времен изобретения банкнот», остающимся, по большей части, пока неизученным34. Это все та же старая проблема офшоров: никто не обращает внимания на происходящее у всех на виду.
Наспех проведенный расчет показывает, почему нерегулируемый офшорный еврорынок (и в более широком смысле офшорный капитал) может приносить необычайно высокие прибыли, которые намного превышают возможные выгоды уклонения от налогов. Правительства требуют, чтобы банки делали резервы по принятым ими депозитам. Представим некий французский банк, который, в соответствии с официальными требованиями о резервировании средств, должен держать 10 % суммы депозитов в наличных. Текущая ставка по кредитам – 5 % годовых, процент по депозитам – 4 %. Теперь из каждых 100 долларов банк может выдать в кредит только 90 долларов под 5 % годовых, что принесет банку 4,5 доллара дохода. Из этих 4,5 доллара банк должен выплатить вкладчикам 4 % от суммы их депозитов (4 % от 100 долларов составят 4 доллара), что оставляет банку всего лишь 50 центов дохода. Вычтем операционные расходы банка (скажем, 40 центов) – и со 100 долларов прибыль банка составит жалкие 10 центов. А теперь представим вместо этого французского банка, соблюдающего требования законодательства, банк, работающий на лондонском офшорном еврорынке. Там нет требований о резервировании, и банк может выдать в кредит все 100 долларов под 5 % и заработать на этом 5 долларов. Вычтем из этих 5 долларов 4 доллара процентов, выплачиваемых вкладчикам, и 40 центов, приходящиеся на операционные расходы банка. Прибыль получается ошеломляющей – она составляет 60 центов, что в шесть раз выше прибыли банка, работающего по закону.
Расплачиваться по счетам приходится не азартно играющим финансистам, а рядовым налогоплательщикам
Разумеется, этот пример – карикатурное изображение более сложной действительности, но его основополагающий принцип существует и действует. Обратите внимание: никто не предложил более совершенного или более дешевого средства. Банковское дело не стало внезапно эффективным. Все, что произошло в рассмотренном выше случае, – всего лишь результат уклонения от регулирования, позволившего банкам увеличить свою прибыль в шесть раз.
На первый взгляд, это кажется бесплатной выгодой для всех, поскольку работающие на конкурентном рынке банки передают часть своей дополнительной прибыли заемщикам и вкладчикам. Но клиенты офшорных банков – почти всегда самые богатые в мире люди и корпорации. Бесплатные деньги для банкиров и представителей самых богатых людей и корпораций мира, получаемые за счет всех прочих, – основной лейтмотив деятельности системы офшоров. Мы сталкиваемся с ним снова и снова. И это не единственная проблема. Правительства обязывают банки иметь капитал и резервы по весьма основательной причине: необходимо принимать меры защиты от финансовых паник. В хорошие времена это может казаться даром полученными деньгами, но, по памятной формулировке инвестора Уоррена Баффета, «только когда вода уходит, выясняется, кто купается нагишом». Как мир заново понял после 2007 года, расплачиваться по счетам приходится не азартно играющим финансистам, а рядовым налогоплательщикам. Но и тут у офшоров в запасе есть очередной секрет. Прежде всего, дело вращается вокруг причин, по которым от банков требуют держать резервы по вкладам.
Предположим, вы вносите в работающий в соответствии с законом банк 100 долларов наличными. Банк должен резервировать 10 % этой суммы, а потому может выдать в кредит другому лицу только 90 долларов. Теперь это лицо, заемщик, должен потратить 90 долларов. Обходным путем эти 90 долларов попадают на другой банковский счет. Из полученных им 90 долларов другой банк может выдать кредит в размере 90 % от этих 90 долларов, а это означает, что в кредит выдают 81 доллар. И цепочка продолжает разворачиваться. Принцип банковского резервирования долей средств хорошо известен. Если упорно продолжать вычисления, обнаруживается, что при обязательном резервировании 10 % вкладов ваших 100 долларов в экономике раздуваются до 1000 долларов.
Трудно поверить, что подобным образом деньги можно просто извлекать из воздуха, но это одно из самых важных дел, совершаемых банками. «Если подумать, то создание денег оказывается делом странным и причудливым, – говорил экономист Дж. К. Гелбрейт. – Процесс создания денег так прост, что разум его отвергает». Такова главная мистерия банковского дела: банки могут «раздувать свои балансы», предоставляя кредиты другим. В банковском мире деньги можно создавать одним лишь актом предоставления кредитов. Это деньги как долги.
Само по себе создание денег банками – дело неплохое, но возникает вопрос: какие объемы заимствований безопасны? Регуляторы пытаются контролировать ликвидность (чтобы иметь гарантии, что объем денег, обращающихся в системе, не выйдет из-под контроля), вводя требования резервирования и поддержания собственного капитала банков. Но представим ситуацию на нерегулируемых лондонских еврорынках, где от банков не требуют создавать и держать такие резервы. Первые внесенные в банк 100 долларов позволяют банку выдать кредит в размере тех же 100 долларов, которые превращаются в новый депозит в размере 100 долларов, которые снова выдают в кредит, – и так до бесконечности.
В теории это выглядит просто, но в реальной жизни теория, разумеется, никогда целиком не осуществляется. Если бы она реализовалась в полной мере, мы, возможно, давно бы уже захлебнулись в гиперинфляции. Нет, в любой конкретный момент существует определенный спрос на кредитные средства, и если на офшорном рынке спрос на кредиты растет, этот рост в какой-то момент вызывает компенсирующее сокращение спроса на традиционном рынке. И не только. Офшорные евродоллары в конце концов просачиваются обратно на традиционные рынки, где снова подпадают под нормальные требования резервирования. Чтобы быть справедливым, замечу: благоразумные банкиры часто создают резервы, даже когда их к этому не принуждают.
Десятилетиями продолжается широкая дискуссия о величине реального вклада еврорынка в увеличение объема обращающихся в мире денег, резкое увеличение рисков и строительство становящейся все более неустойчивой, все более шаткой пирамиды долгов. Поскольку Банк международных расчетов прекратил давать количественную оценку этого рынка, трудно прийти к сколько-нибудь обоснованным выводам относительно роли еврорынка, например, в последнем финансовом кризисе и резком росте долгов в мире. И все же некоторые вещи кажутся вполне очевидными. Если вы создаете огромную площадку для генерирования нового, нерегулируемого кредита, созданные вами рынки будут расширяться, вытесняя лучше регулируемые банковские операции, а спрос будет расти, чтобы соответствовать потенциальному предложению. Кредит начнет захватывать сферы, которые прежде не мог захватить и в которых его на самом деле и быть не должно. В своей книге «International Economics» («Мировая экономика») Сидней Уэллс и Алан Уинтерес пишут, что евробанки «почти наверняка» нашли клиентов, которые не могли делать заимствования в рамках национальных систем. Другими словами, еврорынки создали возможность для снижения качества кредитов, и это остается вне поля зрения регулирующих органов.
Разгребая архивы за 1960-1970-е годы, я был поражен тем, как регуляторы всего мира, пытаясь справиться с этим странным новым феноменом офшоров, своими руками создавали беды, поставившие мировую экономику на колени во время последнего экономического кризиса 2007 года. Как писал высокопоставленный британский государственный служащий в «совершенно секретном» меморандуме, найденном мной в архивах за 1968 год: «Одна из причин для беспокойства – последствия этой практики пролонгации краткосрочного кредитования, которая в сущности обеспечивает долгосрочное финансирование». Именно такая практика в 2007 году уничтожила британский банк Northern Rock. В опубликованной примерно в то время в журнале Banker статье были поставлены вопросы: «Является ли рост этого рынка для международной финансовой системы в целом тонизирующим средством? Следует ли его приветствовать? Или это медленно действующий яд? Обнадеживает ли то, что процесс адаптации снова примет форму обрушения международной финансовой системы? Является ли участие Великобритании в развитии этого рынка еще одной гарантией, что мы снова окажемся на передовой линии такого коллапса?» Ответы на эти вопросы пока не даны.
Что бы сделал со всем этим Кейнс? Учитывая его пробританскую позицию и решительную, хотя и не слепую и безоговорочную защиту британского имперского проекта, можно предположить, что он приветствовал бы эти явления, процессы и их последствия. Как он сам писал в 1941 году, когда вел переговоры о предоставлении американской помощи: «Америке нельзя разрешать выклевывать глаза Британской империи»35. И дело не только в этом. Кейнс иногда очень решительно боролся, помогая лондонскому Сити сохранить первенство в мире. Но всякий раз он бился за международный порядок, основанный на сотрудничестве, а не на конкуренции стран. Кейнс надеялся, что Лондон сможет удержать свои позиции главным образом благодаря тому, что будет центром основанного на сотрудничестве стерлингового блока. Мысль о демонтаже правил просто как о способе взваливания тягот на соседей была ему ненавистна. Думаю, он смотрел бы с ужасом на развернувшийся с 1970-х годов стремительный рост офшорных финансов за счет разорения соседей. Еще больший ужас у него вызвало бы порожденное экспансией офшорных финансов массированное бегство капитала.
Как уже было отмечено, 1960-е годы были временем оживления в Лондоне, но американские регуляторы этой радости не разделяли. Федеральный резервный банк Нью-Йорка в 1960 году направил в Лондон группу сотрудников для расследования, поскольку счел, что еврорынок уже делает «более сложным проведение независимой валютной политики какой-либо одной страной»36. Есть некоторая ирония в том, что рост влияния идей Милтона Фридмана, доказывавшего, что правительствам следует сосредоточиться на предложении денег как на рычаге управления национальными экономиками, происходило как раз тогда, когда поддерживаемый Фридманом еврорынок начал делать этот рычаг неэффективным.
Сотрудники Банка Англии щедро угощали американцев чаем, но практически ничего не сделали, чтобы помочь американским гостям разобраться в беспокоивших их вопросах, и, даже после того как американцы заявили, что еврорынок представляет «угрозу стабильности», они и пальцем не пошевелили. Заявления, с которыми периодически выступал Банк Англии, лишь подтверждали опасения американцев; в одном из них говорилось: «Кредитование, осуществляемое уполномоченными банками, не контролируется ни по объему, ни по природе, ни по содержанию. Мы полагаемся на коммерческое благоразумие кредиторов». Джеймс Робертсон, вице-председатель ФРС, указал на один из источников беспокойства: появление в британских налоговых гаванях вроде Каймановых или Багамских островов центров еврорынка, связанных с Великобританией и регулируемых Банком Англии. «Мое главное возражение таково: эти финансовые учреждения не являются филиалами ни в каком смысле этого слова. Они просто выдвижные ящики стола, принадлежавшие кому-то другому. Что заставляет банки прибегать к мошенничеству ради получения определенных привилегий?»
Президент Кеннеди попытался прекратить утечку американской валюты. Сделал он это 18 июля 1963 года, обложив процентные доходы по иностранным ценным бумагам, что, по предположению американского правительства, должно было устранить всякие материальные стимулы к предоставлению кредитов на более прибыльных зарубежных рынках. Однако акция Кеннеди возымела противоположный эффект, вызвав панический массовый исход инвесторов на нерегулируемый лондонский офшорный рынок, свободный от налогов и контроля. «Вы еще запомните этот день, – пообещал Генри Александер, глава банка Morgan Guaranty. – Этот день изменит облик американского банковского бизнеса и выдавит весь бизнес в Лондон»37.
Президент Кеннеди попытался прекратить утечку американской валюты
Американских политиков все сильнее беспокоила финансовая стабильность. В 1963 году (к этому времени американские банки уже были крупнейшими игроками на офшорном рынке) в министерстве финансов США пришли к выводу, что новый рынок усугубил «неравновесие мировых платежей»38. Министерство предложило американским банкирами «спросить самих себя, служит ли такого рода деятельность национальным интересам США»39. Американцы снова сообщили о своих опасениях Банку Англии, а в Лондон отправили валютного инспектора, которому было поручено провести проверку американских банков. «Мне неважно, уклоняется ли Citibank в Лондоне от выполнения американских правил, да и не особенно хочется знать, как там обстоит дело», – заявил один высокопоставленный сотрудников Банка Англии40 – в сущности американцев просто послали ко всем чертям.
Компетентный и энергичный заместитель министра финансов США Роберт Руса в 1967 году добавил к сказанному ранее, что офшорный рынок резко усилил дестабилизирующие потоки денег, «масштабы которых намного больше, чем какие-либо прежде испытанные массированные движения капитала». Из Лондона последовал обычный ответ, сводившийся к уже знакомым формулировкам: «Занимайтесь своим делом» и «Тут не о чем беспокоиться». Лорд Кромер, например, заявил в 1963 году представителям Федерального резервного банка Нью-Йорка в ответ на выраженную Руса озабоченность уклонением от налогов: «Я полагаю маловероятным, чтобы объем операций такого рода вырос в очень большой степени». В свете того что нервозность проявляли и британские государственные чиновники, наглость Кромера представляется еще более поразительной. «Хотя проверяющие не выглядели очень расстроенными, – отмечалось в одном из меморандумов Банка Англии в 1960 году, – у меня сложилось впечатление, что некоторые из них тайком скрестили пальцы»41.
За решением Банка Англии не регулировать офшорные рынки стоит причудливая логика героини книги «Алиса в Стране чудес». Сходная логика свойственна и офшорной системе. Если какой-нибудь регулируемый лондонский банк подвергся бы нашествию вкладчиков, желающих изъять свои депозиты, Банк Англии почувствовал бы, что на нем как на регуляторе этого банка лежит определенная обязанность вмешаться в дело и подобрать обломки. Другими словами, регулирование, как о нем было сказано в одном из банковских меморандумов, «означало бы признание ответственности». Тогда уж, подсказывала эта извращенная логика, лучше вовсе не регулировать!42
Так почему же США разрешили своим банкам очертя голову броситься в этот нерегулируемый лондонский омут, хотя американские власти прекрасно понимали, что делая это, банки нарушают правила американского финансового контроля?
Во-первых, большинство людей считали еврорынок причудливой, чуть грязноватой, но временной аномалией – чем-то таким, что вскоре исчезнет. Журнал Time в 1962 году пришел к выводу, что «по мнению большинства экспертов, евродоллар постепенно исчезнет, если процентные ставки повысятся до европейского уровня или если платежному дефициту США будет положен конец»43. Многие американские банкиры также рассматривали евродоллары как своего рода потешные деньги, которые лучше оставить европейцам. «Подумаешь, евродоллары! – заявил в Лондоне журналу Time один американский банкир. – На самом деле, это горячие деньги – и я предпочитаю так их и называть». И действительно, эти деньги были горячими. Еврорынок, своего рода глобальный проводник антикейнсианских идей, делал краткосрочные движения капитала более чувствительными к малейшим колебаниям процентных ставок по всему миру. А еще этот механизм позволял объединять в одной точке достаточно денег для крупных спекулятивных атак на валюты, которые, по решению спекулянтов, вечно готовых удариться в бега, были очень уязвимы 44.
Существовало еще одно обстоятельство, ставившее политиков США в безвыходное положение. Могущественные интересы американских банков стремились к тому, чтобы на этой офшорной поляне для игр царило максимально возможное спокойствие. Когда Хендрик Хоутаккер, младший член Совета экономических консультантов при президенте США, попытался заинтересовать президента еврорынком, его резко одернули: «Нет, мы не хотим привлекать внимания к этому вопросу»45. Как объяснял один расстроенный ученый, банкиры «умышленно уклонялись от обсуждения этого вопроса»46.
Между тем Банк Англии оставался противником регулирования. В 1973 году несколько немецких банкиров пришли с визитом к Банка, чтобы узнать, какие разрешения нужны, чтобы стать уполномоченным банком в Лондоне. Один из них вспоминает: «Этот господин посмотрел на нас и сказал: “Банк является банком, если я считаю его таковым”». Так оно в общем и было – за исключением того что Дэвид Кинастон называет «редкими, неизбежными церемониями, проводимыми во второй половине дня». Как объяснил один бельгийский банкир, регулирование предполагало обязанность «эпизодически и по очереди посещать церемонии чаепития в Банке Англии, на которых полагается рассказывать о том, чем вы там занимаетесь»47.
Еврорынки были тем глубоким и нерегулируемым финансовым морем, в котором кишели особо крупные и очень опасные акулы последнего экономического кризиса
Даже спустя много лет, когда люди уже начали задавать вопросы, в 1975 году, в отчете одного из комитетов американского конгресса выражали удивление тем, что этот новый рынок остается вне зоны видения политического радара. Эти же вопросы поколением позже, в июне 2008 года, когда финансовая паника распространялась по всему миру, повторил Банк международных расчетов. «Как могла возникнуть огромная теневая банковская система, даже не вызвавшая ясных официальных заявлений об озабоченности государственных органов?» – жалобно вопрошали сотрудники этого учреждения. Как мы увидим, оказывается, что офшорные еврорынки являются средой, в значительной мере благоприятствовавшей этой теневой банковской системе. Еврорынки были тем глубоким и нерегулируемым финансовым морем, в котором кишели особо крупные и очень опасные акулы последнего экономического кризиса – причудливо структурированные инвестиционные инструменты и каналы, недавно вызвавшие столько бед.
Увидеть происходящее сквозь эту тщательно построенную завесу секретности и непрозрачности не удалось не только американским политикам. В письмах Банка Англии ярко раскрывается та главная роль, которую сыграло это почтенное учреждение в выведении офшоров из политической повестки дня. «В прошлом у банка было несколько случаев, когда он упорно противился попыткам министерства финансов получить более полную информацию, – сказано в одном из меморандумов 1959 года. – Заместитель старшего управляющего отказался раскрывать подробности положения уполномоченных банков министерству финансов Ее Величества»48. Как пишет Гари Берн, Банк Англии «охранял свой контроль над британской банковской системой от других государственных институтов, особенно от министерства финансов, чтобы затем делегировать большую часть своих полномочий, через “представительные ассоциации”, банкам Сити».
Кто-либо в Великобритании всерьез поставил под сомнение эту схему и добивался надлежащего рассмотрения поставленного вопроса? В парламентских дебатах, состоявшихся в 1959 году, один из бывших директоров Банка Англии смело заявил, что между государственной и частной ролью банка не может быть никакого конфликта, поскольку «интересы руководителей Банка идентичны национальным интересам»49.
Вернемся к вопросу о том, почему США, несмотря на эпизодическое выражение озабоченности в официальных кругах, в конце концов вступили в сговор с Великобританией и позволили британским банкам вести офшорный бизнес. Ответ на этот вопрос приближает нас к пониманию, где находится реальная власть в этом мире. И здесь обнаруживается еще одна любопытная история.
Сегодня американский доллар – главная мировая резервная валюта. Если страны, находящиеся в менее привилегированном положении, периодически испытывают недостаток иностранной валюты, то США могут заимствовать у себя самих: США могут печатать деньги, необходимые для приобретения реальных ресурсов и долгое время жить не по средствам. Однажды советник генерала де Голля Жак Рюефф сделал следующий знаменитый комментарий: «Если бы у меня было соглашение с моим портным о том, что все деньги, которые я ему заплатил, в тот же день вернутся ко мне в качестве кредита, я был бы не против заказать у него больше костюмов».
Это обстоятельство меняет все. Оно дает президентам США то, что один разгневанный министр финансов Франции, а именно Валери Жискар д’Эстен, назвал «чрезмерной привилегией» Америки – в сущности беспредельным правом на бесплатный проезд. Как сформулировала эту мысль французская газета Le Monde, «рынок делает позицию Америки в переговорах по валютным вопросам гораздо сильнее, чем следовало бы. Американцев держат в состоянии безопасности – оно мало того что является пагубным, но и препятствует серьезному реформированию системы международных финансовых платежей»50. Возможность оплачивать зарубежные долги собственной валютой (которую США могут печатать) обеспечила Америке войну во Вьетнаме. Позднее та же возможность помогала президенту Джорджу У Бушу снижать налоги и увеличивать и без того уже огромный дефицит. А когда настанет день расплаты за этот кавардак, США смогут переложить бремя урегулирования своих долгов на другие страны.