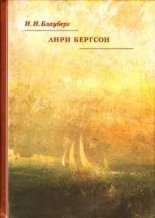Последний заезд Кизи Кен

Посвящения и отказ от ответственности
Три бессмертных всадника маячат на северо-западном горизонте — далекие, туманные, освещенные сзади столькими былями и небылицами, что их тени кажутся более вещественными, чем их силуэты.
Почти век пыльных лет и дымных осеней пролег между нами. Газетные сообщения о тех первых состязаниях (15, 16, 17 сентября 1911 года) читаются как скособоченная помесь Джимми-Грека и Говарда Коселла [1] — они больше заняты цветом кожи, чем достижениями. Один из редких снимков всею трио даже раскрашен вручную, чтобы потомки лучше уяснили суть: на лицо одного наездника наложен медный индейский колер, лицо другого бело-розовое, третьего — цвета густой патоки.
В итоге мы рассудили, что лучше всего вызвать этих духов, не роясь в заплесневелых архивах, а рассматривая тени, которые пролегли через десятилетия. Какому мастерству наездников были свидетелями эти три дня, если так длинны эти тени! Какой ковбойской удали! Вот почему мы решили материализовать наших трех призрачных всадников из легенд, рассказываемых за горячим кофе у костра, а не из холодных фактов и непропеченных истин, хранящихся в библиотечных кипах.
Впервые я услышал историю от отца, когда мне было четырнадцать лет. Я ехал позади с младшим братом в нашем большом «додже ред-раме». Старый глуховатый фермер Райли, друг отца, ехал с ним рядом. Все четыре наши лицензии на отстрел антилоп были вытянуты на Специальной охотничьей лотерее, и мы направлялись в горы Очоко. Мы и не знали, что это неделя родео, пока не очутились вдруг в сплошном потоке машин среди холмистого безлюдья.
— Не может быть! — крикнул папа. — Пендлтонский сгон. Райли, ищи объезд, иначе угодим к лонгхорнам вместо антилоп.
— Не люблю лонгхорнов! — крикнул в ответ Райли.
К тому времени, когда мы выбрались из затора, солнце уже наладилось на боковую, и Райли тоже был не прочь. Папа нашел подходящую колею, и мы разбили лагерь под крутой скалой над городом. В холодной сумке лежала мамина курица, но папа был в настроении стряпать. Мы с братом развели костер из Польши и кедровых сучьев, а он открыл и вывалил в большой железный котелок несколько банок консервов — венские сосиски, свинину с фасолью и сардины — его фирменное блюдо на природе.
— Сардинки, сосиски, бобы, — объявил он, — Небось, проголодались, быка готовы съесть?
— Да-а… быка. Говядинки бы сейчас неплохо, — заметил Райли.
Он смотрел поверх неаппетитного варева на городские огни внизу. Чертовы колеса взбаламучивали ночь.
Танцы на улицах. Жаровни с мясом пыхали жирным пламенем.
— От говядинки не отказался бы, — сказал он.
Мы с братом согласно кивнули. В надежде рассеять тоскливое затишье, повисшее над нашей стоянкой, папа стал вспоминать прошлые родео в Пендлтоне.
— Неотесанным, буйным и блохастым становится в эти дни город. Вот что вам скажу: в будущую осень привезем сюда наших дам и посмотрим все — от утреннего парада в пятницу до церемонии награждения вечером воскресенья. Как?
Мы посмотрели на праздничные огни внизу, и обещание нас не утешило.
— Райли! Ты ведь слышал о первом, а? О первом сгоне?
— Много раз.
— Ребята не слышали. Расскажи им.
— Шам рашшкажи. Говядинки у наш нет, я жубы вынул.
И отец рассказал — под треск сучьев, бульканье фасоли и беззубые подтверждения старого Райли. Увлекательную историю. Он рассказал ее еще раз через два сентября, когда исполнил свое обещание и взял нас всех, с дамами, на родео. Чудесная история. Я и не подумал бы поверить, если бы через несколько лет сам не поехал туда и не услышал ее в вигваме, полном индейцев.
Я учился на третьем курсе Орегонского университета по специальности «радио- и тележурналистика». Посреди семестра мы получили задание написать план документального сценария о городе, который считаем очень особенным. Сдать в понедельник. Я не пошел на занятия в пятницу и отправился в Пендлтон на своем «нэше-амбассадоре» — в нем спинки откидывались, образуя бугристую кровать. Я надел черный берет и взял бурдючок с вином, чтобы люди видели, что я художник, а не турист.
После субботнего представления я сидел за деревянным столом в парке, наскоро записывая впечатления и прыская в рот кьянти, и вдруг заметил, что рядом остановился и мрачно смотрит на меня худой индеец. Он был в обычном костюме для родео: джинсы, сапоги, шляпа с загнутыми полями и рубашка с перламутровыми пуговицами. Все уставное, кроме перчаток. На левой руке — потертая рабочая кожаная, на правой — свежая черная лайковая. Я протянул ему бурдючок.
— Вино. Хотите попробовать?
Индеец кивнул. Он взял бурдючок потертой рабочей перчаткой, зубами вынул затычку, оставив ее висеть. Потом стал выдавливать вино себе в лицо и занимался этим, пока не промочил насквозь воротник, а бурдючок не стал плеваться воздухом.
— Пустой.
Он взял затычку в зубы, заткнул бурдюк и вернул мне. Все это время рука в черной перчатке висела вдоль тела.
— Пора наполнить, — решил я.
Он пошел за мной через парк к машине и держал бурдючок, пока я переливал в него вино из четырехлитровой бутыли. Он заметил спальный мешок на сиденьях.
— Возьми свои мешки, можешь спать у нас в палатке. Я понесу бутылку. Меня зовут Дэвид Крепко Спящий. Зови меня Дейвом.
Так я впервые попал в вигвам. Впервые отведал горячего жареного хлеба с медом, впервые соприкоснулся с холодным, насмешливым индейским юмором.
Когда мой хозяин стащил с себя мокрую рубашку, я увидел, что правой руки у него нет. К плечу была пристегнута деревянная конечность в грубой сосновой коре. Ошкурены и выструганы были только кисть и запястье. Он увидел, что я уставился на грубый протез.
— Я уснул на железнодорожных путях в Уолла-Уолла. Очнулся — правой руки нет. Повезло, однако. Я левша.
Я мог представить себе другие варианты везения, но не решился о них говорить. Спросил только, почему он не снял остальную кору. Дейв поднял деревянную руку другой рукой и любовно посмотрел на нее.
— Сук не сохнет и не трескается.
Позже ночью, когда лагерь затих и кьянти кончилось, Дейв угостил меня рассказом своего деда о том знаменитом первом родео и трех его легендарных финалистах. Дедова версия была очень похожа на версию моего отца. И даже прозвучала величественнее в мерцающем свете вигвама. Чудеснее… Сильнее!
Поэтому наши благодарности и посвящения мы начинаем с Дэвида Крепко Спящего. Он ввел меня в свой волшебный круг и поделился его дивами. А мне оставалось поделиться только вином.
Затем я хочу поблагодарить Леса Хейгена, мир его грешному праху, и его родных. Лес доказал, что хороший игрок в покер никогда не сопьется до того, чтобы перестать выигрывать.
И семью Роя, который лелеял лилию культуры в краю дурнишника.
И Маккормаков с их земной мудростью. «Шут возьми, ты во что-то вступил. Но это просто трава, которая прошла через корову».
И Билла Сивира, и Марти Вуда, и Кендалла Эрли.
И Мишеля Макмайндс, и Дейва Уэбба, и Дуга Минторна.
И бар «Рейнбоу» и «Киммиётиз».
И конечно, моего старого друга и трейл-босса [2] Кена Баббса.
И наконец, город Пендлтон. Если мы исказили факты в нашей повести, то искренне раскаиваемся и оправдываемся тем, что:
Короткая история-огрызок тут не годится.
Кен Кизи
С Майком Хейгеном и Кеном Кизи я познакомился в 1958 году в Пало-Альто и Стэнфорде. Они без конца трубили о великолепии Пендлтонского родео. Сам я причастился его только в 1972-м. Наша компания облачилась в джинсы, сапоги, рубашки с перламутровыми пуговицами и стетсоны и поехала вверх по ущелью Колумбии, чтобы влиться в толпы, заполонившие обтянутые веревками улицы Пендлтона.
Мы пробились сквозь толпу к окраине города, где обитало семейство Хейген. Мы оставили свои сумки и свернутые постели в бараке для работников и отправились на кухню, где отец Майка Лес Хейген командовал круглосуточным покером, а его жена Джанет командовала у массивной шестиконфорочной газовой плиты с двумя духовками.
Лес отобрал у нас все деньги, чтобы пополнять на них шкаф с бутылками. Джанет кормила пельменями с соусом и поила горячим кофе, чтобы поддерживать в нас энергию. Энергии требовалось много. В полдень мы направлялись к арене. К великолепному скопищу ковбоев, индейцев, быков-яйцедробителей и мустангов-спиноломов. В конце концов, один из распорядителей спросил, есть ли у нас какие-нибудь дела в коридорах [3]. Мы признались, что нет. «Тогда не путайтесь под ногами. Если интересуетесь местным колоритом, ступайте в салун "Пусть брыкается"».
Зал под трибунами был набит битком — плечо к плечу, живот к заду. Местного колорита больше, чем я мог переварить. В поисках воздуха я обследовал соседние помещения. Их стены были увешаны фотографиями родео, начиная с первого, 1911 года, до наших дней. Чудесная история запечатлелась в этих исчезнувших лицах — как фургонные колеи в полынной степи.
Пока мы работали над этой книгой, история в наглядном виде продолжала к нам поступать. От Полли Хелм, уроженки Пендлтона, мы получили пачку открыток. Эти картинки иллюстрировали роль женщин в прежних родео. Полли называет свою коллекцию «Она мой герой» и великодушно позволила нам использовать любые фотографии. Джини Мёрфи, подбиравшая для нас иллюстративный материал, связалась с Уэйном Лоу и Маттом Джонсоном в Пендлтоне — у обоих были большие коллекции фотографий родео. Последняя партия пришла из собрания Мурхауса в библиотеке Орегонского университета — опять-таки заботами Джини Мёрфи.
С глубокой благодарностью ко всем этим людям за их вклад и с неоценимой помощью Главного объездчика слов Дэвида Станфорда [4] я принялся отбирать из сотен фотографий те, которые потом вошли в эту книгу. Я также в долгу перед Чарльзом Фёрлонгом за информацию, использованную в подписях к фотографиям, которую я свободно черпал в его книге 1917 года «Пусть брыкается».
Кен Баббс
Глава первая
Ошалев от возмущения и виски
Началось с твоей фотографии на первой странице спортивного раздела «Орегониан». Я наткнулся на нее в воскресенье в читальне Портлендской публичной библиотеки. Тебя одели так, чтобы был похож на него, и репортеры всё старались проводить между вами сравнения… Тут я и начал копаться в былом. Но с тревогой почувствовал, что когда-то яркие мои воспоминания потускнели. Я почти не мог в них разобраться. И подумал: сорваться что ли, купить билет на автобус и самому заняться сравнениями? Давай, старик, сказал я себе — Пендлтонское родео, первый раз за два десятка лет. Пусть брыкается!
Вот почему я очутился в этом проклятом салуне «Пусть брыкается». Он всегда был мне не по вкусу, даже когда я участвовал в состязаниях. Мне не нравилась публика, особенно шумная публика, но это было единственное место, где я наверняка мог найти фото, чтобы сравнить его с картинкой из «Орегониан». Это редкий его снимок без шляпы, сделанный в ту минуту, когда он получал призовое седло Первого мирового чемпионата, который он якобы выиграл. Оригинал хранится в витрине вместе с тем самым мустангом, на котором он якобы сидел в том знаменитом последнем заезде. Когда конь сдох, горожане отвезли его к таксидермисту и сделали чучело.
Тогда-то я и с индейцами связался.
Я собирался посетить «Пусть брыкается» позже, а сначала посмотреть сегодняшние соревнования — но все билеты были распроданы. Кассирша с нескрываемой гордостью сообщила: «Мы набиты под завязку. В этом году "Мир спорта" ведет прямую трансляцию». И закрыла у меня перед носом окошко. Это после того, как я два часа простоял в очереди под палящим солнцем, а в животе ничего, кроме вчерашней тушеной грудинки с пюре, и пересохшее горло нечем смочить, кроме стаканчика струганого льда с розовым сиропом. Так что все указывало на салун «Пусть брыкается» тут же под трибунами.
Зал был набит плотнее брикета с сеном — плечо к плечу, живот к животу, от стены до стены. Все хлебали и кричали во всю глотку. Полные стаканы ездили по стойке, обратно ездили пустые и доллары. И никакого льда, хотя жарко, как в бане. Единственным, что мешало помещению взорваться как перегретому котлу, был очкастый помощник шерифа, расположившийся на помосте у конца стойки. Его глаза походили на пару латунных манометров. Слава богу, мой рост позволял мне немножко возвышаться над этим. Над колышущимся морем ковбойских шляп я видел седло и чучело лошади. И взял курс на них.
В море шляп виднелся небольшой островок возле стойки. Протиснувшись поближе, я увидел, что это кучка индейцев, человек пять-шесть, с непокрытыми головами. Все в одинаковых футболках и все одинаково мрачные. На футболках от плеча до плеча было напечатано слово ВЫЖИВЕМ. Они не пили, и я заключил, что этим и объясняется мрачность. Я знаю, каково это. Я крикнул в их печальный кружок, что буду признателен, если они позволят ветерану угостить их в память о былых временах. Они подняли ко мне головы, и мрачность сменилась любопытством при виде этого ископаемого. Но раньше, чем они успели ответить, ударил колокол.
— Подумать только, — удивился я, — У них до сих пор этот старый колокол-лифчик. Ура традиции.
Две девицы-болельщицы, одетые ковбоями, взобрались на стойку. Та, что повыше, соловая блондинка, с пьяной решимостью трясет веревку колокола. Она спиной к нам, но по тому, как вылезли из джинсов полы рубашки, понятно, что рубашка расстегнута. Наконец бармену удается отнять у нее веревку.
— Хорош, красавица. Тебя заметили — приступай.
Галдеж стихает — все смотрят, как она стаскивает с себя рубашку. Потом заводит руки за спину, расстегивает бюстгальтер и отдает бармену. Он накидывает его на бельевую веревку, рядом с сотнями других.
— Какой размер? — спрашивает он, подойдя к четырем кипам сложенных футболок.
Она выгибает спину и хвастает:
— Экс-эль.
— Я бы сказал, средний, и то еле-еле, — высказывается он без галантности и вручает ей футболку с надписью.
Она делает пируэт, подняв над головой свой приз с шелкографией: ПУСТЬ МОИ ВИСЯТ НА ВОЛЕ В «ПУСТЬ БРЫКАЕТСЯ»!
Народ оглядывает ее и соглашается с барменом: «Срее-едний!» — и снова принимается пить и орать. Я удивляюсь: куда подевалось ковбойское рыцарство? — и тут кто-то тычет меня в бок. Это индеец протягивает мне полный стакан бурбона с водой. И в краснокожем кружке все, по-прежнему без шляп, тоже держат стаканы. А некоторые ловкачи — по два. Я поднял стакан в знак благодарности и подумал: а с другой стороны, не странно ли, что выживание и рыцарство так часто являются вместе? Рука об руку, щека к щеке, пузо к пузу?
Я оставил индейцев, и, пока протискивался сквозь толпу к витрине, колокол зазвонил в честь пухлой маленькой подруги блондинки. Запыхавшись от усилий, я наклоняюсь к витрине. Ветхая лошадь — наглядное объяснение того, почему таксидермия вышла из моды. Седло растрескалось от сухости и покоробилось. Я озираюсь в поисках фотографии и вижу в стекле призрачное отражение лица, такого же растрескавшегося и покоробленного от времени, как старое седло и лошадиное чучело.
Колокол перестал звонить, и я слышу, что у стойки начинается какой-то скандал насчет несовершеннолетних девиц и неоплаченной выпивки, но не придаю ему значения. Отдуваюсь в духоте, гляжу на отражение и с трудом могу поверить, что этот костлявый незнакомец — я. Все из-за новых электрических бритв. Тебе не нужно стоять перед зеркалом. Можно косить усы, читая утреннюю газету за кружкой кофе, и не замечать, как сохнет и щербится старая морда. Я продолжаю глазеть, и вдруг рука в перчатке выдергивает меня из забытья.
— И вы, дедушка. Я вывожу вас отсюда, вместе с малолетними и несостоятельными.
Это помощник шерифа и пара помощников помощника. Они продвигают к боковой двери двух девиц и полудюжину индейцев. Он собирается присоединить меня к их стаду.
— Минуточку, черт возьми, — запротестовал я. — У меня есть деньги, и лет мне достаточно.
— Достаточно, чтобы затоптали. И если есть деньги, почему не заплатили за виски. Посмотрите на себя — дышите, как ящерица. Сидели бы лучше в теньке на трибуне с остальными туристами.
— С туристами? — возмутился я. — Ты назвал меня туристом? — Я не стал объяснять, что выпивкой меня угостили, а места на трибунах распроданы, — Я часть истории вашего чертова города! Кое-кто в Пендлтоне еще знает имя Джонатана Спейна.
— Очень может быть, дедуля, но я не из них. Приканчивай свою халяву и шагай отсюда. Если кого из вас еще здесь увижу, точно попадете в историю.
Потом я очутился на улице и брел под палящим солнцем, обалдев от виски и возмущения. Наверное, вид у меня был нехороший, потому что мои изгнанные соотечественники хотели доставить меня куда-нибудь в сохранности. Девицы хотели отвезти в больницу. Индейцы — накормить у себя в лагере, где стояли их вигвамы. Я предпочел индейцев. Сказал девушкам, что тронут их заботой, но в пендлтонской больнице достаточно пожил в тот год, когда запутавшееся лассо вырвало мне руку, и побывать там еще раз я не намерен, спасибо. Посмотрите лучше, как со всеми нами обошлись. Это будет вам уроком.
Мой индейский эскорт состоит, оказывается, из представителей разных племен со всей страны. Они познакомились в тюрьме Дакоты после большой протестной сходки. И с тех пор собираются каждую осень. На животах их красных футболок со словом «ВЫЖИВЕМ» были напечатаны их клички. Тот, который подал мне дармовой бурбон, зовется Чинёным Коленом. Самый светлокожий — дядя Томагавк. Самый темный — Номер Девять, по песне Роджера Миллера [5]. Номер Девять местный, как и малолетние девицы.
Они ведут меня через парк на свою стоянку. Девушки суетятся, в пьяном беспокойстве о моем здоровье. Соловая блондинка даже предлагает мне свой билет, если я позволю отвезти себя к врачу. «Мой отец забронировал лучшие места на трибуне». Номер Девять готов спорить, что у Выживающих лучше. Говорит, что у них отдельная кабина с многоканальным телевидением. Девушки говорят, что должны это увидеть, и мы идем через ворота, мимо зигзагом расставленных вигвамов, к наблюдательному пункту, туда, где сетчатая ограда отгораживает индейскую стоянку от дороги, подводящей к коридорам. Более жаркого и пыльного места они найти не могли.
У них действительно много экранов, хотя не совсем кабина. Вплотную к ограде стоит большой телевизионный трейлер «Мира спорта», и его задняя дверь полностью открыта ради ветерка с реки. Выживающие натырили основательную пирамиду сена и протянули к ее макушке черный пластик. Получилась тенистая пещерка, и мы можем видеть сквозь сетку всю работу телевизионщиков. Девушки соглашаются, что место удачное. Пухленькая достает из сумки поллитровку текилы, Чинёное Колено вытаскивает из сена арахис и лимоны, и мы рассаживаемся поудобнее. Люди в трейлере обращают на нас внимания не больше, чем если бы мы были курами на насесте.
На мониторах мы видим происходящее на арене с разных точек и слышим голос диктора. По телевидению он доносится до нас на добрых полторы секунды раньше, чем по воздуху из громкоговорителей. «Женские скачки, друзья… и похоже, миленькая…» — и тут же эхом с арены: «ЖЕНСКИЕ СКАЧКИ, ДРУЗЬЯ… ПОХОЖЕ, МИЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА В ГОЛУБОЙ ШЛЯПЕ УЛЕТАЕТ С ГОЛУБОЙ ЛЕНТОЙ».
— Да, но не очень высоко в плане рейтинга, — слышится из трейлера, — Скучно, не увлекательно, — Это говорит женщина с острым подбородком. Она сидит во вращающемся кресле.
— Традиция, — говорит помощник, вьющийся у нее за спиной; у него мешки под глазами и мешковатый велюровый свитер, — Женские скачки у них с самого первого родео.
— Традиционное это еще не телевизионное, — сообщает она ему, — У нас нет ничего поживее?
Он смотрит в блокнот.
— Следующий номер — езда на быке. Самый забойный. И смотрите-ка. Первым — наш удалец из Уоттса.
— Этот нахальный коротыш с пресс-конференции?
— Он самый. В роскошной красной шляпе. Возьмем его ручной камерой.
— Лучше нахальный, чем скучный. Давай, — Она поворачивается к микрофону. — Феликс? Держи мне черного наездника.
Это заставляет меня присмотреться внимательнее. Может быть, все-таки придется сравнивать лица.
— Возьми ручной, Феликс. Мне нужен крупно молодец из Уоттса. Он будет выходить из коридора номер…
Диктор подсказывает ей:
— А теперь в коридоре номер два на бычке Колыбельный братьев Кристенсен лошадка совсем другой… э-э… породы. Впрочем, друзья, любой завзятый любитель родео знает, о ком я говорю: Дрю Вашингтон. Один из популярнейших молодых ковбоев, прирожденный чемпион, если я что-нибудь в этом смыслю. В прошлом году Дрю занял второе место, сегодня после двух дней он идет первым с большим отрывом. Единственное, что ему нужно сейчас, — усидеть до конца. Никаких трюков. Если он продержится до колокола, то не только будет первым — он будет первым представителем своей расы, завоевавшим призовое седло, после бессмертного черного ковбоя, победителя первого Пендлтонского родео.
Тут я вскочил как ошпаренный:
— Придержи коней! Джордж Флетчер на нем не победил!
Оператор занял позицию у второго коридора, но между досками мы видим только ступню наездника. На ней потрепанная кроссовка со шпорой, примотанной к резиновой пятке. Изображение колышется и подпрыгивает в щели между досками.
— Похоже, Дрю трудновато держаться на старине Колыбельном, даже в кроссовках. Что ты сказал, Тайфун? — Он ведет разговор с клоуном [6] на арене, — Спрашиваешь, почему столько наших ковбоев стали носить кроссовки вместо сапог? Я не знаю ответа. Может, ты мне скажешь, Тай? А, понял: чтобы их не путали с дальнобойщиками.
Публика стонет.
— Хорошо, Тайфун, вот тебе задача. Можешь сказать, у кого Флетчер выиграл призовое седло. Правильно. У Джексона Сандауна, бессмертного Красного Всадника, индейца нез-персэ. Впоследствии Джексон Сандаун… Смотрите! Вот он выбежал. Взрывной бык, короткий запал. Держись, ковбой!
Бык вылетел из коридора, шляпа наездника заполняет экран, бешено подпрыгивая. Я прильнул к сетчатой изгороди, но вижу только неясное мелькание этой пурпурной шляпы, сдвинутой набекрень, и под ней — дерзкую улыбку. Но гибок, я вижу. До поры ты был гибок, как дым.
— На третью! — шипит начальница в микрофон, — Третья камера, фокус! Мне надо больше лица! Дай больше лица и фокус!
Камера с другой стороны арены берет наездника крупным планом. Диктор не умолкает.
— Злой бык, крепкий всадник. Иихоу! Дрю Вашингтон из Уоттса, леди и джентльмены, козырной туз, прирожденный чемпион! И вот колокол! Он удержался, друзья! Он победил! Впервые за полвека с лишним мы, кажется, получили… надеюсь, вы понимаете, друзья, что я не имею в виду абсолютно ничего оскорбительного, — просто таким именем наградила его история… — И мы слышим дважды, сперва из трейлера, а потом из громкоговорителей на арене: — Второго НИГЕРА ДЖОРДЖА ФЛЕТЧЕРА!
И тут я увидел, как гибкость тебе изменяет, — увидел даже на этих маленьких телеэкранах.
— Абсолютный чемпион этого года, обладатель главного…
Тысячеголосый вздох толпы, и ликование диктора сменяется ужасом.
— Не может быть! Он повис. Повис! Давай же, Дрю. О боже, его прижало, головой назад.
Экраны показывают все в подробностях, с разных точек: как жесткую перчатку захлестнула веревка и прижала поперек тела… как рука в локте согнута под неестественным углом… как бьется голова о широкий бок быка, сильно, раз за разом. Лихая шляпа отлетает, и открылось детское лицо, искаженное болью и страхом. Наш чемпион — всего лишь мальчик, тощий паренек, и болтается, как тряпичная кукла. На выручку бросаются клоуны, потом верховые помощники. Только четырьмя лассо удается остановить быка, чтобы высвободить руку из-под веревки. Потом сирена и мигающий свет. Пока медики осматривают повреждения, телевизор показывает замедленные повторы. Диктор сообщает подробности.
— Вот когда это произошло. Наездник — левша и почему-то спешивается слева… и его прижимает к левому боку животного, спиной. Вот! О! О боже! Бык подбрасывает его… и опять!.. Колыбельный, один из самых ярых быков во всем родео… О боже мой…
Самых ярых во всем родео, о боже, о боже мой. Я был рад, что под руками ограда. От сирен, от замедленных повторов у меня помутилось в голове. Надо было старой кляче пить крепкий виски под жарким солнцем и на пустой желудок? Нет, не надо было. Я понимал, что надо сесть и успокоиться, но хотел увидеть. Больше лица, как режиссерша. И когда с воем в пыли выехала «скорая помощь», я, как идиот, побрел за ней вдоль изгороди. Не знаю, чего я хотел — остановить ее, повернуть в другую сторону? Знаю только, что совсем не хотел оказаться через несколько минут в такой же, под завывание сирены. И в итоге — снова в проклятой пендлтонской больнице, на обследовании, вслед за тобой… снова в прошлом, с вереницей мыслей о нем: пар… свисток паровоза, назад по ржавым рельсам памяти.
Глава вторая
Сюрприз
Паровозный этот свисток был давно, чуть ли не, черт его, в другом веке. До всякой Второй мировой и Первой мировой, и подавно до «Мира спорта». Впервые кто-то из нашей семьи пересек линию Мейсона — Диксона [7], а тем более забрался так далеко на север, и я гордился тем, что этот кто-то я, младший сын, семнадцатилетний, ясноглазый, как младенец, и почти такой же наивный.
Этот новый мир я наблюдал через щель между досками в открытом скотском вагоне. Путешествовал я без роскоши, но устроился с удобствами. Тощий зад мой покоился на свежей соломе, голова — на седле. Я лежал босиком и с удовольствием шевелил грязными пальцами ног в воздухе, насыщенном золой. За многокилометровый путь у меня все перепачкалось золой, кроме сапог. О сапогах была особая забота, их защищали от золы и ветра ящики и брезент. Они сияли, несмотря на зольный ветродуй. На голенищах спереди был вытиснен конфедератский флаг, они сияли от многократных чисток. Время от времени я и здесь их протирал. До Пендлтона оставалась еще ночь езды, и я хотел выступать там в блестящих.
Паровоз снова свистнул, и между досок я увидел, по какому случаю он свистит.
— Антилопы, Стони! Вилорогие антилопы! Посмотри, как бегут!
Рядом со мной стоял мой конь Стоунуолл [8]. Он широко расставил ноги из-за качки вагона и смотрел поверх последней доски, заложив назад уши. Стоунуолл был большой серый мерин, шестнадцати ладоней [9] ростом — в самый раз для такого долговязого всадника, как я. Нрава капризного и подозрительного, но надежный на длинных перегонах — даже по железной дороге. Мы выросли и сдружились в Теннесси.
— Эй вы, попутчики! — крикнул я в переднюю часть вагона. — Видите их? Настоящие антилопы…
В другом конце вагона равнодушно стояли голубой подсвинок и лягливая лошадь. Видная пара, надо сказать. Свинья была вся разукрашена серебряными звездами, а лошадь — ярко-зелеными трилистниками клевера. Тоже ехали на большое представление. Заслуженные артисты.
Впереди загрохотало. Поезд с грохотом мчался по мосту над ущельем. Мне пришлось подтянуться на верхней доске, чтобы увидеть реку внизу. Она была далеко — узкая голубая ленточка в глубокой расселине. Когда проехали мост, я убрался с ветра и в сотый раз вынул из кармана рубахи афишку.
Экстренный * На Родео *
* Поездка в современном поезде
* Подлинная кухня Фронтира[10]
+ Салон-вагоны + Танцы + Азартные игры
Середину афиши занимала карта с маршрутом экстренного: ДЕНВЕР — ПЕНДЛТОН. Я провел по нему пальцем до реки.
— Господа. — Я улыбнулся моим спутникам. — Мы только что пересекли Снейк-ривер. Теперь мы в штате О-ре-гон. Вы рады?
Звездная свинья хрюкнула по-прежнему равнодушно, а клеверная лошадь в ответ лягнула ящик. Я пожал плечами:
— Ну что ж. На всех не угодишь.
Я смотрел на пейзаж, пока не село солнце, потом ушел с холодного ветра, проникавшего сквозь щели. Собрал дощечки разбитого лошадью ящика и на большой сковороде развел костерок. Из сумки с провизией вытащил громадный ямс [11]. Несколько недель назад я заехал на ферму к двоюродной бабке, и она дала мне кроме стеклянной банки с желтым самогоном кучу ямса. «Возьми, — велела она, — Вся эта ерунда в твоем мешке кончится, а он останется». Она была права. Кофе, кукурузные булочки, сыр и рыбные консервы ушли быстро, яблоки я доел черт-те сколько километров назад. Денег у меня хватало, и кувшин оставался непочатым, но маршрут наш со Стоунуоллом пролегал в стороне от магазинов и повода выпить не давал. Вот уже несколько дней мы питались ямсом — эта картофелина была последней и самой крупной. Я заточил обломок дощечки ножом и насадил на нее картофелину. Стоунуолл наклонился и понюхал.
— Терпение, сэр, — сказал я нюхальщику.
Я знал, что он может съесть свою порцию сырой, но как церемонный южанин заставил его подождать, когда ужин подадут всем.
Я пристроил вертел над огнем, положил голову на седло и посмотрел на звезды. Долог путь от Теннесси. Как я уже сказал, я был младшим из братьев Спейн и младшим в семье, не считая сестренки. Только с ней мы и были близки. К тому времени, когда мне исполнилось десять, а ей восемь, наши братья разъехались, отправились кто куда, бродяги. Но не дальше Нового Орлеана, Галвестона и других таких городов — словом, все на юг. Я говорил сестре, что, когда уйду из дома, придумаю, ей-богу, кое-что получше. Поклялся, что на север поеду и буду странствовать, пока не доберусь до настоящей границы, если такая еще осталась в нашей, почти оседлой уже стране.
— Далекий путь, сестренка, — сказал я, улыбаясь этим северным звездам, гордый, как лягушка, съевшая светляка.
Поезд пыхтел, одолевая крутой подъем. Веки у меня отяжелели, звезды померцали, погасли. Я уже задремывал, как вдруг, ниоткуда, послышался будто бы приближающийся гром. Но между мной и звездами не было ни облачка! Гром все приближался и приближался сзади и сменился пронзительным ржанием. Только я хотел посмотреть в ту сторону, как в звездном небе прямо над моей головой пронеслось большое растрепанное черное тело. Оно с грохотом приземлилось в неосвещенной передней части вагона и затормозило со стуком, обратив в бегство свинью и лошадь. Я приподнялся на локтях, и в это время сзади снова застучали копыта и надо мной пронеслась вторая тень. Тень со стуком затормозила рядом с первой. Обе развернулись и надвинулись на меня из темноты. Я схватил палку с ямсом и, как штык, выставил навстречу громоздкой паре.
Мое смешное оружие как будто произвело впечатление на всадников. Они спешились и подошли к костру, пристально разглядывая клубень, насаженный на его конец. Один был индеец, худой, прямой, тонкогубый, в шляпе с прямыми полями, и глядел мрачно. Сапоги на нем были индейского типа с мягким верхом, изношенные почти до смерти. Он задумчиво водил по щеке странной монетой. Второй был черный и так же весел, как первый угрюм. Шляпа на нем была настолько старой и бесформенной, что невозможно было угадать ее первоначальный вид. Я ждал, что они предпримут. Индеец сдвинул шляпу на затылок, и я увидел, что глаза у него дико блестят и в них ни капли страха. Они были — голодные.
— Хороший ямс, — сказал он.
Черный наездник кивнул:
— Несомненно. А не согласится ли наш благородный молодой громобой разыграть его в картишки?
Глава третья
Настоящий десятицентовый вестерн
Не много времени понадобилось, чтобы разглядеть, какая странная пара вклинилась в мою жизнь. Даже самый неопытный глаз узнал бы в них настоящих бывалых молодцов из десятицентовых вестернов [12]. Черный был меньше ростом, но возмещал это зубами: они сияли не хуже луны, плясавшей со звездами за его плечом. Себя он представил как мистера Флетчера, но зови меня просто Джорджем, а своего молчаливого товарища — как мистера Джексона Сандауна.
— Можешь звать его Джек-На-Закате или Сонный Джек, все равно как, — индейцы все время меняют имя.
Я прикинул, что мистер Флетчер сантиметров на пятнадцать ниже меня и раза в три старше. Трудно сказать, что выдавало его возраст. Лицо у него было младенчески гладкое, а глаза плясали, как бесенята, у которых вообще нет возраста. У него как будто все плясало — от черт лица до ног в сапогах. Он ни секунды не мог находиться в покое, и казалось, он пляшет под скрипку, а скрипка — его рот.
— Конечно, мы поняли, что поезд едет на родео, — говорил он. — По эту сторону Скалистых гор все туда едут. Ты тут сзади сидишь, сынок, с поддельной ирландской лошадкой и звездно-полосатой хрюшкой. И не представляешь себе, какие у них там впереди развлечения! Подержи мне зеркало, будь другом. Я немного припомажусь.
Он вылез из пыльной рабочей одежды и достал из седельной сумки парадную. Расфрантившись, как павлин, он занялся своей седоватой прической. Я держал зеркало.
У индейца был свой выходной наряд — строгая тройка и крахмальная белая рубашка. По его морщинам я понял, что он даже старше Флетчера. Он был такой же узкобедрый, но прямой и негнущийся, как палка. Глаза у него блестели так же, как у его черного товарища, но они не плясали. Они не моргали даже. Они сверлили, как пара закаленных сверл. Его блестящие волосы были заплетены в косы с обеих сторон и сплетены вместе под подбородком наподобие галстука. Конец этой двойной косы он пытался продеть в золотой самородок с дырочками. Видимо, одна из них была сквозная.
— Дай мне этого жира, — сказал он.
— Ну, конечно, Закатный. — Джордж бросил ему на ладонь шматок помады и подмигнул мне. — Я ничего не пожалею, лишь бы подсластить кислое личико мистера Джексона.
Индеец смазал помадой растрепанный кончик косы, а Джордж продолжал болтать.
— Слышишь, в этом поезде пропасть возможностей, если кто готов за ними слазить и в состоянии поиграть. Ты как думаешь, ты в состоянии? — спросил он меня.
— Я в состоянии.
Настроение у меня было бесшабашное. Прикончив вместе со мной последний ямс бабушки Рут, они сразу принялись за ее самогон.
— Только покажите мне, куда лезть.
— Ты сперва обуйся, — Он кивнул на мои грязные ноги, — Нас там ждет высшее общество.
Я сел, надел носки, потом достал из укрытия сапоги. Оба спутника выпучили глаза. Впервые с тех пор, как они вскочили на поезд, Джордж Флетчер, кажется, не нашел слов. Заговорил в конце концов индеец:
— Сколько они стоят, твои сапоги?
— Точно не могу сказать, мистер Джексон. Отец купил их в Нашвилле мне на шестнадцатилетие. Знаю только, что не отдам их ни за какие деньги.
Это заявление вывело Джорджа из транса.
— В Нашвилле? В Нашвилле, Теннесси? Я знал одного коновала из Нашвилла. Ветеринар никудышный, но такого франта ты в жизни не видел. Выходил принимать жеребенка разряженный, как плантатор. Но таких, как на тебе, роскошных, даже у него не было. Мм. Нет, Джордж постарается не выглядеть чучелом рядом с вами, франтами. Будь добр, протяни мне вон ту коробку.
Я достал из-за его ветхого седла круглую коробку. Он отстегнул крышку и вынул стетсон с высокой тульей, цвета свежего масла. Теперь я выпучил глаза. Он крутанул ее на пальце и улыбнулся мне.
— Ты когда-нибудь по верхотуре бегал, мистер Нашвилл? Не думаю. Но лучше этого поезда не найдешь, чтобы поучиться, и луны такой, чтобы освещать дорогу. Только смотри, куда ставишь ногу, и делай, как я, тогда все будет в порядке.
Он надел стетсон и затянул шнурок под подбородком.
Я тоже надел шляпу и заправил шнурок. Индеец поднял свою косу на макушку и нахлобучил шляпу с плоскими полями.
— Осторожней по лестницам, — хмуро посоветовал он, — Ржавчина хорошую кожу испортит.
Приятно было знать, что мои новые друзья заботятся о моих ногах и моей обуви. Оказалось, что ржавые лестницы для меня не самое сложное. Я перешел по сцепу, влез на крышу товарного вагона и только тут почувствовал, как это высоко. Луна хорошо освещала дорогу, но уверенности мне не придавала. Я старался не обращать внимания на каменистый ландшафт, проносящийся мимо, и сосредоточиться на том, куда ставлю ногу. Когда я дошел до гремящего проема между вагонами, он показался мне глубоким, как ущелье Снейк-ривер. Джордж и Сандаун прыгнули, не задумываясь, и приземлились в золотых всплесках. Когда золото опало, я увидел, что они стоят по пояс в полувагоне пшеницы. Они поманили меня, и я знаком показал им, что прыгну, только наберусь сейчас храбрости. Пока я набирался, паровоз дал свисток.
— Прыгай, Нашвилл, — крикнул Джордж, — Давай! Сейчас же!
Худое лицо его друга было повернуто навстречу летящей саже.
Паровоз снова засвистел, и они оба легли в пшенице. Впереди под колесами снова загремел рамочный мост, более короткий, чем над Снейк-ривер, и гораздо ниже! Считанные сантиметры между трубой и поперечной балкой! Я глубоко вздохнул и прыгнул — за мгновение до того, как над нами пронеслась балка. Пшеница забилась в рот, заткнула ноздри. Я сел, отплевываясь, но они тут же повалили меня. Мы лежали навзничь и смотрели на пролетающие балки. Когда мост кончился, Джордж сел и улыбнулся мне.
— Какой-то у него пасмурный вид, а, Джек? — сказал он. — Может, пшеница ему в нос набилась?
Индеец сел с другой стороны от меня.
— У них там ямс растет. Может, он не привык к пшенице.
Наверное, он пошутил, но на лице не было и тени улыбки. Казалось, он напрочь лишен чувства юмора.
Мы проползли по пшенице вперед и перепрыгнули на крытый вагон. После пережитого страха это далось легко. Дальше была платформа с каким-то громоздким предметом, запеленутым в брезент, величиной с какую-то из этих новых сельскохозяйственных машин, которые работали на бензине. Мы спустились туда, присели у непонятного предмета и стали выгребать зерна из манжет и других щелей. Джорджа Флетчера одолело любопытство. Он отвязал угол брезента, заглянул внутрь и тихо свистнул. Затем аккуратно привязал брезент.
— Что там? — спросил я. — Комбайн?
Он помотал головой.
— Нет, если только мистер Ролле и мистер Ройс не занялись сельскохозяйственной техникой. Я же говорю, в этом поезде полно призов. Поднимайся, Джек! Время уходит.
Следующий вагон был украшен закопченной красно-бело-синей тканью, цветов государственного флага. Мы запрыгнули в маленький тамбур. За дверью слышались громкие голоса и смех — они немного пугали. Я рылся за поясом, вытаскивал зерна.
— Чувствую себя как мякина, — прошептал я.
— А я себя чувствую как картежник на миссисипском пароходе, — похвастался Джордж. — Как родное дитя фортуны, — Но сказано это было шепотом, так что не я один робел, — Джек, мумбо-юмбо твое при тебе?
Индеец, нагнув голову, заглядывал в окошко двери. Не обернувшись, он запустил палец в часовой кармашек жилета и вытащил странную монету. Она была большая, тяжелая, медная. Он потер ее о подбородок.
— Что это? — спросил я. Тоже шепотом.
— Это важный амулет мистера Джексона, — сказал Джордж. — Цент с головой индейца — с Всемирной ярмарки тысяча девятьсот четвертого года в Сент-Луисе. Бюро по телам индейцев отправило его в Сент-Луис — бесплатно!
— Я последний живой родственник вождя Джозефа [13],— сказал индеец. — Сын его брата.
— Да, мистер Джексон, как он говорит, — законный наследник трона нез-персэ. Если бы у них был трон, хи-хи-хи. Расскажи парню про монету, ваше величество.
Индеец отвернулся от окошка и осмотрел меня с ног до головы — достоин ли я. Потом изобразил, как засовывает медную монету в щель.
— Там была машина. Со щелкой сверху, вроде копилки. Туда суешь двадцать пять маленьких центов, а оттуда…
Он перестал засовывать, и медная монета скрылась между медными пальцами, исчезла, но не картинно, как у фокусника, а естественно, как рак уползает в ил. Индеец дернул воображаемый рычаг, и монета возникла на другой ладони.
— …выпадает один большой. В двадцать пять раз счастливее.
— Индейская арифметика, — пояснил Джордж. — Мы цивилизованные люди, мы понимаем, что так не бывает. С другой стороны, знаем, что так может быть. Лично я однажды целое Рождество играл в орлянку против этого чертова цента — и не выиграл ни разу.
Я посмотрел на них с сомнением.
— То есть в среднем, ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать — ни одного броска! Орел, решка, не угадал — проиграл. Этот чертов медяк никогда не проигрывает.
— Никогда? Это невозможно.
На лице у индейца мелькнуло что-то отдаленно похожее на тень улыбки.
— Хочешь поспорить?
— Поспорить? На что?
— На мой золотой самородок — что из двадцати пяти раз не угадаешь ни разу, — Большим пальцем он щелкнул ко мне монету, — Подбрасываешь ты.
Я поймал монету одной рукой и шлепнул на тыльную сторону ладони. Если я хочу завоевать уважение этих ветеранов, нельзя поддаваться на их блеф.