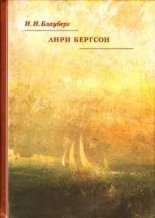Последний заезд Кизи Кен

Джордж вежливо повторил вопрос, еще звонче:
— Извините, масса Буффало! Можно мне назад мою желтую?..
— Да! — Рассерженный Коди встал, кренясь, и сорвал с себя шляпу. Хотя все его союзники исчезли или дезертировали, он был достаточно пьян, чтобы вести себя агрессивно. — Забирай свою вшивую шляпу, чтоб тебе провалиться, потрох. Но сперва… — Он вынул нож из расшитых бисером ножен. — Что скажешь, масса Флетчер, если я возьму себе маленький сувенир?
Джордж не знал, что сказать. Кажется, он жалел, что раздразнил немощного старикана.
— Подарочек на память? — продолжал Коди, — Чтобы напоминал мне: если еще раз доведется ехать через Пендлтон — езжай мимо, не задерживайся.
Он воткнул нож в тулью. Пока старик кромсал желтый фетр, зрители не проронили ни звука. Ему удалось выпилить кусок размером с глазунью из одного яйца и примерно такой же формы. Он торжествующе поднял трофей.
— Не пожалеешь старику сувенирчик, а, Флетчер? — Он засунул кусок фетра за пояс, словно скальп, добытый в бою. — У тебя осталось много шляпы, а эта дырка будет твой сувенир. На…
Он завел руку влево, чтобы запустить трепанированный стетсон, но могучий голос откуда-то с крыши обрушился на него, как пушечное ядро:
— МИСТЕР КОДИ! СЭР!
Все головы повернулись в ту сторону: какого калибра орудие могло выпустить такой снаряд? В ложе прессы открылась дверь, оттуда выкатилась Надин Роуз; на вздымающейся груди ее боролся за место громадный бинокль, и ее кулаки были гневно сжаты. Спускаясь, она продолжала адресоваться к старому разведчику — слова звенели, как меч валькирии.
— Мистер Коди, если вы будете так любезны, я тоже не прочь получить на память часть этой шляпы. Больше того, мистер Коди, я готова заплатить за этот сувенир… — она сунула руку в карман своего платья цвета хаки и вынула банкноту, — пять долларов наличными! Что вы скажете, мистер Коди? Пять долларов — достаточная сумма?
Теперь уже мистер Коди не знал, что сказать. Сесил Келл приставил ладони рупором ко рту и ответил за него:
— На мой взгляд, достаточная, мисс Роуз. И я, пожалуй, куплю два — один себе и один для миссис Келл.
Мы с Сандауном переглянулись и пожали плечами, в таком же недоумении, как остальная публика. Мистер Келл шагнул через патриотическую драпировку в ложу. Он отобрал нож и вскрытый стетсон у растерявшегося Коди и быстро пошел к трибунам. Он вырезал из полей шляпы полумесяц, разрезал пополам и с двумя кусками фетра в одной руке и пачечкой зеленых бумажек в другой подошел к бреши в заборе, проделанной Длинным Томом.
— Еще десять долларов, мисс Роуз! — крикнул он. — Хороший почин.
— Очень хорошо, мистер Келл. Великолепно! Ну, кто еще?
Надин Роуз вышла на поле и повернулась к трибунам. Она запыхалась, но голос ее сохранил прежнюю мощь. Сирена Клэнси и грозовая туча должны были позеленеть от зависти.
— Кто еще желает приобрести бесценный сувенир? Вам выпала двойная удача. Вы не только внесете свой вклад в благородное дело, вы поддержите самого достойного гладиатора!
— Какое еще благородное дело? — поинтересовался циник с северной трибуны, — Какой еще гладиатор?
Надин Роуз обвела трибуны гневным взглядом:
— Вы разочаровали меня, орегонцы! Подумать только — какое дело! Подумать только — какой гладиатор! Неужели ни у одного из вас не родилось хотя бы случайной догадки?
Догадка родилась не в ложах и не на трибунах. Она родилась на «галерке» участников.
— Это — седло, да, мэм? Для Джорджа? — Я узнал голос. Это был утконосый Кантрелл, недотепа из Канады. Он разгадал загадку раньше нас, американцев, — Я правильно сказал?
— Абсолютно правильно, молодой человек. Седло! Джорджу Флетчеру нужно седло, мои дорогие, и — это мое искреннее убеждение как приезжего журналиста — вы, пендлтонцы, обязаны ему подарить!
Единственный отклик пришел из той же «галерки»:
— Тогда я пас, мэм. Я торонтец!
Зрители рады были бы посмеяться и разойтись по домам. Но у журналистки на этот счет были другие планы. Осуждающим взглядом она пригвоздила их к местам. Сесил Келл подыграл ей со своей стороны поля:
— Тут не только Пендлтон. Тут Арлингтон и Уолла-Уолла, тут Льюистон и Уиннемакка и даже далекий Чико. Тут все, кого смешил, изумлял или, черт возьми, повергал в трепет Джордж Флетчер!
Настойчивость Келла оказала не больше действия, чем призывы журналистки. Нет, люди сочувственно отнеслись к предложению — видно было по их кивкам, — но на большее их, кажется, не хватило. Они отупели от усталости и были раздосадованы неожиданным осложнением. Кроме того, им надоело находиться в толпе; хотелось только убраться восвояси и мирно поужинать без чужих.
Журналистка с отвращением отвернулась от них и целеустремленно затопала к нам. Публика снова загудела и заерзала. Еще минута, и она рассыпется не хуже старого седла Джорджа. Я решил, пока не поздно, вставить и от себя слово.
— Мистер Келл! — крикнул я, — Разрешите отдать седло Джорджу. Для роупера оно слишком тяжелое, а для южного джентльмена слишком вычурное. Да если бы не советы Джорджа, я ни за что бы…
— Нет, сынок, ни в коем случае! — Мистер Келл вышел через пролом в ограде и зашагал по грязи, со шляпой и ножом в одной руке и деньгами в другой, — Это не благотворительность. Это — справедливое дело, как сказала мисс Роуз. Ты получишь то, что тебе причитается — четыреста долларов, насколько помню, — даже если мне самому придется целиком купить эту историческую шляпу, — Он подвигал ею перед собой, как тамбурмажор, — Кто еще претендует?.. Продано… продано…
Выручил его Сандаун.
— Подождите, — раздался монотонный голос индейца. — Может быть, я хочу три куска. Один для меня, один для жены и один — на дерево за нашей избушкой в Айдахо.
В ответ ему презрительно заблеял Буффало Билл:
— Какое еще дерево, индеец Джек? Стоеросовое?
Прежде чем ответить, Сандаун, прищурясь, смотрит на старого охотника. Он не кричит. Даже не повышает голоса. Но голос его прорезает расстояние, как обсидиановые ножи в той байке.
— Это погребальная сосна, мистер Коди. Желтая сосна, с дуплом от молнии. В дупле лежат кости нашего маленького сына. Она очень старая и вся в шрамах, но стоит живая и еще постоит. Я говорю этому дереву молитвы. И в церкви за него благодарю. Когда уезжаю, всегда стараюсь привезти ему хороший подарок. Что скажете, мистер Коди? Я слышал, старейшины черноногих говорили: «Буффало — Орлиный Глаз». Они говорят, что вы знаете привычки индейских духов не хуже индейцев. Поэтому спрашиваю: как думаете, кусок шляпы Джорджа Флетчера будет хорошим подарком дереву? Или это тоже «дурацкие индейские россказни»?
Старик набрал в грудь воздуху и поднял палец в перчатке, готовя напыщенную саркастическую тираду. Но что-то его остановило. Думаю, он мог вспомнить тогдашнее свое замечание в поезде насчет «индейских россказней». Позже я узнал, что они с женой тоже потеряли ребенка, шестилетнего сына. Он умер во время эпидемии гриппа. Я узнал, что и Сандауну было об этом известно. Старик опустил руку и обмяк.
— Я думаю, дереву понравится кусок этой шляпы, мистер Джексон. И маленьким косточкам тоже.
— Спасибо, мистер Коди. — Сандаун вынул из-под рубашки брякнувший кошель и стал развязывать шнурок, — Тогда мне три куска, мистер Келл.
Над стадионом установилось полное безветрие; слова повисли в воздухе как дым. Сделалось так тихо, что слышно было звяканье серебряных долларов, отсчитываемых Сандауном. Однажды зимой я сел на пароход от Астории до Сан-Франциско, чтобы послушать знаменитого оратора Уильяма Дженнингса Брайана [55]. В зале было десять тысяч сидячих мест, и еще многим из нас пришлось стоять. Собрались там по случаю публикации фотографий Эдуарда Кёртиса [56]. Речь Брайана была озаглавлена «Нарушенные обещания, сломленные народы — трагедия исчезающего американца». Он начал с Покахонтас, спасшей жизнь Джону Смиту [57]. Напомнил нам о Скванто [58], принесшем кукурузу и бататы пилигримам в наш первый День благодарения.
Рассказал о кавалерийских набегах и бойнях, о договорах и предательствах. Подробно описал болезни и вымирание чероки на Дороге слез [59], заставил нас самих почувствовать, как зазубренная лава режет ноги вождя Джозефа и его последователей, отчаянно устремившихся к свободе [60]. Оратор-златоуст говорил без бумажки и без перерыва. Не было сердца, которого он не тронул бы, не было глаза, из которого не выдавил бы слезу. У него ушло на это три с половиной часа. Сандаун растрогал втрое больше народу за тридцать секунд — и растрогал сильнее. Когда индеец отсыпал в ладонь пятнадцать серебряных долларов, Прерия Роз сняла с головы отороченную бархатом корону и протянула мистеру Келлу.
И тут началось. Серебряный звон пятнадцати кругляков словно отпер запоры. Люди повскакали с мест. «И мне кусок!» — раздался всеобщий ор, и повалила сюда вся американская пестрядь: сшитые на заказ деловые костюмы и стираные-перестиранные синие рубашки, бесшабашные канотье и суровые котелки катал, стоптанные башмаки и модные лакированные туфли прямо из Парижа, — вставали с хохотом и радостными криками и, грохоча ногами, с деревянных трибун волнами катились вниз по лестницам, бум-бум-бум!., дети, смеясь и выдергивая руки из родительских; расфуфыренные матери, болтая и пытаясь удержать детей, отцы, обмениваясь сигарами и хлопая друг друга по спинам… Синий Воротничок с Супружницей и Пацаненком бок о бок с Деловым Костюмом, Хозяйкой Дома и Прямым Наследником… бум-трам-бум, все вместе в счастливом согласии, потому что только этого они и ждали: вылезти из тесноты трибун, спуститься на широкое поле, почувствовать под ногами землю, пнуть ком, поднять немного пыли перед тем, как попрощаться и пойти домой.
Они опять стали толпой. Почти ордой.
К счастью, когда толпа прихлынула, Надин Роз уже стояла на тележке с седлом и распространялась о том, какое историческое значение скоро приобретет кусок шляпы. Мистер Келл орудовал ножом, а Прерия Роз заведовала кассой. Втроем они смахивали на лихую команду аукционистов. Такие могли бы продать кольца дыма и дырки от бубликов.
Когда Прерия Роз объявила, что четыреста долларов на седло собраны, от шляпы Джорджа еще оставался кусок размером с подкову. Толпа еще кричала и размахивала купюрами — кое-кто крупными. Я увидел Нордструма, машущего целым веером пятидесяток. Но и Келл, и я были непреклонны: четыреста и ни цента больше, сколько бы ни предлагали. Седой скотовод положил остаток шляпы на деревянный борт тележки и стал аккуратно нарезать ломтиками, раздавая их детям. Он все еще резал, когда мы с Сандауном увели Джорджа с арены. Забавно было видеть его непривычно смущенным и безмолвствующим. Этот крутой поворот событий настолько ошеломил его, что он еле-еле нес седло.
Так драма завершилась полусчастливым концом, приправленным печалью и сдобренным иронией. Злодеи потерпели поражение, их последняя низость превратилась в радостное событие благодаря Надин Роуз и ее фокусу со шляпой. Так или иначе, почти все были довольны. Дельцы были довольны тем, что с ситуацией справились так четко и быстро. Работяги — что с человеком, стоящим еще ниже их в обществе, могут обойтись справедливо в этом Северо-Западном Краю Возможностей, Открытых Для Каждого. Расисты ублаготворены тем, что чемпионат выиграл Белый Парень. Антирасисты обрадованы тем, что помогли переадресовать приз Цветному, который, по их мнению, должен был считаться победителем.
Краснокожие могли гордиться безупречным достоинством своего сородича — в том, как он ехал, как стоял, и особенно в том, как ответил на насмешки пьяного ветерана войн с индейцами. К тому же через четыре года Сандаун безоговорочно выиграл ковбойский чемпионат. Можете проверить.
Да и разноголосица газет принесла свою пользу. Споры о том, кто на самом деле был первым и что на самом деле произошло, так всех взбудоражили, что в следующую осень зрителей было еще больше и призовые увеличились.
Но больше всех были вознаграждены и обрадованы неожиданным финалом сами жители Пендлтона. Они давно любили Джорджа Флетчера, гордились старым озорником — если поговорить с ними с глазу на глаз. Теперь у них появилась возможность продемонстрировать свою гордость прилюдно. И это позволило им, жителям отсталого, захудалого, захолустного городка, гордиться собой. Пусть они захолустные, но в эту сентябрьскую субботу они показали себя более современными, чем многие восточные метрополисы. И более цивилизованными.
А я? У меня были четыреста долларов, собранные журналисткой для Благородного Дела, мои призовые на родео и выигрыш на сто долларов, которые я поставил на себя в поезде при ставке тринадцать к одному. Я неожиданно разбогател. Теперь я мог оставить Стоунуолла в конюшнях Меерхоффа и забронировать место в пульмановском вагоне до Портленда.
Я намеревался пристроить Стоунуолла, а потом пойти к Хукнеру — отпраздновать свою удачу, хорошенько угостить присутствующих, как положено разбогатевшему ковбою. Но длинный зал был почти пуст. Ужинавшие уже разошлись, сказала мне миссис Хукнер, а для вечерних, которые придут выпивать, еще рано. Обоих моих друзей она в глаза не видела.
— Сандаун вообще сюда не заходит. Его жена бы этого не потерпела. А что с Джорджем, представить себе не могу. Я передала через Сильвестра Линкхорна, что его ждет ужин с индейкой — за наш счет. Но он не появился. Нашел, видно, кое-что повкуснее Джордж Флетчер, коли бесплатно поужинать не захотел. Но непременно заявится через часок, с вечерними гостями, опять проголодается.
Наверняка не придет, подумал я и вернулся к конюшне ждать. Стоунуолл стоял, прислонясь к стенке, торба с овсом была еще наполовину полна. Он решил вздремнуть, а потом закончить ужин. Я решил к нему присоединиться — вытянулся на кипах люцерны и закрыл глаза. Когда открыл их, в разгаре было утро.
Начальник станции сказал, что паровоз подадут только в двенадцать. Я заковылял обратно по Мейн-стрит. Широкая улица была пуста; в церкви звонили колокола. У Хукнера было закрыто, но я выцыганил у судомойки с черного хода две индюшачьи гузки. Съесть их можно было у водопадика — ничего лучшего не приходило в голову. Там я мог хотя бы отмочить ногу да поискать на дне несчастную монету. Я обрадовался, услышав паровозный свисток на востоке. Спальное место в пульмане оказалось, впрочем, напрасной тратой денег — слишком мягко и коротко. На люцерне я лучше отдохнул.
В Портленд мы приехали поздно вечером. Носильщик объяснил мне, как добраться до больницы. Сказал, что можно пешком дотопать. Не прошло и десяти минут, как хлынул дождь. Я промок до нитки.
Дежурная в приемной увлеченно читала «Бен-Гура» [61]. Она посмотрела на меня поверх очков и сказала, что да, Сара Меерхофф здесь, но часы посещения кончились. Да и все равно наверх бы меня не пустили, сказала она, наморщив нос, в таком непотребном-то виде.
— Снимите номер за два доллара в «Роуз» и приведите себя в божеский вид. Вас как будто морили голодом, топтали и топили!
Дождь припустил еще сильнее, но до гостиницы «Роуз» было всего три квартала. Кровать оказалась не длиннее, чем в пульмане, и я стащил матрас на пол. Заснул так крепко, что чуть не проспал вечерние приемные часы. Дежурная в бифокальных очках осмотрела меня, все так же наморщив нос, но пропустила. Легкомысленная монахиня проводила меня наверх. Она радостно сообщила, что мистер Меерхофф добился самой большой палаты в больнице, щедро пожертвовав на статую, которую делают для их церкви.
— Пьета! [62] В точности такая, как в Ватикане. Только красивее. — Она засмеялась, — Вся покрыта листочками сусального золота пятьдесят восьмой пробы! А римская выглядит так, будто ее вырезали из холодного говяжьего сала, когда смотришь картинки. Мы пришли.
Палата была достаточно просторна, чтобы вместить и жертвователя, и собственную сиделку. Увидев меня, мистер Меерхофф не мог совладать с чувствами: он жал мне руки, обливаясь слезами, пел сонеты благодарности и раскаяния и промочил меня до локтей.
О'Грейди валялась на койке и подпиливала ногти. Она поменяла мандариновый парик и кожаную юбку наездницы на белую шапочку и халат сестры милосердия. И постарела на двадцать лет.
— Надеюсь, вы подставите ему сухое плечо, Джонни. А то мои он промочил насквозь.
Сара спала за ширмой. Ее остригли наголо, чтобы проверить, нет ли трещины. Голова на белой подушке была похожа на очищенное яблоко. Я сидел, пока меня не увела монахиня.
— Приходите утром, — Она засмеялась, — Утро вечера мудренее.
Я так и не мог понять, чему она смеется.
После этого я просиживал с Сарой два часа утром и два часа вечером. Читал ей, когда не мог уже придумать тему для разговора. Под рукой всегда были аккуратные пачечки церковных брошюр. Когда мы их перечитали, дежурная сестра одолжила мне «Бен-Гура»: она решила, что наезднице в полубессознательном состоянии интересно послушать про аварии колесниц.
За неделю сестра О'Грейди устала от меня не меньше, чем от мистера Меерхоффа. Чтобы дать отдых и себе, и мне, она устроила мне пригласительный билет на «Феерию "Дикий Запад"» в портлендском Арсенале.
Там был аншлаг, а гвоздем представления — матч-реванш между Грозным Фрэнком Готчем и Пастором Мертвой Хваткой Монтаником. Я простоял час под дождем перед кассой, прежде чем мне выдали билет, и схватил жуткую простуду. Не знаю, как я раньше не сообразил. Мертвая Хватка Монтаник даже не был индейцем. Это был пузатый мексиканец-ми фант; ему сделали боевую раскраску, одели голову в перья. Готч выдавливал из него жир столько раз, что зрители у ринга, опасаясь за свои глаза, убежали в проходы. В конце концов гигант взял противника в «ножницы», и похоже было, что он намерен медленно раздавить беднягу на две части, но, к счастью, его отвлек какой-то шутник из дешевых рядов.
— Берегись, чемпион! — крикнул он оттуда, — Телята бегут!
Готч разжал захват, вскочил и стал озираться; лицо исказилось от разнообразных судорог и тиков. Выражение его — если о нем можно так сказать — представляло собой бурлящее месиво страха и ярости, подозрительности и стыда и, честное слово, предчувствия чего-то нехорошего.
Я больше не видел Сару в полном сознании. Она проваливалась в забытье и просыпалась. Недели через две я поехал на поезде в Сиэтл, где поставил шапито цирк Барнума и Бейли. Там должен был выступить чемпион мира по родео наездник Джордж Флетчер. И опять я свалял дурака. Это был какой-то объездчик в черном гриме, притом посредственный.
Вернулся я на другой день вечером. Монахиня, смеясь, сообщила мне, что мистер Меерхофф с Сарой и сиделкой уехали утренним поездом на Восток. В Бостон, к знаменитому специалисту по черепно-мозговым травмам. Я сел на ночной экстренный.
Ни в одной бостонской больнице я Меерхоффов не нашел. Я провел там неделю, наводил справки, ходил от врача к врачу, пока не протер предпоследнюю пару носков бабушки Рут. Деньги мои быстро убывали. Я трезво поговорил с собой и в третьем классе поехал обратно на запад в Пендлтон, чтобы забрать Стоунуолла и пожитки. Падал снег. Арена напоминала каток. Дом Меерхоффов был заколочен; на дворе — предупреждение: «НЕ ВХОДИТЬ». По словам соседа, сестры вдруг объявили, что переезжают к родственнику в Бруклин, и на другой день уехали. Я потом часто задумывался, не этот ли «Бостон» имела в виду смешливая монахиня.
Конюшнями и магазином занимались братья Бисон и родственник Меерхоффа. Искалеченные братья потеряли работу на ранчо. Они не знали, откуда взялся новый Меерхофф; он плохо говорил по-английски. Джордж? Он поступил на работу в школьный отдел. Тем, что теперь назвали бы «комендантом». Атогда именовали «уборщиком».
Сандаун, сообщили мне Бисоны, на свои призовые купил автомобиль, но как им управляют, понять не мог. Поэтому его возит жена, а он сидит сзади. Уехал в Уорм-Спрингс, но со дня на день должен вернуться, если я хочу подождать. И Джордж, скорее всего, зайдет завтра утром — поскольку суббота, и школа не работает. Я сказал близнецам, что отложу встречи до другого времени, может, до будущей осени, и мы выедем на парад тузами.
Я прошел через склад в конюшни посмотреть, как там мой конь и имущество. Стоунуолл выглядел толстым и ленивым и не особенно мне обрадовался.
— Ты зря так беспокоишься, — сказал я ему, — На нынешний год с родео покончено.
Седло лежало там, где я его оставил, под потником. Я открыл переметную сумку — не найдется ли еще пара носков бабушки Рут. Вместо них вылез черный шелк.
Ничего себе, мое «честное индейское». Я засунул пропахшую материю под пальто и пошел на главную улицу. Уже намело сугробы, и холод проникал сквозь подошвы сапог. Я мог бы купить пару носков в «Меркантайле» — не настолько еще обнищал. Но решил, что, если обморожусь, то заслужил это.
Публичный дом был закрыт. Туннели тоже. Я отправился к Хукнеру узнать, куда подевались китайцы, и чуть не споткнулся о Сью Лин. Она стояла на четвереньках под стойкой и оттирала песчаником пятна и задиры на полу. Я вытащил из-за пазухи черный ком.
— Вот твои рабочие штаны, Сью. Извини очень много, что так долго не возвращал…
Она посмотрела на меня снизу. Впервые посмотрела в глаза. Потом медленно поднялась, отряхнула колени. На ее обтрепанном коричневом платье и клетчатой рубашке было прямо написано: «благотворительный сбор», а волосы у нее были коротко острижены, под мальчика. По-прежнему глядя мне в глаза, она покачала головой.
— Нет, Джон Э. Я больше не ношу рабочие штаны. Я теперь американская гражданка. Я работаю у миссис Хукнер.
Ее старательное произношение нервировало меня так же, как взгляд. Я спросил: что с прачечной? С дедушкой?
— Дедушка уехал. Он продал прачечную и уехал. Он поедет в Бэйпин, я думаю.
— И ничего тебе не оставил на жизнь? Старый прохвост! Ну, у меня не много осталось, но…
Она опять покачала головой.
— Нет, миссис Хукнер платит мне шестьдесят центов в день за женскую работу. Говорит, что скоро я повзрослею для ночной работы и она будет платить больше. Она учит меня стать дамой. Я буду хорошо зарабатывать. Теперь извините меня.
Мне отказали, коротко и ясно. Я стоял, комкая шелк, а она взялась за свой песчаник. Я сказал, что зайду попозже, может, угощу ее здешней индейкой на ужин. Она продолжала тереть пол. Ей было некогда.
Я пошел в магазин, купил кусок сыра, полдюжины яблок и съел очень холодный ужин рядом с конем. Потом дрожал всю ночь под мешками, которые удалось собрать. Мог бы снять комнату на ночь, но решил, что заслужил такую ночевку.
Утром мы со Стоунуоллом отбыли первым же товарным поездом, на этот раз — в крытом товарном вагоне. Я сидел, укутавшись, возле двери, смотрел на вихрящийся снег и чувствовал себя довольно паршиво. Можно было подождать несколько часов и сесть на пассажирский. Не было никаких оснований срываться в такой спешке. Просто я не готов был увидеть моих героев в роли уборщиков и пассажиров на заднем сиденье — и вообразить моего ангела-хранителя в роли ночной дамы.
Раз уж речь зашла о ролях, то мою вы могли бы назвать «Жертвой звездной болезни», отмеченной так же скверно, как Месяц Бегущий. Я никогда не был ковбоем, нормальным рабочим пастухом. Даже после моего несчастья, когда приходилось браться за любую работу на ранчо, какую давали. Я считал себя всегда звездой родео — немного незадачливой, но не павшей духом, надеющейся опять взойти. Может быть, мы всегда воспринимаем себя такими, какими были в короткий полдень славы, а не такими, как в долгие сумерки после заката.
Заканчиваются девять десятых века, и из этих почти девяноста было всего два-три коротких счастливых сезона, когда я был звездой родео. Притом не очень яркой. Все же я числю себя среди таких светил, как Джим Шолдерс, Якима Канутт, Марк Тугуд, Мэхони Тиббс. И ты. Да, на тебе тоже тавро, как ни крутись, нравится тебе или не нравится, хоть караул кричи, хоть смейся. Потому что радость не дается даром, мы все это знаем. Каждый должен чем-то заплатить хозяину карусели, и чем больше получил удовольствия от езды, тем больше заплатишь. За последний заезд я заплатил Сарой. А я был платой, которую взяли с Сары за ее последнюю скачку.
Давай предположим чисто теоретически, что однажды утром ты проснулся в постели, осиянный светом, и судьба вдруг одарила тебя славой и богатством. Скажем, ты изобрел вечный двигатель и заработал сто миллионов долларов или даже стал первым цветным президентом и носишь роскошные, сшитые на заказ двубортные пиджаки… но и ты, и я знаем, что под этим роскошным двубортным — четырехконечная звезда. Это тавро владеет нами. И никаким мылом его не отмоешь, оно впеклось в мясо. По этому ярлыку о тебе будут судить на Большом Сгоне. И ты будешь рад, что это так. По какому знаку ты предпочел бы, чтобы тебя судили? По президентской печати или по этой брыкливой звезде?
Слышу, как за окном выезжают из города нагруженные карнавальные грузовики. Гулянка закончилась, пора выкатываться. Надеюсь, и с тобой это скоро произойдет; Номер Девять говорит, что, если долго лежать в больнице, у человека органы костенеют.
— Да, я так говорю.
Но сперва — вот. Я положу ее тебе в руку на счастье. Вот, хорошо! Сожми кулак покрепче. Она немного согнутая, но разве все мы не такие? Похоже, пора прощаться. Номер Девять? Не хочешь пожать ему кулак на прощание?
— Ты укатал этого быка, малыш.