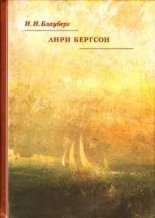Последний заезд Кизи Кен

Публика заворчала и загудела.
Клэнси поднял обе руки.
— Но, учитывая посредственное качество жеребцов в последней жеребьевке, принято беспрецедентное решение! В шляпу будут положены три самых лучших, самых диких мустанга в Орегоне! Для выявления победителя! В дополнительном! Последнем заезде!
Когда одобрительный рев смолк, диктор продолжил речь:
— А также, леди и джентльмены… пока идет подготовка к последнему и решительному состязанию, перед вами предстанут эти красивые дамы… в Первой мировой женской! Эстафете!
Это всех устроило. Женская делегация спустилась по лестнице с помоста, зрители уселись на свои места. А любопытная тучка подплыла поближе: будет что-то интересненькое, а потом еще!
Я не стал дожидаться, когда нам подберут лошадей, и сразу пошел на нашу «галерку» у поворота — туда, откуда обычно наблюдали участники. К ограде было не подступиться. Все участники и волонтеры отставили свой покер, свои бутылки и тары-бары и пришли смотреть. Ведь ожидался в некотором роде парад-алле. Я вытягивал шею над толпой, но вскоре меня заметили, ковбои расступились и освободили мне место. Меня хлопали по спине, мне жали руку, желали удачи — и моей милашке тоже.
Сью Лин и ветхий часовой-китаец шли сквозь толпу и обихаживали усталых наездников. Старик нес корзину со скатанными горячими полотенцами и с легким поклоном вручал каждому из нас. Сью Лин шла следом за ним с подносом чая и угощений; она дала мне чашку и печеньице с запиской-гаданием.
— Ваш палец болит сильно, Джон-Э?
— Палец немного побаливает, Сью Лин. Спасибо.
— Вы пришел смотреть, как едет ваша девушка? Она хорошо едет, наверно, для вас, я думаю.
Ковбои заржали, а меня бросило в жар. Вот тебе и тайное свидание. С таким же успехом я мог дать объявление о помолвке.
— Да нет. Ты моя девушка, Сью Лин. Ты же знаешь. Кто еще беспокоился обо мне в этом чужом краю? Кормил меня. Заботился о моей гигиене, о моей одежде…
Это вызвало новый взрыв смеха.
— Жалко, не позаботилась достать тебе чапы, Джонни-мятежник, — сказал один из ковбоев постарше, — Тогда бы ты показал этим двум хрычам, где раки зимуют.
— Наверное, — подхватил я, обрадовавшись, что тема девушек исчерпана, — Старые хрычи мне то же самое говорили, и не раз. Да вот до магазина с чапами не доехал.
Сирена Клэнси громовым голосом зачитывал правила женской эстафеты. Я отдал полотенце и пустую чашку и вернулся на свое место у ограды. Загадочная записка в моем печенье гласила: «Золотые юноши и девы, как трубочистов, вас оденет прах» [49]. Слова приписывались Уиллу Трясущему Копьем. Я не понимал, на что намекает Уилл, пока не подошла к концу эстафета.
Правила были такие: три круга, каждый на другой лошади; девушки переносят седла сами, без посторонней помощи. Я заподозрил, что последнее правило судьи ввели специально, чтобы лишить преимущества Сару Меерхофф, располагавшую первоклассными «четвертными» [50] лошадьми. Они рассчитали, что в простой скачке легкая Сара, безусловно, обойдет более массивных и менее обеспеченных соперниц. Они правильно рассчитали. Сара со своей коротконосой кобылой вырвалась из группы так, словно ими выстрелили из стартового пистолета. Они стартовали по внешней дорожке и к первому повороту уже лидировали. Промчавшись мимо, она послала мне беспечный поцелуй. На финишной прямой она была впереди на пять корпусов и отрывалась все дальше. Второй шла сестра О'Грейди на собственной четвертной лошади. И последней, далеко отстав, — Прерия Роз Хендерсон на лошади с пышным хвостом, такой же некрасивой, как она сама.
На втором круге, на другой лошади Сара была впереди только на два корпуса, а за ней, голова в голову, — сестра О'Грейди и Прерия Роз Хендерсон. Тот, кто придумал уловку с седлами, сообразил правильно. Сара, как я сказал, была наездница, а не конюх. Скорее всего, лошадь ей готовил папин работник. А эти другие женщины были сильнее. Когда она проходила поворот, губы у нее были сжаты и лицо угрюмо. И воздушных поцелуев она не посылала.
Должно быть, второй раз она седлала еще медленнее. Я не видел: это было далеко и в воздухе висела пыль. Из пыльного облака она выехала предпоследней. Но ее длинноногая аппалуса с каждым шагом прибавляла. Они промчались по первой прямой, обгоняя лошадь за лошадью. Все зрители вскочили и подбадривали ее; я — тоже, наплевав на приличия. На заднем повороте впереди нее остались только две всадницы. Первой была сестра О'Грейди на толстом ярмарочном коньке с четырехлистниками клевера, и по пятам за ней скакала Прерия Роз. Клеверный конек был не так уж резв, но опытен; вырвавшись вперед, он умел преградить дорогу догоняющему. Всякий раз, когда Прерия Роз предпринимала попытку обогнать, перед ней возникал клеверный круп. Отчаявшись, Прерия Роз на повороте круто взяла в сторону, надеясь обойти соперницу снаружи. Образовался просвет, и Сара его увидела. Она тронула свою аппалусу за плечо, и та устремилась вперед вдоль ограды, как раз на макушке поворота. Большая Прерия Роз смотрела ей вслед, открыв зубастый рот от удивления, а ковбои радостно кричали, я — громче всех. Пока не увидел лицо мчавшейся Сары.
Ни лихости, ни отчаянного азарта я не увидел. Глаза у нее были расширены, зубы оскалены, как и у ее лошади. Вид у них был такой, как будто они сорвались с привязи, вырвались на волю, освободились от пут времени и земного притяжения. Они будут ускоряться, свободные, ничем не скованные, — все легче и легче, быстрее, быстрее, быстрее, пока не достигнут скорости света, к чему всегда стремились. Или думали, что стремятся, пока не выяснили, что она не дается даром. Нет — баш на баш. Седлала она на скорую руку, чтобы выгадать несколько секунд. Плохой баш. Подпруга была плохо затянута, и на крутом повороте, когда Саре надо было обойти клеверного конька, преграждавшего дорогу, седло стало съезжать. Сара обогнала и вышла вперед, но она соскальзывала. Она могла придержать кобылу, сбавить ход и все равно спокойно выиграть. Но она этого не сделала. Как будто держала пари, что достигнет финиша и скорости света одновременно. Безрассудное пари и плохой баш. Не дальше чем в пяти-шести корпусах от финиша седло поехало вниз. Сара наклонилась вбок прямо перед клеверным. О'Грейди осадила коня перед падавшей Сарой, но конь ударил копытом ее аппалусу. Дальше был крутящийся клубок копыт, сапог, зеленого клевера, пятен аппалусы и золотистых волос.
Прерия Роз на спокойном галопе обогнула кучу и финишировала первой.
О'Грейди, может быть, чуть-чуть поцарапалась, если не считать отколотого зуба и нового синяка под глазом. К тому времени, когда я, перескочив ограду, добежал до них, она уже распоряжалась на месте завала. Вокруг толпились ковбои, кто-то из начальства, зрители и даже пинкертоновцы суетились без толку и только мешали. Больше всех — Меерхофф. Он стоял на коленях возле Сары, стучал себя по жирной груди и лепетал, как младенец. Сестра О'Грейди приказала двум зевакам оттащить его вместе с пузом, чтобы не действовал на нервы. Она тыкала пальцем и командовала, как сержант.
— Ты, ты и ты. Станьте на колени с этой стороны. Один — под колени, один под талию, один под мышки. Вы трое — то же самое с другой стороны. Так. Теперь кто-нибудь из сыщиков, возьми под голову и осторожно… Да убери ты пистолет ради всего святого! Если хочешь кого-то застрелить, пристрели мою несчастную лошадь.
Я оттолкнул охранника:
— Я возьму ее голову.
О'Грейди поблагодарила меня выщербленной улыбкой:
— Спасибо, Джонни, родной. У тебя пальцы, конечно, нежнее. Пристройся.
Сара как упала, так и лежала навзничь. Глаза были закрыты, но зубы по-прежнему оскалены, как во время скачки. Она дышала сквозь зубы. Волосы рассыпались вокруг головы, как пролитый мед; мне пришлось собрать их к голове, чтобы освободить место для коленей. Я растопырил пальцы и подсунул под ее затылок. Почувствовав мою руку, она открыла глаза.
— Как она тебя назвала? «Родной»? — Лицо у нее было белое, как простыня, но в голубых глазах все равно светилась дерзость, — Кто бы подумал, что вы такой донжуан, полковник?..
— Тихо там! — приказала сестра О'Грейди, — Всем приготовиться — на счет «три». Медленно и ровно, всего на несколько сантиметров. Раз… два…
Она была легкая, как перышко. Если бы не живые глаза, голову у меня в руках можно было бы принять за пустую маску. Когда Сару приподняли над утоптанной землей, О'Грейди раскинула под ней приготовленное одеяло так же легко и сноровисто, как она управлялась с арканом. Мы опустили Сару, О'Грейди выпрямилась и закричала судьям на помосте:
— Куда, к лешему, подевался ваш бездельник доктор? Где санитарная машина, где носилки? Разрази вас гром, бедная девочка лежит в коровьем дерьме, ее мухи зажрут, пока вы там прохлаждаетесь!
Сара засмеялась сквозь зубы над этой красочной речью, хотя видно было, что ей очень больно. Я спросил, где самое больное место.
— Гордость — а ты как думал? Прерия Роз доехала и все-таки выиграла, да?
— Боюсь, что да, — сказал я, отодвинув прядь с ее лица. Кожа была мокрая от пота и совсем холодная, — В следующий раз ты ее обгонишь. Успокойся и не разговаривай. Мы тебя живо довезем до больницы.
— Но я люблю поговорить — ты не заметил, Джонни-родной? И что там еще за «мы»? Или я без сознания лежала? По-моему, тебя ждет другая поездка. На лошади, мой долгоногий абсолютный чемпион.
— К черту лошадь, лежи спокойно. Если я на чем поеду, то на санитарной машине. Кто-то должен проследить, чтобы тебе волосы не лезли в глаза.
— К черту волосы. Твой скрипучий скелет так же нужен там, как папино пузо. Если кто-нибудь из вас попробует влезть в машину, я велю доктору захлопнуть дверь у вас перед носом. Правильно, мисс Подсолнух?
Сестра О'Грейди хмуро кивнула:
— Она права. Вы езжайте, а мы — своей дорогой. Ей сейчас не до любезностей.
Выяснилось, что ни доктора не будет, ни двери, чтобы захлопнуть у меня перед носом. Машина с бригадой уехала в шесть ровно. Оливер Нордструм отказался платить им сверхурочные. Даже носилок не было. Проклиная все, сестра О'Грейди побежала за транспортом.
Я ждал на коленях. Стадион молчал, как мертвый. Кто-то дал флягу и влил Саре сквозь зубы несколько капель. Рядом начались разговоры. Двое горожан сняли пиджаки и укрыли Сару. Она извинилась, что из-за нее задерживается соревнование.
— Вы бы сняли где-нибудь калитки, — предложила она. — Устройте маленький загончик вокруг меня и заканчивайте с вашим несчастным родео. Смер… смеркается, всем пора по сараям…
Глаза у нее помутнели.
— Тихо, — сказал я ей, — Полежи спокойно.
На этот раз она послушалась. И не разговаривала, пока не вернулась О'Грейди на «роллс-ройсе». С заднего сиденья высовывалась индейская повозка «травой» [51], с бусами и перьями, свисающими с ошкуренных сосновых жердей.
— А, индейские санки. Я же тебе говорила, во мне есть индейская кровь.
На одеяле мы перенесли ее на травой, уложили справа поверх сидений ногами вперед и примотали. О'Грейди села позади рядом с ней.
— Кто-нибудь, кто умеет водить и знает дорогу, садитесь и езжайте. Остальные убирайтесь с дороги.
За руль сел бармен, который не хотел подавать нам у Хукнера. Папа Меерхофф, жалко переваливаясь на бегу, попытался догнать машину, но О'Грейди велела водителю прибавить скорость, и они выехали за ворота. Я взял Меерхоффа за руку и повел к арендованным киоскам, где были остальные две дочери. Он, кажется, выплакал все слезы; рыдания звучали все суше и суше.
— Сара поправится, сэр, — твердил я ему снова и снова, — Не волнуйтесь. Сара поправится.
Он мне не верил. Он вынул из кармана пачку денег, махал ею и рыдающим голосом обещал заплатить вдвое больше тому, кто отвезет его в больницу. Один из пинкертоновцев поймал его на слове.
Глава девятнадцатая
Последний заезд
Джордж и Сандаун наблюдали с вышки стартера; там же стояли еще два десятка ковбоев, которым хватило здравого смысла и такта не путаться под ногами. Двое спустились и подошли ко мне.
— Как твоя девушка, Джонни? — спросил Джордж, — Может шевелить пальцами на ногах?
Я сказал, что может, и на ногах, и на руках.
— Но кому пришло в голову, что Сара Меерхофф моя девушка?
— Мне пришло — за обедом у Меерхоффов. Сразу, когда она на тебя посмотрела. До тебя просто медленней доходит. А как там мистер Меерхофф?
— Вне себя, как ты догадываешься. Считает, что он виноват в несчастье. Сначала я боялся, что он утонет в слезах; но родник, похоже, иссяк. Нанял пинкертоновца, чтобы довез его до больницы.
Оба молча кивнули. И из вежливости не задали следующий очевидный вопрос. Но я все равно ответил.
— Я не поехал с ней в больницу потому, что не было места.
Конечно, я мог как-нибудь втиснуться и чувствовал себя все паршивее оттого, что этого не сделал.
— Сара сама отсоветовала мне ехать. Заканчивай то, что начал, она сказала.
Джордж спросил, как случилось это несчастье. Они были в загонах, объясняли судьям, какие три лошади, по их мнению, самые строптивые. Когда услышали, как охнул стадион, выбежали. И поднялись на помост как раз в ту минуту, когда мы клали ее на одеяло. Я вкратце описал столкновение, стараясь удержаться от слез.
— Я понял, что это Сара, — сказал Джордж, — Как охнули на трибунах, я сразу понял. Сара Меерхофф уродовалась чуть не с самого рождения. Двух месяцев еще не было — сковырнулась с детских весов и рассекла подбородок.
— Я спрашивал, откуда у нее ямка на подбородке, — вспомнил я, — Она сказала: на подбородке ямка — бесу приманка.
— А когда ей было пять лет, — продолжал Джордж, — после того, как их мама погибла… мистер Меерхофф стал брать ее в магазин вместе с сестрами, чтобы не нанимать няньку. Старшие сестры уже помогали, обслуживали покупателей. Саре обслуживать не нравилось. Ей нравилось бродить, особенно там, где ей бродить не полагалось — вроде продовольственного и зернового склада, где мы с амбарными кошками мололи зерно и гоняли крыс. Была там пестрая мамаша с одним глазом. Она запрятала куда-то своих котят; мы их слышали, но найти не могли. Я в конце концов махнул рукой. Потом как-то днем я задремал, а Сара проследила за кошкой до их убежища — наверху, за мешками с семенной кукурузой. Она стала искать там котят и свалила весь штабель на себя — а мешки по тридцать пять килограммов! Сломала обе руки над запястьями. Мы повезли ее к врачу на их старой грузовой повозке. Мистер Меерхофф сидел сзади и умолял ее не плакать, хотя она за всю дорогу слезинки не уронила. Мистер Меерхофф сам выл как сумасшедший. Говорил, что он и отец такой же негодный, как муж.
— Раньше он не был сумасшедшим, — сказал Сандаун. — Раньше он играл на кларнете.
— Да, — подтвердил Джордж, — А миссис Меерхофф играла на арфе. Они познакомились на концерте в День независимости. В сочельник ее двуколка съехала с дороги — она возвращалась после выступления в физкультурном зале старой школы. Мистер Меерхофф не поехал — он не знал рождественских песенок. И винил себя за то, что не поехал, и за то, что ее отпустил, — как будто мог ей запретить. Она была такая же своевольная, как Сара.
Это сравнение нисколько меня не утешило. Я сказал, что, наверное, должен был поехать за ней. Оба навалились на меня с доводами, почему это было бы неправильно. Джордж сказал, что больница на другом краю города и ее трудно найти. Сандаун сказал, что если бы даже я нашел, меня не пустили бы, такого грязного.
— Меня не пустили, когда жена потеряла ребенка, — а я был в чистом костюме.
Они продолжали убеждать меня, пока мы шли к судейскому помосту. Наверху нас ждал мистер Келл.
— Поднимайтесь, ребята. Последний жребий будем тянуть на глазах у всех.
Помост был не так уж высок, но насколько же отличался вид отсюда. Скот в загонах позади казался мелким и смирным. Трибуны напротив были заполнены как будто куклами. Конная повозка, ползшая в нашу сторону по парку, выглядела игрушечной. Из задумчивости меня вывел голос Сирены Клэнси.
— Вот они перед вами, джентльмены и дамы… Три лучших в мире наездника… вытягивают имена трех самых диких лошадей! Начинайте, удальцы, — кто первый?
Сесил Келл снял шляпу и бросил в нее три сложенные бумажки. Джордж и Сандаун засунули руки одновременно. Я взял оставшуюся. Мы не спешили их развернуть. Сирене Клэнси стало невтерпеж.
— Не тяните из нас жилы! Вождь, брось свою в корзину. Я прочту ее людям.
— Я умею читать, — ответил индеец перед тем, как бросить свою бумажку в корзину.
Клэнси поднял ее и развернул. Потом, как петух, вытянул шею к большому рупору.
— Первым! На Спирали, мустанге из конюшен Маккормика: мистер Джексон Сандаун из Якимы, штат Вашингтон!
В стане индейцев раздались яростный барабанный бой, воинственные крики и вой, как будто волчий.
Джордж повернулся к своему каменноликому товарищу:
— А не правильнее ли: Сандаун Джексон? Из Кулдесака, Айдахо?
Он бросил свою бумажку в корзину. Клэнси выудил ее и прочел:
— Номер второй! На Длинном Томе! Шайеннском мустанге, который не позволял ни одному человеку усидеть на нем больше одиннадцати секунд!.. Мистер Джордж Флетчер из Пендлтона, Оу-ре-гонн!
Настала очередь трибун. Они издали такой рев, что лошадь, сонно тащившая игрушечную повозку, с испугу перешла на такой же замедленный галоп. Впереди на повозке сидели его преподобие Линкхорн и Луиза, сзади на скамьях — вся обслуга с поезда. Линкхорн осадил громоздкого першерона прямо перед крытыми трибунами.
— Келл, посмотрите туда! — Буффало Билл стоял в ложе для избранных и показывал на другой конец арены, — Я вам говорил? Впустите одну обезьяну и не успеете оглянуться, как вопрется целый воз, чтобы орать за него. И еще имеют наглость встать перед самыми дорогими местами. Ребята? — Он перегнулся через перила. Там оставался только один пинкертоновец, — Мистер Лавджой, пройдите туда и покажите этим наглым мартышкам, где выход.
Детектив встал и стряхнул сено с коленей. Он направился к другой стороне арены, но мистер Келл смотрел на это иначе.
— Оставьте, — приказал он, — Каждому нужна поддержка.
Детектив остановился, повернулся и стоял, глядя то на Сесила Келла, то на Буффало Билла.
— Говорю вам, оставьте их, — повторил Сесил Келл, — Ваше дежурство кончилось. Оно кончилось… — Келл вынул часы величиной с печенье, — полминуты назад. Закройте за собой калитку.
Детектив в нерешительности смотрел на босса. Старый борец с индейцами снял с себя шляпу Джорджа и обтер лоб кожаным рукавом. Он выглядел брошенным в своей ложе. Готч пропал. Зазывала искал Готча. Ирландская всадница Мэгги О'Грейди стала сестрой О'Грейди и, по-видимому, дезертировала. От армии его остались только хромой Нордструм да нерешительный наемник. Буффало Билл, должно быть, вспомнил, каково пришлось Джорджу Кастеру. Он махнул рукой, отпуская наемника, и сел на место. Сирена Клэнси вытащил мою бумажку и вытянул шею к рупору:
— Последним на Месяце Бегущем Сильно, предоставленным… здесь сказано: народностью калапуйя… молодая звезда, тоже показавшая свою силу, — Джонатан Э. Ли Спейн из Теннн-ессиии! Леди и джентльмены, приветствуем южного гостя горячими аплодисментами!
— Ты заметил, Закатный, что теннессийского жеребца громче всех приветствовали дамы? — съехидничал Джордж, когда рукоплескания смолкли.
Мне было не до шуток.
— Этот Сильный Месяц, наверное, мешок с требухой, раз индейцы его сбагрили.
— Они не потому сбагрили, — сказал Сандаун, — Они подозревают, что он воу-нузавей, лошадь-дьявол.
— Почему у них такие подозрения? У него рога, раздвоенный хвост? А потом — разве вы не сами выбрали лошадей? Вы его хотели вытянуть, вот что я думаю.
Сандаун игнорировал мое обвинение.
— Месяц Бегущий Сильно убивал людей. На индейском слете в Уорм-Спрингсе весной я видел, как он порвал крепкую веревку и погнался за парнем, который ехал на нем год назад. Догнал его в полыни, сшиб и растоптал ему голень. Так сильно, что доктору в Бенде пришлось отрезать парню ногу до колена. Давай попросим тебе другую лошадь. Этот злой и подлый.
Я сказал им: нет, спасибо; я сам сейчас злой, как не знаю кто, и Месяц ваш — то, что надо. Но когда я увидел его во плоти, в загоне перед коридором, понурого и зловещего, среди длинных уже теней, вид его подействовал на меня, как крепкий щелок; всю мою злобу смыло, как налет с помойного ведра.
Он стоял отдельно от двух других мустангов, но, казалось, так отличается от них, как будто принадлежит к другому виду. Он стоял с опущенной головой и, полуприкрыв розовые глаза, смотрел на взрытую копытами грязь, словно ждал, когда оттуда высунется что-то живое, чтобы мгновенно его растоптать. На левом боку его красовалось большое тавро, четырехконечная звезда, выжженная коряво, грубо, как нечто, нарисованное ребенком при помощи обугленной палки.
Джордж увидел, на что я смотрю.
— Это не тавро. Это родимое пятно. Четырехконечная звезда — знак опасности. Теперь понимаешь, почему нецивилизованная публика вроде родичей мистера Джексона полагает, что этот уродливый дьявол приносит несчастье.
— Хуже, чем несчастье, — сказал Сандаун.
Я молча кивнул. Цивилизованная публика предположила бы то же самое. Зловещие розовые глаза уже сами наводили на мысль, что в гнедой его шкуре поселился злой дух. Четырехконечная звезда подкрепляла это подозрение.
Другие две лошади нервно топтались у загородки; им не терпелось приступить к делу. Длинного Тома, который достался Джорджу, я знал: видел, как он накануне забросил утконосого — его фамилия была Кантрелл — чуть ли не в Айдахо. Длинный Том был костлявый ветеран, вытянутый и темный, как предвечерняя тень. На правой передней ноге у него был белый чулок; ходила легенда, что остальные три он сбрыкнул.
Лошадь Сандауна, мышастая кобыла, волчком ходила от угла к углу в тесном загоне. У нее были длинные ресницы, лоснистая грива и вид несколько дамский. Но когда она косила глазом, из-под ресниц проглядывала затаенная истерика. А когда разворачивалась в углу загона, длинная грива отлетала и закручивалась, словно вихрь, ставший видимым.
Месяц Бегущий Сильно, Длинный Том, Спираль. Легко было понять, за что эта троица неукротимых получила свои клички. Открылись сосновые ворота, и въехали помощники, раскручивая свои лассо.
— Хватайте седла и валите, джентльмены, — рекомендовал один из них. — Ваши персики созрели.
Его звали Джон Мьюр [52] — не слышали о таком? Любителе природы и дружке Тедди Рузвельта? Я запомнил его потому, что никогда в жизни не видел другого ковбоя, так мало похожего на ковбоя, — с широким лбом, окладистой бородой и в очках книгочея. Он приехал из столицы посмотреть, нет ли в Орегоне мест, стоящих того, чтобы превратить их в государственный заповедник. А на родео устроился забавы ради. Я видел, как он в первый день ехал на Свистунье Энни. Он схватился за седло при первом же ее прыжочке и все равно сломал нос. После этого он забавлялся отловом лошадок. Это хорошо, что у него была про запас специальность натуралиста, — с арканом он управлялся не лучше, чем с мустангом. Сейчас они с лошадью только топтали грязь и всем мешали. В конце концов партнеры вытурили его из загона.
Сначала они заарканили лошадей Джорджа и Сандауна — эти вели себя буйно. Месяц Бегущий по-прежнему смотрел на грязь между своими копытами. Когда двух лошадей вывели, Мьюр вернулся в загон. Он медленно поехал к гнедому горбунку сзади, приложив палец к губам и объясняя всем, чтобы они стояли спокойно и молчали. Он задумал подкрасться к дремлющему и набросить ему на голову лассо сзади. Месяц, похоже, только и дожидался такого нападения с тыла. Он вывернулся из своей нирваны внезапно, как змея, и впился зубами в плечо лошади Мьюра. Когда Мьюр хлестнул его арканом, он отпустил лошадь и нацелился на человека. Испуганная лошадь бросилась наутек, и натуралист получил возможность познакомиться с почвой Орегона накоротке. Двое ковбоев поддержки въехали в загон, чтобы защитить сброшенного всадника, и бешеный горбунок накинулся на них. В конце концов они накинули два лассо и немного его утихомирили. Мьюр поднялся из грязи; очки его составили компанию сломанному носу.
— Опыт — отец мудрости, — провозгласил он.
Месяцу Бегущему Сильно фраза показалась чересчур цветистой. Он снова рванулся к Мьюру, щелкая зубами и рассекая воздух передними копытами. Когда его утаскивали, он все еще рвался к натуралисту и щелкал зубами.
— Воу-нузавей, — хмуро повторил индеец.
Джордж положил мне руку на плечо:
— Ну что, Нашвилл? Этот для тебя достаточно бодрый?
Я сглотнул ком и сказал: время покажет. Мы вскинули на плечи седла и пошли к арене за нашими возбужденными лошадьми, которых вели шесть ковбоев. Меня остановил шепот в сумраке.
— Ссс-т, Джон-Э. Я вам их приготовила.
Из-за белого воротного столба выглядывала Сью Лин.
— Вот. Примите, пожалуйста. Я сделала их для вас очень хорошо.
Она сунула мне ком черного шелка. Я не понял, что это такое, и не был уверен, что хочу принять, пожалуйста. Она выглянула из-за столба с другой стороны.
— Мистер Флетчер? Мистер Джексон? Скажите ему принять, пожалуйста.
Джордж взял у нее материю и стал разворачивать. А я уже догадался, что это, посмотрев на Сью Лин. Она была худенькая, но местами все-таки шире столба. Ниже ягодиц она была голая. Джордж вывесил материю и засмеялся. Даже мистер Джексон не сдержал смешка.
— Бери их, Младший Брат.
— Возьми, — сказал Джордж, уже без смеха. — Все эти дни Сью Лин была твоим ангелом-хранителем. Не искушай судьбу, не отказывайся.
Я не мог сказать «нет». Штанины уже были распороты по швам. Она высунулась из-за столба, по-прежнему не поднимая глаз. И попросила, чтобы я вернул одежду, когда закончу, пожалуйста, очень хорошо. Я пообещал и дал честное индейское.
Прежний обычай седлать на арене сегодня не подошел бы. Нетерпеливым телезрителям с их дистанционными щелкалками это показалось бы ненужной затяжкой. А тогдашним зрителям щелкать было нечем, и поэтому у них было гораздо больше терпения. Эта канитель им нравилась. Они могли присмотреться к лошадям и всадникам еще до езды. Лошадь выводят на обозрение голенькую и буйную. Наездник идет следом, несет седло и сбрую, помогает седлать и завязать ей глаза.
Первой выводят серую кобылу Сандауна. Она идет между лошадьми помощников, послушно, но нервничает. Останавливаются в центре арены, и она стоит между двумя лошадьми, переживает, как невеста. Веревку от ее недоуздка пропускают через седельную вилку правого всадника, потом обратно через недоуздок под челюстью, оттуда поверх шеи и закрепляют на рожке седла того же помощника. Потом с обеих сторон недоуздка подсовывают двойную полосу красного муслина. Она покорно принимает повязку на глаза, словно эта грязная тряпица — кружевная вуаль. Затем она ждет, навострив уши, — ждет, когда приблизятся шаги. Сандаун несет свое седло с бисером и подает наезднику слева от нее. Тот тихо кладет седло ей на спину. Опустившись на колено, почтительно, как жених, Сандаун затягивает подпругу у нее под ребрами. Ждет, когда она выдохнет, затягивает туже и завязывает пристяжной ремень. После этого он заходит за лошадь помощника и вскакивает на нее. Теперь, сидя сзади наездника, он может пересесть на свою кобылу, осторожно, чтобы не растревожить ее раньше времени. Зрители, затаив дыхание, наблюдают за тем, как он вставляет ноги в стремена. Это классика, говорит их молчание. Исторический союз царственных особ. Брачный танец двух стихий, человеческой и животной. И словно чтобы подчеркнуть стильность события, происходит восхитительное явление. За северным краем стадиона, там, где стоят арендованные киоски, возникает пыльный вихрь и, перемахнув через ограду, вторгается на арену. Этот дервиш приближается к церемонии, вздымая к небу порванные билеты и арахисовую шелуху, как девочки, бросающие розовые лепестки при венчании. Происходило это так естественно, что никого даже не заинтересовало, пока об этом не упомянул на другой день «Орегониан».
Зрители теперь так же возбуждены, как кобыла, силятся вообразить брачные клятвы, которыми обмениваются там, у освященного кровью алтаря. «Ты, Сандаун, берешь эту кобылу?» «Ты, Спираль, берешь этого всадника?» Человек и лошадь одновременно кивают. Сдерживающую веревку выдергивают с одной стороны, повязку на глазах сдергивают с другой. «Объявляем вас ковбоем и мустангом. Пусть брыкается!»
Сандаун откидывается назад и шпорит шею и плечи кобылы. Кобыла мощно лягает небо. Публика с грохотом вскакивает на ноги — и завертелось. Сандаун отклонился так далеко назад, что вскинувшийся круп сшибает с него шляпу. Какое-то мгновение животное и всадник ошеломляюще вертикальны: лошадь идет практически на передних ногах, как цирковой акробат на руках; всадник стоит в стременах, без шляпы, волосы его взлетели гребнем. Потом задние копыта опускаются на землю — точнехонько рядом с отпечатками передних копыт. Передними она ловит облака, потом складывается вдвое и, взмахнув головой, заворачивает переднюю часть влево. И снова влево. И снова. И снова! Качелями — вверх и вниз, и кругом, кругом, против часовой стрелки, все быстрей и быстрей. Пыльный вихрь не может устоять перед искушением. Он подкатывается к ним, разбрасывая мусор, как конфетти. И сливаются в одно пыльное облако — человек и животное, земля и воздух, мусор и конфетти… вертятся вместе, так что не понять уже, где перед, где зад. Потом лошадь вылетает из облака и из последних сил бросается бежать поперек арены, взбрыкивая вдвое сильнее, прыгая и опускаясь на прямые ноги, так что спина болит только оттого, что это видишь. Раз за разом, шпоры и взбрык, шпоры и смерч. Свадьба явно закончилась, медовый месяц — тоже. И все-таки Сандаун не позволяет борьбе выродиться в обычную домашнюю склоку. Он продолжает ехать — прямой, каменноликий и, как ни странно, даже рассудительный. Каждой жене на трибунах это — бальзам надушу; каждый муж испытывает гордость.
В то время не было пятнадцатисекундного регламента. Судьи оценивали тебя, пока считали, что твоя езда заслуживает оценки. Вот почему натыкаешься на старые рекорды — шестнадцать секунд, двадцать секунд, тридцать семь секунд! [53] Вот сколько они позволили ехать Питу Уилсону на маленьком самолете-снаряде по кличке Шрапнель в 1917 году. Если не верите мне, посмотрите в библиотеке. При этом Питу срезали сколько-то очков! Какому-то судье что-то не понравилось в езде Пита, и, чтобы убедиться, он позволил Питу поездить еще.
Но долгий заезд Сандауна на Спирали был совсем не таким. Судьи не искали оплошностей. Они наслаждались зрелищем, как все прочие. Честно говоря, не помню, дал ли колокол сигнал к окончанию. Конец и так был очевиден. Просто-напросто кобыла перестала брыкаться. Склонилась перед превосходящей силой. Помните детскую сказку, как Ветер заспорил с Солнцем, что он сильнее. В доказательство он пытается сорвать плащ с пилигрима. Пилигрим только плотнее закутывается в плащ. Тогда выходит Солнце и греет, так что человек сам снимает плащ.
Трибуны радостно взревели, когда индеец уезжал с арены верхом на Спирали, послушной, но не покоренной. Сохранившей достоинство. Сандаун ее не победил, так нельзя сказать, — он ее наставил. Когда они проезжали, я успел еще раз заглянуть в глаза лошади. Гроза прошла, безумие излечилось. И кончились годы дикости. Когда я ее видел последний раз, она везла повозку с молоком компании «Даллес кримери» и позволяла школьникам сидеть у себя на спине… сохраняя достоинство.
Заезд Джорджа был похож на предыдущий, как вилка на бутылку. Джордж понимал, что должен в чем-то превзойти приятеля, а достоинство не было его козырем. Он знал, что выглядит смешно в своей вялой рабочей шляпе, сношенных сапогах, с бесформенным седлом на плече, похожим на разложившуюся до неузнаваемости тушу, — и на этом решил сыграть. Прежде чем отдать седло помощнику, он изящно обмахнул его рукавом. Зрители засмеялись. Потом он загнул поля шляпы кверху, как погонщик мулов, и устроил дурацкую возню с подпругой и наглазной повязкой. Закрепив седло, он велел обоим помощникам отпустить Длинного Тома и отъехать. Приложив палец к губам, Джордж на цыпочках попятился от коня. Назад, назад, на цыпочках…
— Что это он выдумал? — поинтересовался Нордструм на помосте.
Пьяным голосом ему объяснил Билл Коди:
— Черномазое клоунство — хочет вскочить на него сзади вразножку.
После чего, к общему смущению, старик блеющим голосом затянул похабную школьную песенку:
- Прыгнул я в седло,
- А она седло забыла.
- И загнал под корень
- В старую кобылу!
- Привяжи за хвост
- К дереву, к дереву…
Никто не засмеялся, даже Нордструм. Песенка постепенно затихала. Знаменитый шоумен быстро терял аудиторию. Но насчет намерений Джорджа он был прав. Конь с завязанными глазами принюхивался к воздуху, озадаченный отсрочкой. Джордж разбежался, шлепнул ладони на высокий круп и прыгнул. Раньше, чем он опустился в седло, конь уже взбрыкнул — черт с ней, с повязкой. Джордж схватил одной рукой плетеную веревку, другой — повязку. Долгокостый конь сделал для начала пару умеренных прыжков, чтобы Джордж смог найти стремена, а потом решил взяться за дело серьезно. Только вот Джордж решил иначе. Он знал, что, если есть у него шансы затмить величавого индейца, искать их надо в другой стороне — в клоунаде, в буффонаде, в паясничанье, — и в эту сторону устремился со всей решительностью. Как советовал его почтенный папа: «Если надумал съесть арбуз, съешь арбуз».
Это не значит, что клоунада была натужной, нет, он шел по этому пути естественно, шаг за шагом, решая задачи по мере их возникновения. Во-первых, надо было что-то сделать с повязкой. Он попробовал использовать ее как хлыст. Слишком мягкая. Сделал вид, что раскручивает ее над головой как лассо, словно дикарь под ним был обученной ковбойской лошадью. Слишком короткая. В конце концов он взял плетеную веревку в зубы и муслиновой тряпкой завязал глаза себе. И ехал, шаря руками перед собой, как пьяный. Зрители покатились со смеху.
Длинный Том не привык быть посмешищем. Он галопом помчался к твердому предмету, чтобы соскрести со спины своего мучителя. Повязка от толчков свалилась с глаз, так что Джордж вовремя успел увидеть приближающуюся ограду. Он перекидывает ногу с этой стороны через шею коня, и Длинный Том обдирает правый бок о доску, собирая занозы. Джордж, по-дамски сидя в седле, накидывает повязку на свою мятую шляпу и собирает концы под подбородком, как плантаторша в капоре, объезжающая свои владения. Это еще больше оскорбляет гордого старого мустанга. Он скачет к нам, к другому забору. Джордж ищет ногой правое стремя, но его нет.
Джордж пытается повернуть, но Длинный Том не поддается. Он прошибает пятисантиметровые доски, задрапированные флагами, и ломит наверх по скамьям важных персон. Важные персоны, их жены и дети с криками бросаются врассыпную. Жуткое зрелище: черный конь и черный всадник врываются в их привилегированный мир, как посланцы из преисподней. Клэнси бьет в гонг — заезд окончен. Но Джордж и конь с ним не согласны. Они продолжают восхождение уже по верхним скамьям — дальше через них, к Вечной Славе, если бы Длинный Том настоял на своем. Но Джордж убеждает коня, что они еще не всю земную славу стяжали, и разворачивает его. И они спускаются обратно, через другую секцию, распугивая других важных персон. Длинный Том не попадает в проделанную брешь, проламывает новую и галопом мчится по арене. Джордж соскакивает на бегу с одной стороны, а с другой падает его старое армейское седло. Оно ударяется о землю и разваливается на части: ленчик, рожок, вилка, крылья, путилища… как «дьякона чудесный одноконный фаэтон», сделанный так прочно, что ездил сто лет, а потом рассыпался в одно мгновение [54]. Но еще не время было грустить о погибшей сбруе.
Публика вскочила и орет от восторга. Джордж срывает с себя ветхую шляпу и, взмахивая ею, отвешивает один за другим комические поклоны. Выпрямившись наконец, он не надевает шляпу. Он поворачивается к важным зрителям и запускает ее туда за проломанный забор, к важным персонам, как матадор, бросающий сеньорите бычий хвост.
Шляпу подхватывает ветер, и — невероятно — она взлетает все выше и выше, потом зависает, потом поворачивает, словно завидев старого знакомого, и планирует в сторону судейской платформы. Она приземляется на свободное место в ложе рядом с почтенным Уильямом Коди. Все в веселом изумлении. Буффало Билл делает вид, что не заметил обшарпанную гостью. И это еще больше забавляет зрителей. Когда Джордж на кривых ногах уходит за ворота, они еще продолжают хохотать. Он уносит части седла в потнике. Я спрашиваю его, нарочно он зашвырнул шляпу к Буффало Биллу или ему случайно повезло.
— Мой папа говорил: «Сынок, все на свете случайно…» — Он вытаскивает повязку из кармана штанов и вручает мне, — Фокус в том, чтобы поверили, что это нарочно.
Глава двадцатая
Моя очередь
Мой заезд остался в памяти неясным пятном. Самый главный заезд в семнадцатилетней золушкиной жизни—и ничего не разобрать, кроме окружения. Как на старых фотографиях, когда пластинки требовали долгой выдержки и все неподвижное — резко, в фокусе: овальная дорожка, трибуны, красно-бело-синие флаги на фоне золотых полей пшеницы и плотно севшее на все это, как крышка на скороварку, чугунное небо… Вот что я вижу ясно. А сам я и Месяц Бегущий Сильно — расплывчатым пятном посередине картины. Помню, однако, о чем я думал перед стартом. Я думал о потрясающих заездах Сандауна и Джорджа. Один — классический, другой — комический, и оба незабываемые. Эти двое основательно нагрузили свои чаши весов — так я думал. Мне оставалось место только посередине. Лучше всего я могу объяснить мою стратегию рассказом, который услышал через несколько лет от Сандауна (точнее, через три года, когда я промачивал бинты на свежей культе в этой же самой больнице, а Сандаун развлекал меня рассказом)… о двух легендарных ножовщиках из нез-персэ. Они вечно спорили, кто может выколоть лезвие острее. Самый лучший в мире обсидиан берут из горы Гласс-Бьют, к востоку от Бенда. Это желтый обсидиан, с желтой, янтарной и коричневой свилью.
Тот камень Ко-Шар, которого больше нет, был обсидиановой глыбой, либо привезенной сюда, за тысячу с лишним километров, либо заброшенной вулканом. Я лично думаю, что его приволокли из-за его красоты и силы. Желтый обсидиан так ценился, что лезвия и наконечники стрел из него находили первые белые поселенцы на атлантическом побережье. Индейцы приезжали за ним на Гласс-Бьют со всей Америки. Можно вообразить какую-нибудь скво: «Поезжай в Орегон и привези мне красивого обсидиана, как у Соседки Оленихи… и без него не возвращайся».
Короче говоря, эти ножевых дел мастера решили проверить, чей нож будет острее. А судить позвали своего старого учителя. Устроили соревнование; племя собралось возле ручья на лугу. Выходит первый индеец и втыкает ручку ножа в песчаное дно ручья. Лезвие торчит из воды, острием против течения. Сверху пускает по течению большой кленовый лист. Лист медленно подплывает к лезвию и разрезается надвое. Племя кричит «ура».
Потом второй втыкает нож и пускает лист. Лист точно так же разрезается надвое — только после ножа половины соединяются вновь! Племя танцует и бьет в барабаны. Ножовщики опять начинают спорить: чей острее? Который разрезал или после которого слиплось?
Спрашивают старого учителя. Он ничего не говорит. Он вынимает свой нож из ножен, втыкает ручкой в дно и идет наверх. Пускает свой лист по течению. Лист плывет, медленно, медленно, а перед самым острием умно сворачивает в сторону и огибает нож.
Вот как я спланировал свой заезд. Смертоносный заряд в мустанге я почувствовал еще до того, как прикоснулся к нему. Сандаун был прав: Месяц Бегущий Сильно был человеконенавистником. Его ненависть я чуял носом; он испускал ее, как гризли испускает мускусный запах, — нарочно. Он хотел, чтобы я ее почуял. Хотел, чтобы я сразу понял: он намерен не просто сбросить меня — он намерен затоптать меня насмерть. Сбросить — это всего лишь способ добраться копытами до моих мозгов и ребер. Заставь наездника думать об этом еще до начала, и ты уже навел на него порчу — таков был умысел Бегущего Сильно. И я постарался об этом не думать. Наука из воскресной школы. Как не думать о правом глазе дьявола? Думай о другом его глазе — вот как. Поэтому, когда мстительный дьявол выгибал шею и косил розовым глазом, чтобы сглазить меня, я думал о чем-нибудь другом — о яблоках и туннелях, о солонине и квашеной капусте, — о чем угодно, только бы не наткнуться на лезвие, которое выставил для меня Месяц Бегущий Сильно. Как кленовый лист, я умно свернул в сторону.
Вот почему я не нахожу себя на сохранившихся в памяти картинках моего заезда: я был не совсем там. Мое сознание было не там. Мое время? Не помню. Очки? Не имею понятия. Все, что у меня осталось, — смазанное пятно на черно-белом фоне, движущемся взад и вперед, вверх и вниз.
Потом задергало палец на ноге, и я понял, что спешился. Ковбои уводили звездоносного жеребца, а он по-прежнему Бежал Сильно — рвался и щелкал зубами в бессильной злобе. Пока я ковылял к калитке, люди аплодировали стоя. Не было всеобщего ора, каким приветствовали двух других финалистов. Я и не ожидал его. Толпе не почувствовать смертоносную грацию Бегущего Сильно. Я был доволен своей ездой, но знал, что мне далеко до броского, красочного выступления Джорджа и до величавой классики индейца. Но знал, что держался правильно — даже грациозно, — хотя не помнил ни единого момента самой езды. Было только общее ощущение. Грация не может быть собственной наблюдательницей, она лишь оставляет после себя светлый осадок.
Из-под помоста вышли близнецы Бисон и пожали мне руку; их рукопожатие говорило о том, что они тоже все поняли. Потом Прерия Роз улыбнулась мне своей многозубой улыбкой и сложила большой и указательный пальцы колечком — «в порядке». Две ее подруги-наездницы согласно закивали. Джорджа я нашел сидящим под тополями; он печально разглядывал разложенные на земле части седла. Увидев меня, он оживился.
— Отлично проехал, ковбой.
Из мирной тени, где отдыхали их лошади, донесся индифферентный голос Сандауна:
— Отличная езда.
Кому нужны крики толпы, если ему отдали должное такие специалисты? Я был более чем удовлетворен — я был пресыщен. Хотелось только одного: несколько минут побыть спокойно и отдельно в тени и глотнуть воды, чтобы промыть забитую пылью глотку. И закончить и убраться, отыскать проклятую больницу.
И уже всем хотелось сматывать удочки — и городским, и туристам. Наездникам и роуперам, важным лицам и говночистам, продавцам попкорна и билетным кассирам, и даже ворчливой туче над горами — всем не терпелось покинуть эту гулянку.
И вот мы подходим к знаменитой финальной сцене — неожиданному завершению, о котором знает каждый любитель пендлтонских родео, а на самом деле не знает. Я прочел несколько отчетов так называемых очевидцев, а выслушал еще несколько десятков. Большинство из них было типа «я сам слышал от очевидца». Полистайте книги по истории родео, которые выходят каждые несколько лет. Все факты в них проверены и задокументированы — и если найдете две одинаковые, я съем вашу шляпу. До какого-то момента все совпадает — что после трех дней у нас троих была ничья; что выявить победителя должен был дополнительный заезд. Но что было дальше — тут историки, исследователи и даже очевидцы разбредаются кто куда. Удивляться нечему. Даже у тех, кто был тогда на стадионе, в голове слегка помутилось от круговерти событий.
Теперь вы предупреждены, и я не настаиваю, что дальнейшее — правда, вся правда и ничего, кроме правды; это всего лишь моя версия. Хотите — верьте, хотите — нет.
Погода менялась. Это слышно в гудении ветра. «Сентябрь на исходе, — гудит он, — убирайте орудия и игрушки лета». Я успел только выпить ковш воды из бочки, и тут же Клэнси зазвонил в колокол. Я выхаркнул комок грязи и устало захромал к полю битвы.
Ковбои, индейцы, работяги поплелись туда же. Женщины улыбались мне, мужчины кивали; дети показывали пальцем и шептались: «Это один из троих». Я был звездой.
На середину арены ковбои-помощники вывезли какую-то задрапированную вещь на колесах. Для коляски слишком маленькая, для повозки торговца — велика. Джордж и Сандаун стоят перед загадочным предметом, ждут.
— Шагай веселей, Нашвилл, — кричит Джордж. — Пока Сирена колокол не разбил.
Клэнси увидел меня и перестал звонить. Когда я подхожу к приятелям, он поднимает над головой большой коричневый конверт.
— В этом конверте, леди и джентльмены… у меня имя первого чемпиона мира по родео, переданное мне нашими внимательными судьями. Прежде чем открыть его, настоятельно прошу выразить этим официальным лицам нашу благодарность.
Кроме того, он настоял, чтобы мы похвалили каждого из них отдельно и подробно. Голос у него быстро слабел, но славословия продолжались и продолжались. Я все время вертел головой в ту сторону, куда уехал «роллс-ройс», и удивлялся, почему он не возвращается. Не такой уж большой город — Пендлтон. Мое раздражение не укрылось от Джорджа. Он придвинулся:
— Не надо волноваться, Джонни. Луиза сказала, что Сару Меерхофф повезли в портлендскую больницу.
— В Портленд? Как же ее…
— На поезде. Он и так застрял тут против расписания — ждал пассажиров с родео. Мистер Меерхофф предложил машинисту и кондуктору по сотне долларов, и они решили, что пора отправляться. О'Грейди поехала с ними, Луиза говорит — ухаживать и за Сарой, и за папой. Чтобы она не заснула, а он — наоборот.
— Как это?
— Чтобы мистер Меерхофф поспал. Луиза говорит, он места себе не находил. А Сара как будто немного одурманенная. Но Луиза сказала, чтобы ты не волновался, — твоя девушка может шевелить пальцами на ногах.
— Портленд далеко?
— Да, на усталой лошади не доехать, — сказал Сандаун.
— Да уж, далековато, — подтвердил Джордж. — Луиза сказала, машинист отцепил все вагоны, кроме вагона Нордструма и почтового. А завтра за остальными вагонами из Бойсе приедет другой паровоз. И ты опять сможешь прокатиться на свежем воздухе, если захочешь.
Я хотел узнать о Саре побольше, но предисловие к награждению заканчивалось. Сирена Клэнси терял голос. Мы с Джорджем отодвинулись друг от друга и слушали заключительные хрипы:
— …этим и многим другим волонтерам, перечислить которых нет возможности, я хочу сказать: «Славно потрудились и гип-гип ура!» А теперь без долгих разговоров… — Он вынул из конверта сложенный листок. — … Первый чемпион! Мира! Абсолютный победитель!.. — Он развернул листок и прочел его несколько раз про себя, моргая, словно не верил своим глазам. Потом сглотнул и прохрипел в рупор: — Джонатан Э. Ли Спейн!
Тридцать тысяч ртов одновременно втянули воздух. Все до единого на стадионе, и знатоки и несведущие, ничего подобного не ожидали. Удивлены были важные персоны; удивлены ковбои и наездницы; удивлены продавцы и волонтеры. (Игроки — ошарашены!) Кажется, даже некоторых судей привел в замешательство результат подсчетов — а подсчитывали они сами. Не удивились только трое: мистер Келл, подытоживший очки и написавший имя победителя на листке, и двое, стоявшие слева и справа от меня.
— Ты хорошо выступал, Джонатан Э. Ли, — сказал Джордж.
Индеец по обыкновению буркнул одобрительно:
— Очень хорошо.
Публика отнеслась к объявлению не так одобрительно. Настроение портилось на глазах. Удивленный вздох сменился подозрительным ворчанием. После я сообразил, как это, скорее всего, получилось…
Судей было пять: Сесил Келл, Джейкоб Меерхофф, Оливер Нордструм, Абнер Хендерсон и парикмахер по фамилии то ли Ароманти, то ли Амбрезанти, словом, что-то такое душистое. Меерхофф уехал с дочерью на укороченном поезде, так что осталось четверо. Келл был за Джорджа — осталось трое. Младший компаньон «Феерии "Дикий Запад"» должен был бы голосовать за колоритного индейца; но гоп-компания сократилась до одной потускневшей западной звезды с помощницей — серебряной фляжкой, и Оливер быстренько произвел переоценку. Краснокожий на афише «Дикого Запада», может, и был бы большой приманкой на востоке страны и в Европе, но здесь, на настоящем Западе, их дюжина за пятак. А поскольку о черном на афише не могло быть и речи ни на Востоке, ни на Западе, Оливер Нордструм рискнул поставить на меня.
Абнер Хендерсон рискнул еще сильнее: он проголосовал за Прерию Роз. Это был не просто досадливый жест разочарованного отца. Абнер рассудил, что, если Джордж, Сандаун и я делим первое место, следующий по очкам наездник фактически находится на втором и вправе претендовать на звание чемпиона, даже если этот наездник — по случайности его дочь.
Оставался ароматный парикмахер. Он подал решающий голос за меня. Почему — я услышал только в следующую осень, из его собственных уст. Я сидел у него в кресле, подстриженный, ожидая остального, положенного за четверть доллара. И спросил его прямо: почему за меня? Он был слегка разочарован тем, что я не понял очевидного.
— Почему за вас? Да как же, мистер Спейн, — вы представляете, чтобы в это кресло за тысячу семьсот долларов сел со своей овчиной на голове Джордж Флетчер или Джек Сандаун со своими косами. Вы были перспективным клиентом.
Итак, меня наградили колченогий биржевой маклер и ароматный анемон, оба знавшие лошадей только с той стороны, которая обращена к сиденью коляски. Народ ворчал все громче и сердитее. Трибуны гудели, как осиное гнездо в сухую грозу. Мы обрадовались, когда выехала Прерия Роз Хендерсон, по-прежнему сияя незакрывающейся улыбкой. Ворчание слегка стихло.
Впервые после парада на открытии Королева родео появилась во всем блеске своих королевских регалий. На плечах у нее пурпурная мантия, свисающая до середины задних ног лошади. К сильно поношенной шляпе привязана корона с искусственными бриллиантами. Елочная мишура преобразила плеть в скипетр. Она едет, высоко держа его. Это последний день ее царствования. Она должна проехать вокруг нас со скипетром, потом спешиться и снять покрывало с приза. Из-за длинной мантии слезть с лошади затруднительно. Лошадь нервничает. Прерия Роз решает сделать еще один широкий круг и на скаку сорвать покрывало с тележки. Ухватила она крепко, но покрывало зацепилось и вздувается, как призрачно-белый жеребец. Лошадь бросается в сторону. Тележка опрокидывается и вываливает роскошное седло в самое грязное место арены.
Казалось бы, смешно, но никто не смеется. Для всех это — очередная нескладица. Прерия Роз спешилась и побежала к седлу, пурпурная мантия волочилась за ней по грязи, растянувшись на километр. Мы хотели помочь, но она отмахнулась:
— Отойдите, ребята. Это мои дела.
Весь стадион наблюдал с нетерпением, как она поднимает плечом коляску. Потом она бросила седло на место и принялась оттирать своей мантией испачканную кожу и серебро.
Смотреть на это было грустно и неловко. И лучше бы уж слушать громогласную болтовню Клэнси, как ни раздражала она порой, чем это напряженное молчание. Прерия Роз терла и полировала. Толпа наблюдала и ждала. Это было так тоскливо, что Джордж не мог удержаться от шуточки. Загородив глаза от света, он ринулся к судейскому помосту.
— Масса Буффало? Масса Буффало? — крикнул он звонким, высоким девичьим голосом, — Извините, сэр, можно вернуть мне шляпу? Я не выиграл, как вы и приказывали, так можно мне назад мою желтую шляпу?
Старый охотник задумчиво глотнул из фляжки и вернул ее в чехол, сделав вид, будто не слышит.