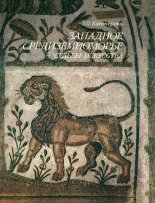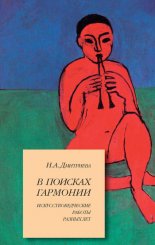Рукопись, найденная в чемодане Хелприн Марк

– Да всем понемножку, – сказал я.
Мне не хотелось говорить ей, что я – партнер у Стиллмана и Чейза. Не хотелось оказывать на нее слишком уж сильное впечатление. Не хотелось одним только сообщением о том, чем я занимаюсь, давать ей понять, что ее познания, пусть и превосходные, являются сугубо теоретическими, в то время как мои… ну… кое-что настоящее. И не хотелось внушать ей благоговение перед реальными деньгами – по крайней мере, пока еще нет.
А ведь моя зарплата и налоговые отчисления по результатам финансового года действительно могли внушить священный трепет. Жилье мое было – весь верхний этаж здания на Пятой авеню, откуда открывался вид на Центральный парк. У меня имелся коттедж в Истгемптоне. Я намеревался удивить ее всем этим позже, осчастливить ее всей этой роскошью, но мне хотелось, чтобы прежде она полюбила меня просто так, ради меня самого, поэтому я решил действовать, как переодетый король из сказки.
На следующий день я снял маленькую квартирку на окраине Уэст-Сайда. Когда позже мы встретились в назначенном месте, под часами, сказал ей, что в этой квартирке я и живу. Так, просто невзначай упомянул. Я успел обставить квартиру в духе демобилизованного пилота, все еще не оправившегося от ужасов войны, все еще рыщущего в поисках мирной профессии. Несколько своих книг и кое-какие напоминания о войне (щегольской стек, фуражку, наградные листы, снарядные гильзы и проч.), а заодно и кое-что из мебели я перевез на новое место. Честно сказал Констанции, что телефона у меня пока нет, но ожидаю, что в течение недели его установят.
– А я ведь так и не спросил у тебя, Констанция, где ты живешь. Не знаю, что бы я стал делать, если бы мы не могли встречаться с тобою здесь, если бы я не смог до тебя дотянуться.
– Я живу в Барбизоне, – нервно проговорила она, а затем продемонстрировала великолепный розовый румянец, охвативший ее буквально с головы до ног.
Она выглядела так, словно стояла на склоне Кракатау за мгновение до того, как он взлетел на воздух. Потом краска стала убывать, и это продолжалось минуты три-четыре.
То была та самая краска, которой, как я узнал в не столь отдаленном будущем, она заливалась в мгновения любви; тот же румянец, вероятно, покрывал ее и на освещенной луной дороге, когда она бежала за мною, хотя в лунном свете я не мог его различить. А когда ее лицо пылало, то жар испарял ее дорогие и едва различимые духи так сильно, что для меня это было подлинным благословением.
Но почему она покраснела, когда сказала мне, что живет в Барбизоне? Потому что она там не жила. Я знал, что она там не живет, но доказать этого не мог. Всякий раз, когда я звонил ей, мне говорили, что она спит или что ее нет. Когда я заезжал за ней туда, она всегда спускалась ко входу, словно действительно там жила, и она платила ренту, но там ее никогда не бывало.
На кого мне было жаловаться? Я ведь сам устроил себе декорации в Уэст-Сайде, и именно там я разыгрывал перед ней безденежного бывшего пилота, чья отягощенная память удерживает его сердце и душу в небе над Европой.
Пусть и коронованная обманом, пора нашего ухаживания была сладостна. Поскольку мне не суждено было знать Констанцию в ее более поздние годы, наша любовь не простерлась дальше первоначальной всепоглощающей страсти – такой же, как, скажем, у Ромео и Джульетты. Мы изведали с ней лишь ту любовь, которая ослепляет. Такое постоянно можно видеть в ресторанах, когда мужчина и женщина сидят за столиком и смотрят только друг на друга, не в силах ни на миг повернуть голову, загипнотизированные друг другом, как кошки на крыше. В моем нынешнем возрасте я склонен к тому, чтобы взирать на подобное зрелище с чувством, чем-то близким к презрению, но порой вспоминаю об этом с подлинным наслаждением. Это то состояние, по отношению к которому физическая любовь выступает в роли служанки и без которого она подобна танцу без музыки.
Вскоре (что, в соответствии с календарем наших бабушек, означало шесть-восемь месяцев) набранные нами тысячи часов поцелуев, объятий и ласк привели к бесконечно длящемуся… ох-хо-хо… к тому, чего мы не смогли избежать, хотя и не торопили событий. Такое дело не было, как оно столь часто оборачивается ныне, занятием, к которому приступают после десятиминутного знакомства, или гимнастическим упражнением, или общественной нормой поведения, или разновидностью оргазматического армрестлинга.
То было высшей точкой многомесячных испытаний, поисков решения, нравственной борьбы. То было знаком истинной любви. То было обоюдной капитуляцией перед первой заповедью, но лишь после продолжительной битвы, в которой мы удостоверили сами себе приверженность вековым традициям.
Сильнейшие вьюги начинаются с мелкого снега. Я, скорее всего, обезумел, чтобы пуститься жить в столь требовательном режиме, когда мне было за сорок и физический мой расцвет уже миновал. Под конец мы проводили в постели дни напролет. Уверен, что насекомые делают так же. Как-то раз на самом верху своей двери в ванную комнату я увидел двух поденок, сомкнутых в идеальной симметрии. Я дунул на них, и они улетели прочь, так и оставшись сомкнутыми в единое целое. Полет их был быстр и грациозен. Что за чудо позволило им внезапно, без обдумывания, превратиться в биплан?
На пляже я вижу неразборчивых в связях юных особ, чья плоть покоится в их купальниках на манер дынь, сунутых в детские рогатки. Что они знают, кроме самого очевидного? Что может какая-нибудь страстная сучка с татуировкой на левой груди знать о Констанции, о ее стройных сильных плечах, о ее скромности – и тайной чувственности, которая буквально взрывалась, когда наконец она дала себе волю?
Я слышу звуки грязной ламбады. Здешние жители насмехаются над Севером. Насмехаются над тем, чему научило нас холодное море и горные ветры. Они насмехаются над Обольщением и Падением.
Вы не знаете причины, по которой она обманывала меня, но цель моей простительной лжи вам известна. Я не хотел, чтобы она полюбила меня из-за денег, не хотел, чтобы она почувствовала, что все, что она сделала, было (по сравнению с тем, что сделал я – в реальном мире, с реальными людьми, с целыми экономическими системами реальных стран) не более чем бесплодным академическим упражнением.
Многие любовные истории, полагаю я, оканчиваются даже еще более пышным и – одновременно – более разрушительным расцветом, при котором страсть, надрывающая сердце, истощается в служении тщеславию. Думаю, мы могли бы переехать в Коннектикут, обзавестись несколькими пони, а своих детей определить в какую-нибудь школу. Все могло бы окончиться иначе… Этого не случилось, потому что всякий раз, озираясь вокруг, я натыкался на какую-нибудь двусмысленность.
Первый слабый намек на то, что не все идет так, как я полагал, дошел до меня следующим же летом – то есть летом 1947 года, в августе, который в Нью-Йорке знаменуется жарой, окутывающей город подобно слепящей вуали. Город в ту пору помнится мне колоссальным этюдом в черно-белых тонах, с куда большими оттенками серого, чем ныне ведомо миру. Он был и тише и смиреннее, чем теперь, – возможно, потому, что все прежние его формы достигли предела, и это было паузой перед обрушением. По-видимому, гибель прежнего царства и зарождение нового наступили во время Великого снегопада сорок седьмого, когда весь город, чего не случалось ни прежде, ни позже, был покрыт глубоким белым саваном. Он остановил всех мужчин, женщин и детей, остановил трамваи, остановил театры, остановил торги на бирже, остановил автобусы, остановил часы.
Нью-Йорк созвал семьи объединиться в мире, и когда все безмятежно собрались в городе, его стянуло тугой тетивой и последовало великое потрясение. Снег обрушивался с карнизов и уступов зданий, словно кто-то приподнял Манхэттен и грохнул им оземь, и все улицы оказались погребены под белой пеной, как будто какой-то малыш опрокинул ведерко со талым снегом и стал смотреть, как остатки всей прежней жизни уплывают прочь.
Великий мой пиетет перед тем временем объясняется просто: там пребывают те, до кого мне теперь не дано дотянуться. Больше всего на свете мне хотелось бы вернуться к ним, и поэтому на все, что их там окружает, я взираю в своей памяти с нежностью – возможно, ошибочной, но тем не менее именно с нежностью.
Если бы я не отправил сам себя в изгнание, то оставался бы в Нью-Йорке, и это бы меня погубило. Атак – он предстает передо мною таким же, как был, и, хотя он всегда недосягаем, я вижу его, и буду ясно его видеть, пока не умру. Кто знает, возможно, в момент смерти мы воссоединимся?
Я вижу все это, словно сегодняшний день. Вот мы с Констанцией плывем на катере к Медвежьей горе. На сером фоне пейзажа Констанция выглядит как этюд, выписанный сочными, живыми красками. Она так хорошо загорела, что белое ее платье отливает розовым. Мы продвигаемся все дальше к северу по Гудзону, а легкий бриз доносит до нас по воде рев с Уэстсайдского шоссе, напоминающий шум отдаленного прибоя.
Левой рукой я обнимаю ее за плечи и мягко притягиваю к себе. Через свой костюм и ее платье я ощущаю ее тело так, словно вовсе и не существует такой вещи, как одежда. Пальцы мои легонько обвиваются вокруг ее предплечья, а она так же легко кладет мне руку на талию. Позади нас лежит город, сияющий своей старинной славой, весь пронизанный ею, но уже находящийся на грани необратимых перемен. Через золотистые его заливы не будут больше тянуться вослед за паромами струи пара и дыма, а с улиц навсегда исчезнут лошади. Дерево и камень отжили свое, и пальто, ниспадавшие свободными складками, и окна, открывавшиеся вереницами, и все непредсказуемые поступки, что защищали нежную человеческую душу.
Констанция, хоть она и молода, намного моложе меня, все равно принадлежит к моему времени, и она тоже понимает, что все это скоро будет утеряно. Стоя на палубе в августовской жаре, я не в силах оторвать от нее глаз. Я изумлен тем, как сильно ее люблю.
Но она была не той, за кого я ее принимал. Такое подозрение зародилось во мне после того, как мы пересекли Таппан-Зее, окутанное бело-голубой дымкой. Много позже, чем мы проплывали мимо Оссининга и я тщетно напрягал зрение, пытаясь разглядеть свой старый дом, – дом с реки увидеть невозможно, хотя из дома река все время видна, – корабль плавно свернул к верховьям Гудзона.
На склоне холма, в безупречном великолепии, симметрии и порядке, явилось огромное поместье. Плавно перемещаясь по воде, мы наблюдали ряды яблонь, которых было около тысячи; аккуратно возделанные поля; дороги без ухабов и рытвин; каменные стены, высокие и совершенно отвесные; ярко и одинаково окрашенные ворота и деревянные ограды; огромные амбары, на которых не было ни следов от непогоды, ни признаков обветшания.
Все, кто стоял на палубе, вытянув шеи, созерцали это тщательно организованное богатство, каждый был впечатлен затраченным на все это трудом и красотой планировки. В то время как на лицах у всех пассажиров читались восхищение и зависть (даже я быстро подсчитал в уме, что и через миллион лет не смогу позволить себе такого обширного и ухоженного сада), Констанция покрылась ярко-красными пятнами, а выражение лица у нее было таким, какое могло бы быть у взломщика, которому ударил в глаза свет полицейского фонаря.
Когда катер подошел близко к берегу, поднятая им волна поспешила через базальтово-черную воду и обдала белой пеной разбросанные на берегу валуны. Высоко над нами появился дом, обрамленный сплошной линией деревьев: казалось, что все его пилястры и колонны поднимаются прямо из кроны могучего дуба.
Я повернулся и посмотрел на горы по другую сторону реки – мне захотелось узнать, что за вид открывается из этого дома. Покончив с этим делом, я боковым зрением успел заметить, что у Констанции прямо под правым глазом искрится слеза. Однако когда я посмотрел на нее внимательнее, слезы уже не было.
Благодаря своей профессии, тому, чем я занимался долгие годы, я научился угадывать в безмятежном ландшафте приметы подземных бушующих рек.
– Что это тебя в этом доме так растрогало? – спросил я.
Ее, казалось, обуревали чувства, и она пыталась с ними справиться.
– Ничего, – сказала она дрогнувшим голосом.
– Ничего? – переспросил я.
Вслед за этим она медленно надломилась, вся так и рассыпалась прямо у меня на глазах. Я обнял ее, и она зарылась лицом мне в плечо. Пока мы не миновали поместья, она непрерывно плакала, а потом, когда к ней вернулось самообладание, все объяснила: оказывается, родители ее, о которых она никогда при мне не упоминала, работали в этом поместье и там же и умерли.
– И мать, и отец?
– Да. Они похоронены на этом холме.
Представлялось маловероятным, чтобы она была ребенком едва ли не феодальных слуг огромного поместья, а затем отправилась в Рэдклифф…
– Владелец поместья, – пояснила она, – сам окончил Гарвард и очень много занимался благотворительностью. Дети его слуг и персонала получали наилучшее образование: им всем до единого удалось попасть в Лигу плюща.
– А их собственные дети?
– Ходили в ту же школу.
– И не трудно им это было?
– Нет, – сказала она. – Когда дети совсем маленькие, они все невинны и равны. Вырастая, они, конечно, осознают положение своих родителей, но все слишком давно знакомы и дружны друг с другом, чтобы это хоть как-то влияло на их отношения.
– Школа эта, наверное, была чудесной, – сказал я.
– Четверо учителей на семерых детей, – таков был ее ответ. – В одном из тех амбаров, что ты видел, была лаборатория, а в другом – библиотека.
– Положение обязывает.
– Совершенно верно.
– А тебя это не злило?
– Нет. Я очень любила своих родителей. Надо сказать, что временами меня их положение немного смущало, но, думаю, это-то и заставляло меня любить их даже еще сильнее. Сначала ты их любишь, потому что они представляются тебе всемогущими, а потом любишь их, когда обнаруживаешь, что они до ужаса ранимы, но ты все равно их любишь, все сильнее и сильнее, хотя порой, сражаясь со своими собственными невзгодами, можешь этого почти и не понимать.
Если не считать того, что в один из моментов она слегка приукрасила то, как обстояли дела, и очень многое опустила, что изменило смысл ее рассказа, все остальное полностью соответствовало правде. Хотя временами она бывала таинственной и недоступной, она по складу своего характера совершенно не могла лгать, и она действительно никогда мне не лгала. Однако о многом умалчивала.
Вряд ли это можно считать грехом. В конце концов, я сам притворялся не тем, кем был, и все ради сюрприза, что я для нее готовил, хотя с каждым днем, проведенным в ее присутствии, все отчетливее понимал, что прикидываться ряженым королем не стоит. Мы с ней любили друг друга, только это и имело значение.
Вскоре после нашего путешествия по реке, в августе, в одну из суббот, я пересек парк и шел вниз по Пятой авеню, собираясь захватить ее с собою у Барбизона. Я был почти в два раза моложе, чем теперь, и мог перепрыгивать через скамейки, на которые сейчас и сажусь-то с трудом.
Как раз когда я проходил мимо одного из огромных особняков, что стоят на Пятой авеню за каменными оградами, из парадной его двери выпорхнула Констанция, а закрыл за нею вроде бы как слуга. Остолбенев, я увидел, как она щелкнула пальцами и повернулась обратно. Видно, что-то забыла. Она быстро взбежала по ступенькам, достала ключ, вошла и тут же вышла – на все про все ей понадобилось меньше времени, чем мне, чтобы успеть заподозрить, что это, возможно, и не она, и тут же убедиться, что это именно она и есть. Она пронеслась сквозь калитку одним акробатическим движением, направилась к проезжей части и остановила проплывающее мимо такси с властностью, достойной генерала Макартура.
Потом она уехала, а я остался, чтобы осмотреть дом. В тот раз у меня от него просто дух захватило. Детали я узнал позже. В нем было шесть этажей, а общая площадь его составляла не меньше 500 квадратных метров, не считая гаражей, оранжереи, крытого бассейна и теннисного корта. На втором его этаже располагался необъятный бальный зал. Библиотека, по всему периметру которой шел балкон, была неимоверной высоты; в ней наличествовали шесть стремянок на колесах, а из высоких, от пола, сводчатых окон открывался вид на зеленые дубы в парке.
Кухня в меди и нержавеющей стали. Два шеф-повара в белых накрахмаленных колпаках играли в шахматы возле большого окна. Специальный человек был нанят единственно для полировки дерева, другой – для чистки металла и мрамора, третий – для мытья окон. Посреди всей этой чистоты и блеска царили цветы. Цветов там было море, ты словно оказывался в садах Нитероя. Ну, не совсем, конечно: ничто не может сравниться с тщательно ухоженным садом, возросшим под тропическим солнцем. Он так же прекрасен, как и молодые садовницы и садовники. Юные девушки в соломенных шляпках и блузках, где темно-багровые цвета переплетаются с синими, чьи лица так румяны и совершенны, и сильные энергичные парни, которые не могут оторвать глаз от своих прелестных помощниц. В прекрасной девушке, идущей под жарким солнцем с лейкой в руке, действительно есть что-то такое, что заставляет сердце учащенно биться.
Я стоял на Пятой авеню, глядя на этот дом, окруженный садом, который Констанция, по всей видимости, знала как свои пять пальцев. Что, спрашивал я себя, все это значит? Но было совершенно ясно: это ее дом. Позже, уже не в состоянии этого утаивать, она меня в него пригласила, а вскоре после этого, когда я на ней женился, он стал и моим домом тоже.
Пусть и не по собственной вине, но Констанция Оливия Феба Энн Николя Деверо Джемисон Бакли Эндрю Смит Фабер Ллойд оказалась миллиардершей. Мне никогда не приходило в голову, что геометрическая прогрессия семейного достояния может с помощью наследования либо стратегических браков достичь такой степени концентрации. Ее предки были настолько благоразумны, бережливы и расчетливы, что слепили несколько значительных состояний в огромный снежный ком богатства, к которому никогда не отказывались прилипнуть лишние деньги. Констанция верила, что у нее будет один-единственный ребенок и что ребенок этот продолжит дело накопления семейных богатств и не опустится до неравного брака.
– А как же насчет меня? – спросил я, имея в виду, что она вышла за меня, а я ведь рядом с нею, как ни сравнивай, не только бедняк, но и, можно сказать, пустяк. Так или не так?
– Ты исключение, – сказала она. – К тому же наследство у нас идет по материнской линии.
Несомненно, мы любили друг друга, но с того самого момента, когда я увидел, как она вставляет ключ в замок огромной двери, меня стало терзать беспокойство и мне, так сказать, приходилось бороться со змием сомнения.
Здесь, в этих садах, я могу рассказать вам всю правду, хотя она по-прежнему порождает приступы морской болезни. Да, я был боевым летчиком. Меня дважды сбивали, и когда это случилось впервые, я сумел выжить в море и проделал немалый путь через пустыню, чтобы через неделю снова подняться в воздух, с полными баками и боезарядом, ни в коей мере не утратив боевого духа.
Ладно, я не получил в Гарварде докторской степени, но был гарвардским бакалавром и оксфордским магистром философии. Я был полноправным партнером у Стиллмана и Чейза, и притом старейшим работником фирмы, что могло представляться причудливым стечением обстоятельств, но на самом деле было результатом дальновидного расчета моего дяди. Мне слегка перевалило за сорок, и я при этом был в отличной спортивной форме и обладал превосходным здоровьем. Я с легкостью общался с президентами и королями, а с Папой так вообще был на короткой ноге. Но когда Констанция взяла меня к себе, в свой величественный дом – а были ведь и другие… я имею в виду, другие дома, – со мной произошло нечто ужасное.
Начиная с этого вечера – боже, отец ее был нобелевским лауреатом, склонным к благотворительности, – я не мог посмотреться в зеркало, чтобы там не показался остромордый грязный уродец с седыми редкими усами. Ее миллиарды сводили меня к нулю. Мужчина-содержанка. Жиголо. Грызун. Как ни старался я это отрицать, не было ни разу, чтобы, пытаясь придать себе уверенности перед зеркалом, я на собственных своих глазах не превращался в тушканчика, хотя порой мне казалось, что мог бы сойти и за морскую свинку.
Даже несмотря на то, что я никогда не признавался ей в этих своих мучениях, Констанция прилагала все усилия, чтобы им противостоять. Врожденное чувство такта побудило ее придать мне уверенности не словами, но поступками. Она сделала меня совместным бенефициарием множества трестов, аргументируя это тем, что ей они достались по праву рождения, а мне – по праву любви. Велела своим адвокатам вести все дела от имени нас обоих.
– Вот и все, – сказала она, когда с этим было покончено. – Твое, мое – не имеет значения. Может, нам вообще следовало от всего отказаться и жить в какой-нибудь хижине на побережье.
– На каком еще побережье?
– В Саутгемптоне.
– А как же фортепиано?
– Ну, рядом с хижиной мы могли бы построить музыкальную студию – наподобие Вильямсбурга: английский парк с примыкающими хозяйственными постройками, а еще конюшни, бассейн, теннисные корты… а по ту сторону лужайки – оранжереи.
– А что бы мы ели? – спросил я с некоторой долей сарказма.
– Мы бы ловили рыбу и собирали ягоды, к тому же к нашим услугам были бы рассыльные от Фортнума, Мейсона и Петросяна.
Каким бы ясным и живым ни был ее ум, представление ее о реальности было уникальным. К примеру, однажды, придя домой, я увидел, что Констанция расхаживает по библиотеке в очень скверном настроении. Я спросил, чем она так расстроена. Она сказала, что заходила в магазин скобяных товаров на Лексинггон-авеню, чтобы купить такую крохотную машинку для прививки черенков земляники. (Я назвал бы такую вещицу пинцетом, если бы настоящий пинцет не выглядел рядом с ней так же, как гиппопотам рядом с муравьем.)
Владелец магазина вел себя так невежливо, что она, глядя ему прямо в глаза, вынуждена была объяснить, что она, как покупатель и человеческое существо, заслуживает обыкновенного внимания. В этот момент он разразился грязными ругательствами, стал плеваться, и на губах у него выступила пена.
– Что поделаешь, это Нью-Йорк, – сказал я, готовясь ринуться в магазин и разорвать того типа на мелкие кусочки.
– Никуда не ходи, я проучу его по-своему, – сказала она.
– Ты имеешь в виду, что купишь помещение и выгонишь его?
Она отрицательно помотала головой.
– Заведешь сотню скобяных лавок по соседству?
– Нет.
– А что же тогда?
– Заставлю его уверовать, – сказала она, – а потом лишу его веры.
– А, ну конечно, – сказал я. – Я так и знал, только сказать не успел.
Тогда она раскрыла мне поразительный план. Я с трудом переводил дух, ибо знал, что она располагает средствами, дабы воплотить его в реальность.
– Слушай, – продолжала она обворожительно и в то же время вселяя ужас, – я ведь имею право на мщение, так?
– Хочешь, я отомщу за тебя?
– У него есть бейсбольная бита.
– Он тебе ею угрожал?
– Он держал ее в руке.
– Я заставлю его проглотить чайное ситечко.
– Нет, – сказала она. – Такие вещи тебе больше с рук не сойдут. В газетах поднимется страшный шум.
– Ты хочешь сказать, что обладание огромным состоянием превращает тебя в тряпку?
– Нет, но приходится выбирать окольные пути.
– Например, вселить в кого-нибудь веру?
– Да.
– А потом лишить его последней надежды?
– Точно.
– Но, Констанция, разве это не слишком сложно? – возразил я.
– Ничуть, – сказала она, – хотя это займет года четыре. В итоге он закроет свою лавочку и удалится на покой, будучи вконец измученным неразрешимой загадкой.
– Неудивительно, что ты боишься газет. За то, что человек испортил тебе настроение, ты собираешься его сокрушить.
– Да, и за время этого процесса я сделаю его богатым.
– И насколько же он разбогатеет?
– На несколько миллионов, если он будет бережлив и если под конец не поддастся соблазну.
– Превосходная месть! – весело сказал я.
– Совершенно верно.
Такой план мог зародиться только в воображении человека, для которого деньги ничего не значили, несмотря на то что он искренне пытался узнать им цену.
Прежде всего она намеревалась нанять штат сотрудников и снять для них помещение под офис. Они подберут актера, имеющего сходство с языческим богом смерти, чтобы тот отправился в эту скобяную лавку в середине июля и спросил там сани. Констанция заметила, что у ее мучителя было с дюжину финских саней, составленных в штабель в одном из углов. Актер будет так загримирован, чтобы казалось, будто от него исходит сияние. Констанция придумала систему подсветки из крохотных ультрафиолетовых лампочек, питающихся от батареек, для освещения фосфоресцирующей пудры, которой будут усыпаны саван и коса актера.
Приурочив свое появление к летней грозе, он спросит сани, купит и уйдет. На другой день придут двое статистов и спросят сани. На следующий день явятся трое, еще на следующий – четверо, и так далее.
В течение трех лет – если точно, чуть меньше, потому что високосного года не будет, – по тысяче человек в день, между девятью и пятью, будут являться в этот магазин – осенью ли, зимой ли, летом (весны в Нью-Йорке не бывает), – чтобы купить сани.
А это означает, что в среднем каждые тридцать секунд он будет продавать один вид саней – все остальные модели и аксессуары будут отвергаться – и только по одной цене. Покупатели будут уходить, как только он попытается поднять цену.
Под конец, после оплаты накладных расходов и налогов, он будет иметь около пяти миллионов в год по текущему курсу. Если самого его в лавке не будет, то легионы статистов, нанятых Констанцией, ничего покупать не будут. У него не останется ни единой свободной секунды, вся его жизнь превратится в сплошной ураган из саней.
В самый жаркий летний день, когда вряд ли смогут подвернуться случайные покупатели, все статисты будут отозваны. Накануне, в жутко жаркий день, он продаст тысячу саней. В течение недели он будет всеми покинут. Владельцы соседних магазинов, которые тоже пытались торговать санями и, несмотря на то, что наряжались как Санта-Клаус, тратились на рекламу и снижали цены до предела, ничуть в этом не преуспели, сочтут, что его везение наконец-то иссякло.
Как раз в тот момент, когда торговец готов будет уйти на покой, старик Хронос снова пожалует к нему в лавку и спросит противень. После чего цикл начнется снова, но лишь затем, чтобы заканчиваться и возобновляться, когда древний бог будет требовать разные другие предметы.
Когда список из саней, противней и скобяной мелочи будет исчерпан, бог смерти спросит у него черную подушку, набитую конским волосом, с вышитым на ней изображением красного паука. Естественно, никто не станет обзаводиться такими вещами поштучно, если собирается продавать их сотнями тысяч.
В справочниках по оптовой торговле на протяжении нескольких лет Констанция будет размещать перечень продукции, выпускаемой фабрикой в Нью-Бедфорде, которая специализируется на расшитых подушках из конского волоса. Фабрика, которую она создаст, будет на грани «банкротства», и для возобновления производства потребуется вложение капитала: совершенно случайно, именно той суммы, которую удастся скопить хозяину скобяной лавки. Он не захочет рисковать своими сбережениями, но Хронос явится снова, требуя подушку и предлагая бешеную цену. А потом тысяча статистов оставят значительные суммы, заказав себе такие же подушки, и будут день-деньской беспокойно ему названивать.
Когда выпуск подушек будет налажен, что придаст экономике Нью-Бедфорда толчок (хотя и не подготовит должным образом к будущему переходу на высокие технологии), и все склады будут забиты ими доверху, Констанция свернет операции и велит батальонам щелкоперов заполнить газеты и журналы статьями о лавочнике с Лексинггон-авеню, который не может сбыть с рук около полумиллиона черных подушек из конского волоса с пауком, вышитым на них красным мулине.
Тогда, и только тогда, появится она перед этим сломленным человеком, чтобы спросить у него машинку для прививки черенков земляники. Если он почувствует здесь связь, сказала она, это будет прекрасно. А нет так нет.
– Думаешь, он поймет? – спросил я.
– Кто его знает, – сказала она в ответ.
У нее была возможность все это устроить. Она могла так поступить, но не стала. Вместо этого она пожертвовала двадцать пять миллионов долларов госпиталю Альберта Швейцера в Ламбарене.
Я старался не придавать значения тому факту, что неожиданно стал обладателем нескольких миллиардов, сделать его как бы несуществующим. Я не чувствовал себя вправе как-то пользоваться этим капиталом – и никогда им не пользовался. Вместе с Констанцией я останавливался в наших домах в Париже, Риме, Лондоне и на побережье Палм-Бич, но лично для меня они были не более чем роскошными пустыми особняками. При той зарплате, что я получал в своей фирме, собственно, благодаря одной только двойной бухгалтерии, я мог бы позволить себе останавливаться в подобных местах, но в дорогих отелях, и это было бы веселее, потому что там, по крайней мере, были бы другие постояльцы.
Присутствие огромного капитала ощущалось постоянно. Он порождал эхо. Он закрывал собою свет солнца. И невозможно было от него скрыться. Мы его охраняли, а он нами владел, а не наоборот. Никогда не забуду, как мы с отцом, когда я был еще ребенком, ездили в Виргинию, чтобы походить по полям битв Гражданской войны, где сражался дедушка. Это было в 1913 году. Кое-где мы целый день ходили пешком, в других местах нанимали лошадей.
Возле одного из самых красивых полей минувших сражений, в виду Голубых гор, находилось обветшалое поместье. В одной из лощин мы повстречали ехавшую верхом хозяйку дома, и она пригласила нас к себе на чай – сам чай я не пил – в самшитовую рощу.
Усадьба пришла в упадок, поля были возделаны кое-как. Самшитовая роща, однако, была само совершенство. В заботу об этой роще она вкладывала все свои силы и сбережения. Ничего не поделаешь, объяснила она, роще этой уже двести пятьдесят лет, и она является национальным достоянием.
По спине моей пробежал холодок. Мы, оказывается, были окружены миллиардами листьев и древним сплетением корней, глубоко ушедших в черную землю, чей невидимый узор поработил эту женщину. Из скольких людей еще он высосал все соки, из скольких еще высосет в будущем?
Я прямо сказал об этом отцу, и он, разделяя мои чувства, взял на себя труд спасти эту женщину. Когда мы уходили, он сказал:
– Мадам, эта роща сделала вас своей рабыней. Вам следует свести ее под корень хотя бы ради спасения еще не рожденных детей, которые в противном случае тоже угодят к ней в плен.
Сровняйте ее с землей, выкорчуйте пни, сожгите стволы и ветви дотла и удобрите золой вашу землю.
То же самое было с Констанцией и ее состоянием, и она была слишком умна, чтобы этого не понимать, но ей недоставало мужества расстаться с ним. А я, хотя у меня было мужество с ним расстаться – мне до боли хотелось освободиться от его удушающего веса, – не желал расставаться с нею.
У нас не было другого выбора, кроме как вести изнурительную жизнь очень богатых людей. Магия денег и капитала зиждется на способности к наращиванию силы. Если, например, взглянуть на мост Джорджа Вашингтона, то лишь малая толика этого зрелища имеет отношение к технологии. Все остальное – капитал. Сотни тысяч тонн стали были выплавлены из добытой в скалах руды, прокатаны, доставлены и воздвигнуты огромными армиями людей, которые никогда не действовали бы так сплоченно и согласованно, если бы доллары не могли собираться в миллиарды и направлять свою силу в некую абстрактную точку, местоположение которой не смог бы определить и сам Евклид, чтобы стать там силой, подобной фантастическому лучу смерти или волшебной палочке чародея.
Я обнаружил, что капиталы большой концентрации либо превращают своих владельцев в тщеславных и капризных монстров, либо ввергают их в тоску, от которой нет избавления. Констанция была ввергнута в тоску, что случается, когда у тебя есть все, чего ты хочешь.
Она захотела, чтобы я стал президентом.
– Чего именно? – осведомился я.
– Соединенных Штатов.
– Я? – спросил я, чуть слышно шевельнув губами и прижав большой палец к своему солнечному сплетению.
– Да, – сказала она. – Ты хороший оратор. Ты совершенно честен. Ты опытный аналитик международного положения. Ты очень хорошо разбираешься в экономике. Ты герой войны. Ты родился в Соединенных Штатах и счет своим деньгам ведешь сейчас на миллиарды. Так почему же нет?
– Но, Констанция…
– Ты обучался в Гарварде, как Рузвельт и Адамсы, а на Уоллстрит поддержали бы тебя, даже если бы ты был просто популярным гипнотизером.
– Констанция, но ведь…
– Начать ты мог бы с Сената. Я куплю несколько издательств и поддержу тебя в прессе. У тебя такой бойцовский характер! Великолепная идея! Как только мне это раньше не приходило в голову!
– Констанция…
– Что?
– Я никогда не смог бы стать президентом, даже если бы захотел.
– Да нет же, если хочешь, то сможешь.
– Нет.
– Почему?
– Потому что я был осужден за убийство и воспитывался в приюте для душевнобольных, вот почему.
Она задумалась, и я понял, что она просматривает в уме учебники по истории.
– Не думаю, милый, чтобы это стало препятствием, а ты?
Несмотря на ее оптимизм, я таки думал иначе. Кроме того, в глубине души я действительно не хотел быть президентом Соединенных Штатов. Уплатив определенную сумму, можно встать рядом с президентом и сфотографироваться, а он вынужден будет улыбаться. Единственным существом, которому, как я знал, платили за то, чтобы оно стояло с вами рядом, пока вас фотографируют, был шимпанзе с дощатого пешеходного моста на Кони-Айленде. Его звали Тони, и он улыбался только тогда, когда вы ему нравились. Я ему, к несчастью, понравился. Мне тогда было двенадцать, и он, должно быть, принял меня за девочку, потому что поцеловал меня в губы. Это был мой первый поцелуй…
И возможно, это было справедливым наказанием, ибо мы с приятелями три часа добирались до Кони-Айленда с вполне определенной целью – задрав головы, стоять под мостками и заглядывать женщинам под юбки. Поскольку поле зрения у нас было сужено до одного градуса, а среднестатистическая женщина двигалась со скоростью две-три мили в час, то, что мы видели, воспринималось нами всего лишь около пятнадцатой доли секунды. Если приплюсовать сюда сомнительную перспективу и учесть тот факт, что мы не знали, чего мы, собственно, хотим увидеть, то мы ничего и не видели – за что я и был наказан поцелуем шимпанзе (вернувшись, я полчаса чистил зубы). И все же мы отправлялись туда снова и снова, так уж сильна природная тяга к продолжению рода. Само собой разумеется, Тони к этому не имел никакого отношения.
Постоянно надо мною довлеющая дилемма разрешилась не на дощатом мосту, но на пристани. Дед Констанции, Деверо, выстроил некое пристанище в горах Адирондак. Хотя они называли это лагерем, главный охотничий «домик» покрывал площадь в 700 квадратных метров, и были там и ангар для гидроплана, и помещение для лодок, и музыкальный салон, и кухня как в отеле, и сушилки для полотенец, и радиостанция.
Однажды, приехав туда летом, мы решили поплавать на каноэ. Вода была чистой, окоем Онтарио – огромным и синим, а лес – пустынным и тихим. Ночью прошел дождь, и мокрая пристань исходила паром в лучах раннего солнца. Констанция была на носу каноэ, а я отвязывал кормовой шкертик, как вдруг она вспомнила, что отставила в доме лосьон для загара.
Я побежал за ним. Хотя мне было сорок пять, я располагал полностью оборудованным тренажерным залом и временем, чтобы им пользоваться. Так что я мигом взмахнул на холм, взбежал по лестнице, перепрыгивая через четыре ступеньки, ворвался в дом, ракетой взмыл вверх, схватил пластиковую бутылочку и решил побить все скоростные рекорды, возвращаясь на свое место на корме.
Это был бросок, достойный легкоатлета. Я просто летел. Чем быстрее я бежал, тем я бежал быстрее. К несчастью или, может быть, к счастью, пристань была разделена на две части, и первая была на пять футов ниже второй, той, что ближе к берегу. С одного уровня на другой вела лестница. Констанция сидела в каноэ у самого конца пристани и, прикрывая глаза от солнца ладонью, смотрела, как я прожигаю расстояние.
Я замедлил скорость на первой половине пристани, намереваясь преодолеть высоту в пять футов одним прыжком, но такой возможности мне не представилось. Я забыл, что поверхность скользкая, и когда попытался остановиться, то взлетел в воздух ногами вперед.
Сначала я летел вверх, а потом – вниз, около семи футов летел я вниз, а приземлился в стиле банановой кожуры, на спину, абсолютно плоско. Сила удара была такой, что мы так и не увидели, где замерли расходившиеся по воде круги. Еще немного, и планки оказались бы разбиты, как от рубящего удара каратиста. Сотрясение коснулось каждой клеточки тела, включая голову. Констанция сказала, что звук был, словно взорвалась бомба. Она думала, что я, может быть, сломал позвоночник, что я либо умру, либо проведу остаток жизни в коме.
Но радость полета в воздухе и последовавшее за этим шокирующее, отрезвляющее столкновение с настилом пристани оживили меня сразу в нескольких смыслах. Я ощущал не столько боль, сколько звон в ушах и покалывание во всем теле. Мое старое «Я» пробудилось, и стало ясно, что оно по-прежнему живо, что все то, что у меня было когда-то, осталось при мне – в мышцах, костях, в искорке внутри, которая всегда чуть тлеет, но при испуге или во время битвы разгорается ярким пламенем.
Мой удар о пристань и пришедшее вслед за тем осознание, что я цел и невредим, – вот что освободило меня от кабалы моих миллиардов. Покончено с автомобилями с откидным верхом, с моторными лодками, яхтами и бассейнами. Покончено с домашней прислугой, с пожертвованиями на пристройки к больницам, на стеллажи для библиотек. Покончено с сидением в огромных, превосходно обставленных комнатах, где меня все время одолевали сомнения, уж не умер ли я. Покончено с тоской по детству, когда, поскольку у меня ничего не было, я обладал всем. Покончено с призывами беглых польских клавикордистов спонсировать институты музыкальных устройств. Покончено с бельгийским шоколадом и фирмой «Данхилл». Со всем таким – покончено.
Я решил, не оставляя Констанцию, каким-нибудь образом избавиться от денег – начать сначала, самому стать миллиардером. Мне необходимо было это сделать, хотя я заранее знал, что избавлюсь и от этого тоже.
Это может показаться противоречащим природе, но самые великолепные моменты в моей жизни всегда наступали, когда я был близок к бездне, а величайшую власть я ощущал тогда, когда целиком оказывался в распоряжении стихий, ибо тогда я сливался с ними и каждый атом моего тела становился чистым, чуждым боли, бесконечно сияющим.
Мне думается, что, когда меня вынесло из моего самолета и все мое зрение заполнил огненный шар его взрыва, когда множество факторов сошлись в одном месте: скорость и неподвижность, звук и тишина, ветер и разреженность верхних слоев атмосферы, бодрствование и сновидение, – я смог стать, на одно мгновение, даже ангелом.
Что есть ангел? Ангел – это существо, видевшее Бога. Ангел проходит через завесу смерти к бесконечному свету по ту сторону, к невесомой серебристой яри, к окончанию гравитации, вечной скорости, свету. Всего лишь на мгновение, разумеется. Сначала я был изумлен и совершенно недвижим, а потом, когда потянул за вытяжной трос парашюта, улыбнулся.
Как объяснить мне это, если я, даже на исходе жизни, этого не понимаю?
Я всегда восхищался воспоминаниями стариков. Как это так получается, недоумевал я, что им столь часто удается соединять элегичность и экономность? И мало что зависит от того, кто они. Дипломат, фабрикующий свои мемуары, эскимос, углубившийся в рассказ о китовой охоте, имевшей место полвека назад, старушка, тихонько воссоздающая затерявшуюся во времени семью… Они говорят так трогательно, потому что помнят умерших, и они должны быть экономны просто из-за нехватки сил.
Сам я в этом отношении никаких притязаний не имею. Вы меня уже знаете. Несмотря на свой возраст, внутри я весь напряжен, как розовый бутон. Я такой же варвар, как семилетний мальчишка, а время от времени делаюсь таким же нетерпеливым и сексуально заведенным, как четырнадцатилетний подросток. Почему?
Сам не знаю. Меня больше не заботят великие вещи: у меня нет иллюзий относительно справедливости, а любовь для меня – перекресток между памятью и грезами.
Откуда же они являются – моя энергия, мой вкус к жизни, мое неповиновение, мое желание? Кажется, что-то такое застряло у меня в мозгу, не ветка или камешек, но что-то вроде уголька, крохотный очажок бьющейся крови, горячий алмаз или изумруд, что-то безумное, прекрасное и сладостное. И это так устремляет меня вперед, словно я в свои годы – юноша на горячем коне, перепрыгивающий через стены и ручьи, с бешено бьющимся сердцем. Это так же пьянит, как те прекрасные женщины, которые долгое время казались недосягаемыми, также требует напряжения всех сил, как битва, так же дорого для меня сейчас, как религиозное откровение. Но что же это такое, за что я цепляюсь, что это за энергия, что за магия, что за жизнь?
Небо над Европой
(Если вы этого еще не сделали, верните, пожалуйста, предыдущие страницы в чемодан.)
Какой, по-вашему, проверке на благонадежность требуется подвергать преподавателя английского языка Бразильской Морской академии, если учесть, что у бразильцев нет других врагов, кроме собственной лени и кокосового масла? К тому же в бразильском флоте, как и в других родах вооруженных сил, не принято уделять повышенное внимание требованиям безопасности.
Думаю, они никогда не заглядывали в мое личное дело, а если и заглядывали, то нашли там минимум информации, поскольку основная часть моей бренной жизни прошла в те времена, когда о компьютерах никто и не слыхал. Кроме того, я не уверен, какие именно факты вносились в мое дело, если они вообще в него вносились. О некоторых вещах умалчивают, чтобы избежать политических осложнений. Очень может быть, что мне не надо было искать страну, не имеющую договора об экстрадиции, и что я мог просто затеряться в Лондоне или Мадриде.
Не так давно команданте заинтересовался моим происхождением и затеял какое-то вялотекущее расследование, которое, надеюсь, забросит сразу же, как столкнется с затруднениями, – а именно так он поступает всякий раз, сталкиваясь с непреодолимыми трудностями.
В Бразильских ВВС решили закупить несколько новых самолетов, а из старых сформировать эскадрилью для борьбы с мятежниками. Это представляется разумным, потому что АТ-26 на винтовой тяге не идут ни в какое сравнение с современными истребителями и перехватчиками, однако, с их малой скоростью, могут идеально поддерживать с воздуха операции, проводимые в джунглях.
Вновь назначенные пилоты этой группы обучаются на Т-27, «Туканах», машинах поменьше, но мало чем отличающихся от АТ-26. Поскольку их задачей является противостояние партизанам, многих из пилотов направляют на обучение в Соединенные Штаты. Лично я посылал бы их во Вьетнам.
Все пилоты говорят по-английски, но меня попросили их подтянуть, в смысле – натаскать в нюансах, чтобы они не профукали престиж страны во время стажировок. Внимание пришлось уделить и техническим терминам, и тут я не удержался, чтобы не преподнести им некоторые наставления в области тактики и стратегии воздушного боя.
Что мог я знать о полетах? Им достаточно было лишь взглянуть на меня, чтобы понять: я родился до эры воздухоплавания и нужен подъемный кран, чтобы усадить меня в кабину одного из их самолетов. Что мог я знать о цельнометаллическом моноплане с размещенными в крыльях пулеметами и обтекаемыми бомбовыми подвесками? Что, действительно, мог я знать?
За трехнедельный курс я обучил их не только летным терминам, но и преподал достаточно основательные уроки по управлению самолетом и использованию оружия, чтобы дать им преимущество в бою не только с ВВС Парагвая или Суринама, но и с асами люфтваффе, с которыми, надо признать, им вряд ли придется сражаться, хотя их братья из Аргентины по дури затеяли недавно возню с Королевскими ВВС.
Я ознакомил их с маневрами, которые их инструкторам и не снились. В осуществимость половины из них они отказывались верить, но я-то вынужден был прибегать к ним множество раз, и всегда удачно.
– Откуда вы об этом знаете? – спрашивали они, совершенно ошарашенные.
– Просто знаю, и все, – отвечал я.
– Но откуда?
– Когда вы стареете, химический состав крови меняется, – объяснял я, – и вы становитесь мудрыми. Вот одно из открытий, которые вам предстоит сделать: жизнь гораздо в меньшей степени, чем вы думаете, основывается на том, чему вы научились, и гораздо в большей степени – на том, что вы знали с самого начала.
Они все еще сидели с отвисшими челюстями, когда один из них спросил:
– Вы хотите сказать, что знаете, как справиться с потерей гидравлической жидкости в воздушном бою и как использовать свободный ход винта при пикировании, просто так, от природы? Все дело в наследственности?
Я попался, ну так и что с того? Я просто кивнул с абсолютной убежденностью.
За неделю до того, как эта партия студентов убыла, меня вызвал к себе команданте. Машинально спросив, не угодно ли мне чашечку кофе, он тут же съежился и затаил дыхание. Я пропустил эту фразу мимо ушей.
Видите, какой властью обладает этот мерзкий напиток? Люди нуждаются в нем, чтобы завязать разговор, проснуться, уснуть, чтобы работать, играть, есть, чтобы отправиться в морское путешествие или высадиться на берег.
Сколько раз, когда я входил в какую-нибудь комнату, громом с ясного неба громыхал этот вопрос:
– Не желаете ли кофе?
Разумеется, я не желаю никакого кофе. С чего они взяли, будто я хочу кофе? А эти официантки! Они говорят:
– Вам сейчас подать ваш кофе?
Это не мой кофе, и как они смеют предполагать, что единственный вопрос состоит в том, когда я буду его пить? Даже после того, как я отказываюсь, они норовят подойти снова и спросить:
– Вы не передумали насчет кофе?
– Конечно не передумал, – отвечаю я. – И никогда не передумаю. Скорее умру, чем передумаю насчет кофе.
Мне пришлось отказаться от посещения ресторанов. Вид людей, смакующих кофе, оскорбителен. Когда они его пьют, лица у них как у зомби. Здесь смешано все: сексуальное наслаждение, пиетет, церемонность.
Кофеманы глядят на меня в изумлении и говорят:
– Нам он доставляет такое удовольствие!
Да, он доставляет вам удовольствие! Наркоманам доставляет удовольствие героин, извращенцам доставляют удовольствие их извращения, а Гитлеру доставляло удовольствие вторжение во Францию. Удовольствие он вам доставляет главным образом потому, что без него вы страдаете. Здесь действуют те же механизмы, что и при тотальной зависимости. Это крохотное черное вонючее зернышко подсадило на себя весь мир!
– Как ваше здоровье? – спросил команданте.