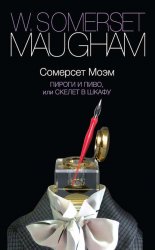Закатные гарики. Вечерний звон (сборник) Губерман Игорь

Закатные гарики
Не знаю благодатней и бездонней
дарованных как Божеская милость
двух узких и беспомощных ладоней,
в которые судьба моя вместилась.
Не будь мы вдвоем, одному
пришлось бы мне круто и туго,
а выжили мы потому,
что всюду любили друг друга.
- Ушли и сгинули стремления,
- остыл азарт грешить и каяться,
- тепло прижизненного тления
- по мне течет и растекается.
- Уже вот-вот к моим ногам
- подвалит ворох ассигнаций,
- ибо дерьмо во сне – к деньгам,
- а мне большие говны снятся.
- К похмелью, лихому и голому,
- душевный пришел инвалид,
- потрогал с утра свою голову:
- пустая, однако болит.
- Я не искал чинов и званий,
- но очень часто, слава Богу,
- тоску несбывшихся желаний
- менял на сбывшихся изжогу.
- Вчера взяла меня депрессия,
- завесы серые развесила
- и мысли черные зажгла.
- А я не гнал мерзавку подлую,
- я весь сиял, ее маня,
- и с разобиженною мордою
- она покинула меня.
- Я в зеркале вчера себя увидел
- и кратко побеседовал с собой;
- остался каждый в тягостной обиде,
- что пакостно кривляется другой.
- Это был не роман,
- это был поебок;
- было нежно, тепло, молчаливо,
- и, оттуда катясь,
- говорил колобок:
- до свиданья, спасибо, счастливо.
- На любое идейное знамя,
- даже лютым соблазном томим,
- я смотрю недоверчиво, зная,
- сколько мрази ютится под ним.
- Слежу без испуга и дрожи
- российских событий пунктир:
- свобода играет, как дрожжи,
- подкинутые в сортир.
- Когда остыл душевный жар,
- то жизнь напоминает жанр,
- который досуха исчерпан.
- Когда бы сам собой смывался грим
- и пудра заготовленных прикрас,
- то многое, что мы боготворим,
- ужасно опечалило бы нас.
- Надежды огненный отвар
- в душе кипит и пламенеет:
- еврей, имеющий товар,
- бодрей того, кто не имеет.
- Вижу лица или слышу голоса —
- вспоминаются сибирские леса,
- где встречались ядовитые грибы, —
- я грущу от их несбывшейся судьбы.
- Уже мы в гулянии пылком
- участие примем едва ли,
- другие садятся к бутылкам,
- которые мы открывали.
- Еврей опасен за пределом
- занятий, силы отнимающих;
- когда еврей не занят делом,
- он занят счастьем окружающих.
- Казенные письма давно
- я рву, ни секунды не тратя:
- они ведь меня все равно
- потом наебут в результате.
- Мне слов ни найти, ни украсть,
- и выразишь ими едва ли
- еврейскую темную страсть
- к тем землям, где нас убивали.
- Покуда мы свои выводим трели,
- нас давит и коверкает судьба,
- поэтому душа – нежней свирели,
- а пьешь – как водосточная труба.
- Зачем-то в каждое прощание,
- где рвется тесной связи нить,
- мы лживо вносим обещание
- живую память сохранить.
- Я искренне люблю цивилизацию
- и все ее прощаю непотребства
- за свет, автомобиль, канализацию
- и противозачаточные средства.
- Я даже мельком, невзначай
- обет мой давний не нарушу,
- не выплесну мою печаль
- в чужую душу.
- Мы столько по жизни мотались,
- что вспомнишь – и каплет слеза;
- из органов секса остались
- у нас уже только глаза.
- Не знаю блаженней
- той тягостной муки,
- когда вдоль души по оврагу
- теснятся какие-то темные звуки
- и просятся лечь на бумагу.
- Когда наплывающий мрак
- нам путь предвещает превратный,
- опасен не круглый дурак,
- а умник опасен квадратный.
- Есть люди – пламенно и бурно
- добро спешат они творить,
- их бескорыстие и прыть.
- Высок успех и звучно имя,
- мои черты теперь суровы,
- лицо значительно, как вымя
- у отелившейся коровы.
- Нам не светит благодать
- с ленью, отдыхом и песнями:
- детям надо помогать
- до ухода их на пенсии.
- Не сдули ветры и года
- ни прыть мою, ни стать,
- и кое-где я хоть куда,
- но где – устал искать.
- Всюду ткут в уюте спален
- новых жизней гобелен,
- только мрачен и печален
- чуждый чарам чахлый член.
- Заметь, Господь, что я не охал
- и не швырял проклятий камни,
- когда Ты так меня мудохал,
- что стыдно было за Тебя мне.
- Вольно ли, невольно ли,
- но не столько нация,
- как полуподпольная
- мы организация.
- В одной ученой мысли ловкой
- открылась мне блаженства бездна:
- спиртное малой дозировкой —
- в любых количествах полезно.
- Из века в век растет размах
- болезней разума и духа,
- и даже в Божьих закромах
- какой-то гарью пахнет глухо.
- Уже порой невмоготу
- мне мерзость бытия,
- как будто Божью наготу
- преступно вижу я.
- О помощи свыше
- не стоит молиться
- в едва только начатом деле:
- лишь там соучаствует Божья десница,
- где ты уже сам на пределе.
- Здесь я напьюсь; тут мой ночлег;
- и так мне сладок дух свободы,
- как будто, стряхивая снег,
- вошли мои былые годы.
- На старости я сызнова живу,
- блаженствуя во взлетах и падениях,
- но жалко, что уже не наяву,
- а в бурных и бесплотных сновидениях.
- Сегодня многие хотят
- беседовать со мной,
- они хвалой меня коптят,
- как окорок свиной.
- А все же я себе союзник
- и вечно буду таковым,
- поскольку сам себе соузник
- по всем распискам долговым.
- На старости я, не таясь,
- живу, как хочу и умею,
- и даже любовную связь
- я по переписке имею.
- Чувствуя страсть, устремляйся вперед
- с полной и жаркой душевной отдачей;
- верно заметил российский народ:
- даже вода не течет под лежачий.
- Жалеть, а не судить я дал зарок,
- жестока жизнь, как римский Колизей;
- и Сталина мне жаль: за краткий срок
- жену он потерял и всех друзей.
- Покрыто минувшее пылью и мглой,
- и, грустно чадя сигаретой,
- тоскует какашка, что в жизни былой
- была ресторанной котлетой.
- Забавно мне, что жизни кладь
- нам неизменно
- и тяжкий крест, и благодать
- одновременно.
- Опыт наш – отнюдь не крупность
- истин, мыслей и итогов,
- а всего лишь совокупность
- ран, ушибов и ожогов.
- Ругая жизнь за скоротечность,
- со мной живут в лохмотьях пестрых
- две девки – праздность и беспечность,
- моей души родные сестры.
- Окажется рощей цветущей
- ущелье меж адом и раем,
- но только в той жизни грядущей
- мы близких уже не узнаем.
- С высот палящего соблазна
- спадая в сон и пустоту,
- по эту сторону оргазма
- душа иная, чем по ту.
- Все муки творчества – обман,
- а пыл – навеян и вторичен,
- стихи диктует некто нам,
- поскольку сам – косноязычен.
- В России часто пью сейчас
- я с тем, кто крут и лих,
- но дай Господь в мой смертный час
- не видеть лица их.
- Еще мне внятен жизни шум,
- и штоф любезен вислобокий;
- пока поверхностен мой ум,
- еще старик я не глубокий.
- Хмельные от праведной страсти,
- крутые в решеньях кромешных,
- святые, дорвавшись до власти,
- намного опаснее грешных.
- Слава Богу, что я уже старый,
- и погасло былое пылание,
- и во мне переборы гитары
- вызывают лишь выпить желание.
- Вел себя придурком я везде,
- но за мной фортуна поспевала,
- вилами писал я на воде,
- и вода немедля застывала.
- На Страшный суд разборки ради
- эпоху выкликнув мою,
- Бог молча с нами рядом сядет
- на подсудимую скамью.
- Мне жалко, что Бог допускает
- нелепый в расчетах просчет,
- и жизнь из меня утекает
- быстрее, чем время течет.
- Что с изречения возьмешь,
- если в него всмотреться строже?
- Мысль изреченная есть ложь..
- Но значит, эта мысль – тоже.
- Увы, но время скоротечно,
- и кто распутство хаял грозно,
- потом одумался, конечно,
- однако было слишком поздно.
- Весь век себе твержу я:
- цыц и нишкни,
- сиди повсюду с края и молчи;
- духовность, обнаженная излишне,
- смешна, как недержание мочи.
- Наверно, так понур я оттого,
- что многого достиг в конце концов,
- не зная, что у счастья моего
- усталое и тусклое лицо.
- Вон те – ознобно вожделеют,
- а тех – терзает мира сложность;
- меня ласкают и лелеют
- мои никчемность и ничтожность.
- Для игры во все художества
- мой народ на свет родил
- много гениев и множество
- несусветных талмудил.
- Таким родился я, по счастью,
- и внукам гены передам —
- я однолюб: с единой страстью
- любил я всех попутных дам.
- Я старый, больной и неловкий,
- но знают гурманки слияния,
- что в нашей усталой сноровке
- еще до хера обаяния.
- Я не выйду в гордость нации
- и в кумиры на стене,
- но напишут диссертации
- сто болванов обо мне.
- О чем-то срочная забота
- нас вечно точит и печет,
- нас вечно точит и печет,
- а все, что есть, – уже не в счет.
- Любезен буду долго я народу,
- поскольку так нечаянно случилось,
- что я воспел российскую природу,
- которая в еврея насочилась.
- Я хоть и вырос на вершок,
- но не дорос до Льва Толстого,
- поскольку денежный мешок
- милее мне мешка пустого.
- Мы сразу правду обнаружим,
- едва лишь зорко поглядим:
- в семье мужик сегодня нужен,
- однако не необходим.
- Висит над нами всеми безотлучно
- небесная чувствительная сфера,
- и как только внизу благополучно,
- Бог тут же вызывает Люцифера.
- Обида, презрение, жалость,
- захваченность гиблой игрой…
- Для всех нас Россия осталась
- сияющей черной дырой.
- Не знаю, чья в тоске моей вина;
- в окне застыла плоская луна;
- и кажется, что правит мирозданием
- лицо, не замутненное сознанием.
- Бог задумал так, что без нажима
- движется поток идей и мнений:
- скука – и причина, и пружина
- всех на белом свете изменений.
- Любовных поз на самом деле
- гораздо меньше, чем иных,
- но благодарно в нашем теле
- спит память именно о них.
- Мне вдыхать легко и весело
- гнусных мыслей мерзкий чад,
- мне шедевры мракобесия
- тихо ангелы сочат.
- Увы, великодушная гуманность,
- которая над нами зыбко реет,
- похожа на небесную туманность,
- которая слезится, но не греет.
- Попал мой дух по мере роста
- под иудейское влияние,
- и я в субботу пью не просто,
- а совершаю возлияние.
- Унылый день тянулся длинно,
- пока не вылезла луна;
- зачем душе страдать безвинно,
- когда ей хочется вина?
- Хотя политики навряд
- имеют навык театральный,
- но все так сочно говорят,
- как будто секс творят оральный.
- Мне в жизни крупно пофартило
- найти свою нору и кочку,
- и я не трусь в толпе актива,
- а выживаю в одиночку.
- У Бога сладкой жизни не просил
- ни разу я, и первой из забот
- была всегда попытка в меру сил
- добавить перец-соль в любой компот.
- Владеющие очень непростой
- сноровкой в понимании округи,
- евреи даже вечной мерзлотой
- умеют торговать на жарком юге.
- Увы, стихи мои и проза,
- плоды раздумий и волнений —
- лишь некий вид и сорт навоза
- для духа новых поколений.
- Я всегда на сочувствия праздные
- отвечаю: мы судеб игралище,
- не влагайте персты в мои язвы,
- ибо язвы мои – не влагалище.
- Плетясь по трясине семейного долга
- и в каше варясь бытовой,
- жена у еврея болеет так долго,
- что стать успевает вдовой.
- Кошмарным сном я был разбужен,
- у бытия тряслась основа:
- жена готовила нам ужин,
- а в доме не было спиртного.
- Когда мне о престижной шепчут встрече
- с лицом, известным всюду и везде,
- то я досадно занят в этот вечер,
- хотя еще не знаю чем и где.
- Порою я впадаю в бедность,
- что вредно духу моему;
- Творец оплачивает вредность,
- но как – известно лишь Ему.
- Наше стадо поневоле
- (ибо яростно и молодо)
- так вытаптывает поле,
- что на нем умрет от голода.
- Пришла прекрасная пора
- явиться мудрости примером,
- и стало мыслей до хера,
- поскольку бросил мыслить хером.
- Таланту чтобы дать распространенность,
- Творец наш поступил, как искуситель,
- поэтому, чем выше одаренность,
- тем более еблив ее носитель.
- Я часто многих злю вокруг,
- живя меж них не в общем стиле;
- наверно, мне публичный пук
- намного легче бы простили.
- Глазея пристально и праздно,
- я очень странствовать люблю,
- но вижу мир ясней гораздо,
- когда я в комнате дремлю.
- По чувству, что долгом повязан,
- я понял, что я уже стар,
- и смерти я платой обязан
- за жизни непрошеный дар.
- Пора уже налить под разговор,
- селедку покромсавши на куски,
- а после грянет песню хриплый хор,
- и грусть моя удавится с тоски.
- Пишу я вздор и ахинею,
- херню и чушь ума отпетого,
- но что поделаешь – имею
- я удовольствие от этого.
- Меж земной двуногой живности
- всюду, где ни посмотри,
- нас еврейский ген активности
- в жопу колет изнутри.
- Дикая игра воображения
- попусту кипит порой во мне —
- бурная, как семяизвержение
- дряхлого отшельника во сне.
- Жить беззаботно и оплошно —
- как раз и значит жить роскошно.
- Я к потрясению основ
- причастен в качестве придурка:
- от безоглядно вольных слов
- с основ слетает штукатурка.
- Мне неинтересно, что случится
- в будущем туманном и молчащем;
- будущее светит и лучится
- тем, кому херово в настоящем.
- Когда текла игра без правил
- и липкий страх по ветру стлался,
- то уважать тогда заставил
- я сам себя – и жив остался.
- Я ценю по самой высшей категории
- философию народного нутра,
- но не стал бы относить к ветрам истории
- испускаемые обществом ветра.
- Трагедия пряма и неуклончива,
- однако, до поры таясь во мраке,
- она всегда невнятно и настойчиво
- являет нам какие-нибудь знаки.
- Я жизнь мою листаю с умилением
- и счастлив, как клинический дебил:
- весь век я то с азартом, то с томлением
- кого-нибудь и что-нибудь любил.
- Блаженны нищие ленивцы:
- они живут в самих себе,
- пока несчастные счастливцы
- елозят задом по судьбе.
- Вдоль организма дряхлость чуя,
- с разгулом я все так же дружен;
- жить осмотрительно хочу я,
- но я теперь и вижу хуже.
- Я к эпохе привернут, как маятник,
- в нас биение пульса единое;
- глупо, если поставят мне памятник:
- не люблю я дерьмо голубиное.
- Ты с ранних лет в карьерном раже
- спешил бежать из круга нашего;
- теперь ты сморщен, вял и важен —
- как жопа дряхлого фельдмаршала.
- По многим ездил я местам,
- и понял я не без печали:
- евреев любят только там,
- где их ни разу не встречали.
- В пустыне усталого духа,
- как в дремлющем жерле вулкана,
- все тихо, и немо, и глухо —
- до первых глотков из стакана.
- Уже виски спалила проседь,
- уже опасно пить без просыпа,
- но стоит резко это бросить,
- и сразу явится курносая.
- Любил я днем под шум трамвая
- залечь в каком-нибудь углу,
- дичок еврейский прививая
- к великорусскому стволу.
- Глаза мои видели,
- слышали уши,
- я чувствовал даже
- детали подробные:
- больные, гнилые,
- увечные души —
- гуляли, калеча
- себе не подобные.
- Жизни надвигающийся вечер
- я приму без горечи и слез;
- даже со своим народом встречу
- я почти спокойно перенес.
- Российские невзгоды и мытарства
- и прочие подробности неволи
- с годами превращаются в лекарство,
- врачующее нам любые боли.
- Был организм его злосчастно
- погублен собственной особой:
- глотал бедняга слишком часто
- слюну, отравленную злобой.
- Я под солнцем жизни жарюсь,
- я в чаду любви томлюсь,
- а когда совсем состарюсь —
- выну хер и заколюсь.
- Житейскую расхлебывая муть,
- так жалобно мы стонем и пыхтим,
- что Бог нас посылает отдохнуть
- быстрее, чем мы этого хотим.
- Затаись и не дыши,
- если в нервах зуд:
- это мысли из души
- к разуму ползут.
- Когда я крепко наберусь
- и пьяным занят разговором,
- в моей душе святая Русь
- горланит песни под забором.
- Кипит и булькает во мне
- идей и мыслей тьма,
- и часть из них еще в уме,
- а часть – сошла с ума.
- Столько стало хитрых технологий —
- множество чудес доступно им,
- только самый жалкий и убогий
- хер живой пока незаменим.
- Если на душе моей тревога,
- я ее умею понимать:
- это мировая синагога
- тайно призывает не дремать.
- Я знаю, зрителя смеша,
- что кратковременна потеха,
- и ощутит его душа
- в осадке горечь после смеха.
- По жизни я не зря гулял,
- и зло воспел я, и добро,
- Творец не зря употреблял
- меня как писчее перо.
- Мы вдосталь в жизни испытали
- и потрясений, и пинков,
- но я не про закалку стали,
- а про сохранность чугунков.
- Еще судьба не раз ударит,
- однако, тих и одинок,
- еще блаженствует и варит
- мой беззаветный чугунок.
- Давным-давно хочу сказать я
- ханжам и мнительным эстетам,
- что баба, падая в объятья,
- душой возносится при этом.
- Прекрасна в еврее
- лихая повадка
- с эпохой кишеть наравне,
- но страсть у еврея —
- устройство порядка
- в чужой для еврея стране.
- Прорехи жизни сам я штопал
- и не жалел ни сил, ни рук;
- судьба меня скрутила в штопор,
- и я с тех пор бутылке друг.
- Я слишком, ласточка, устал
- от нежной устной канители,
- я для ухаживанья стар —
- поговорим уже в постели.
- Хоть запоздало, но не поздно
- России дали оживеть,
- и все, что насмерть не замерзло,
- пошло цвести и плесневеть.
- Одно я в жизни знаю точно:
- что плоть растянется пластом,
- и сразу вслед начнется то, что
- Творец назначил на потом.
- Вечерняя тревога – как недуг:
- неясное предчувствие беды,
- какой-то полустрах-полуиспуг,
- минувшего ожившие следы.
- Создателя крутая гениальность
- заметнее всего из наблюдения,
- что жизни объективная реальность
- дается лишь путем грехопадения.
- Много высокой страсти
- варится в русском пиве,
- а на вершине власти —
- ебля слепых в крапиве.
- Создан был из почти ничего
- этот мир, где светло и печально,
- и в попытках улучшить его
- обреченность видна изначально.
- Я по жизни бреду наобум,
- потеряв любопытство к дороге;
- об осколки возвышенных дум
- больно ранятся чуткие ноги.
- В периоды удач и постижений,
- которые заметны и слышны,
- все случаи потерь и унижений
- становятся забавны и смешны.
- С людьми я вижусь редко и формально,
- судьба несет меня по тихим водам;
- какое это счастье – минимально
- общаться со своим родным народом!
- России теперь не до смеха,
- в ней жуткий прогноз подтверждается:
- чем больше евреев уехало,
- тем больше евреев рождается.
- Любовь завяла в час урочный,
- и ныне я смиренно рад,
- что мне остался беспорочный
- гастрономический разврат.
- Нам потому так хорошо,
- что, полный к жизни интереса,
- грядущий хам давно пришел
- и дарит нам дары прогресса.
- Всего лишь семь есть нот у гаммы,
- зато звучат не одинаково;
- вот точно так у юной дамы
- есть много разного и всякого.
- Я шамкаю, гундосю, шепелявлю,
- я шаркаю, стенаю и кряхчу,
- однако бытие упрямо славлю
- и жить еще отчаянно хочу.
- Политики раскат любой грозы
- умеют расписать легко и тонко,
- учитывая все, кроме слезы
- невинного случайного ребенка.
- Я часто угадать могу заранее,
- куда плывет беседа по течению;
- душевное взаимопонимание —
- прелюдия к телесному влечению.
- Разуму то холодно, то жарко
- всюду перед выбором естественным,
- где душеспасительно и ярко
- дьявольское выглядит божественным.
- Нам разный в жизни жребий роздан,
- отсюда – разная игра:
- я из вульгарной глины создан,
- а ты – из тонкого ребра.
- Сегодня думал я всю ночь,
- издав к утру догадки стон:
- Бог любит бедных, но помочь
- умножить ноль не может Он.
- Поскольку много дураков
- хотят читать мой бред,
- ни дня без глупости – таков
- мой жизненный обет.
- Жаль Бога мне: Святому Духу
- тоскливо жить без никого;
- завел бы Он себе старуху,
- но нету ребер у Него.
- Когда кому-то что-то лгу,
- таким азартом я палим,
- что сам угнаться не могу
- за изолжением моим.
- Творец живет не в отдалении,
- а близко видя наши лица;
- Он гибнет в каждом поколении
- и в каждом заново родится.
- На нас эпоха ставит опыты,
- меняя наше состояние,
- и наших душ пустые хлопоты —
- ее пустое достояние.
- Полностью раскрыты для подлога
- в поисках душевного оплота,
- мы себе легко находим бога
- в идолах высокого полета.
- При всей игре разнообразия
- фигур ее калейдоскопа,
- Россия все же не Евразия,
- она скорее Азиопа.
- Только полный дурак забывает,
- испуская похмельные вздохи,
- что вино из души вымывает
- ядовитые шлаки эпохи.
- От мерзости дня непогожего
- настолько в душе беспросветно,
- что хочется плюнуть в прохожего,
- но страшно, что плюнет ответно.
- Я много повидал за жизнь мою,
- к тому же любопытен я, как дети;
- чем больше я о людях узнаю,
- тем более мне страшно жить на свете.
- Все в этой жизни так заверчено,
- и так у Бога на учете,
- что кто глядел на мир доверчиво —
- удачно жил в конечном счете.
- На все глядит он опечаленно
- и склонен к мерзким обобщениям;
- бедняга был зачат нечаянно
- и со взаимным отвращением.
- Если хлынут, пришпоря коней,
- вновь монголы в чужое пространство,
- то, конечно, крещеный еврей
- легче всех перейдет в мусульманство.
- Я достиг уже сумерек вечера
- и доволен его скоротечностью,
- ибо старость моя обеспечена
- только шалой и утлой беспечностью.
- Себя из разных книг салатом
- сегодня тешил я не зря,
- и над лысеющим закатом
- взошла кудрявая заря.
- Льются ливни во тьме кромешной,
- а в журчании – звук рыдания:
- это с горечью безутешной
- плачет Бог над судьбой создания.
- К чему усилий окаянство?
- На что года мои потрачены?
- У Божьих смыслов есть пространство,
- его расширить мы назначены.
- К нам тянутся бабы сейчас
- уже не на шум и веселье,
- а слыша, как булькает в нас
- любви приворотное зелье.
- За то, что теплюсь легким смехом
- и духом чист, как пилигрим,
- у дам я пользуюсь успехом,
- любя воспользоваться им.
- Та прорва, бездонность, пучина,
- что ждет нас распахнутой пастью,
- и есть основная причина
- прожития жизни со страстью.
- В любом пиру под шум и гам
- ушедших помяни;
- они хотя незримы нам,
- но видят нас они.
- Есть у меня один изъян,
- и нет ему прощения:
- в часы, когда не сильно пьян,
- я трезв до отвращения.
- Мы с рожденья до могилы
- ощущаем жизни сладость,
- а источник нашей силы —
- это к бабам наша слабость.
- Твой разум изощрен, любезный друг,
- и к тонкой философии ты склонен,
- но дух твоих мыслительных потуг
- тяжел и очень мало благовонен.
- Листая календарь летящих будней,
- окрашивая быт и бытие,
- с годами все шумней и многолюдней
- глухое одиночество мое.
- Женился на красавице
- смиренный Божий раб,
- и сразу стало нравиться
- гораздо больше баб.
- Нелепо – жить в незрячей вере
- к понявшим все наверняка;
- Бог поощряет в равной мере
- и мудреца, и мудака.
- Друзья мои,
- кто первый среди нас?
- Я в лица ваши вглядываюсь грустно:
- уже недалеко урочный час,
- когда на чьем-то месте
- станет пусто.
- Когда растет раздора завязь,
- то, не храбрейший из мужчин,
- я ухожу в себя, спасаясь
- от выяснения причин.
- Взгляд ее,
- лениво-благосклонный,
- светится умом,
- хоть явно дура,
- возраст очень юный,
- непреклонный,
- и худая тучная фигура.
- Людей, обычно самых лучших,
- людей, огнем Творца прогретых,
- я находил меж лиц заблудших,
- погрязших, падших и отпетых.
- Боюсь бывать я на природе,
- ее вовек бы я не знал,
- там мысли в голову приходят,
- которых вовсе я не звал.
- Я б не думал о цели и смысле,
- только часто мое самочувствие
- слишком явно зависит от мысли,
- что мое не напрасно присутствие.
- Явил Господь жестокий произвол
- и сотни поколений огорчил,
- когда на свет еврея произвел
- и жить со всеми вместе поручил.
- Я к веку относился неспроста
- с живым, но отчужденным интересом:
- состарившись, душа моя чиста,
- как озеро, забытое прогрессом.
- Ничуть не больно и не стыдно
- за годы лени и гульбы:
- в конце судьбы прозрачно видно
- существование судьбы.
- Нас боль ушибов обязала
- являть смекалку и талант;
- где бабка надвое сказала,
- там есть и третий вариант.
- Потоки слов терзают ухо,
- как эскадрилья злобных мух;
- беда, что недоросли духа
- так обожают мыслить вслух.
- Со всеми гибнуть заодно —
- слегка вторичная отвага;
- но и не каждому дано
- блаженство личностного шага.
- Везде, где можно стать бойцом,
- везде, где бесятся народы,
- еврей с обрезанным концом
- идет в крестовые походы.
- Не по воле несчастного случая,
- а по времени – чаша выпита —
- нас постигла беда неминучая:
- лебедой поросло наше либидо.
- Весна – это любовный аромат
- и страсти необузданный разлив;
- мужчина в большинстве своем женат,
- поэтому поспешлив и пуглив.
- Нечто круто с возрастом увяло,
- словно исчерпался некий ген:
- очень любопытства стало мало
- и душа не просит перемен.
- Жизнь моя как ни била ключом,
- как шампанским ни пенилась в пятницу,
- а тоска непонятно о чем
- мне шершавую пела невнятицу.
- Споры о зерне в литературе —
- горы словоблудной чепухи,
- ибо из семян ума и дури
- равные восходят лопухи.
- Давно по миру льются стоны,
- что круче, жарче и бодрей
- еврей штурмует бастионы,
- когда в них есть другой еврей.
- Судьба не зря за годом год
- меня толчет в житейской ступке:
- у человека от невзгод
- и мысли выше, и поступки.
- Переживет наш мир беспечный
- любой кошмар как чепуху,
- пока огонь пылает вечный
- у человечества в паху.
- Подонки, мразь и забулдыги,
- мерзавцы, суки и скоты
- читали в детстве те же книги,
- что прочитали я и ты.
- До точки знает тот,
- идущий нам на смену,
- откуда что растет
- и что в какую цену.
- С тоской копаясь в тексте сраном,
- его судить самодержавен,
- я многим жалким графоманам
- бывал сиятельный Державин.
- Наш разум тесно связан с телом,
- и в том немало есть печали:
- про то, что раньше ночью делал,
- теперь я думаю ночами.
- В устоях жизни твердокамен,
- семью и дом любя взахлеб,
- мужик, хотя и моногамен,
- однако жуткий полиеб.
- Неволю ощущая, словно плен,
- я полностью растратил пыл удалый,
- и общества свободного я член
- теперь уже потрепанный и вялый.
- Недолго нас кошмар терзает,
- что оборвется бытие:
- с приходом смерти исчезает
- боль ожидания ее.
- Пришли ко мне, покой нарушив,
- раздумий тягостные муки:
- а вдруг по смерти наши души
- на небе мрут от смертной скуки?
- Мы в очень различной манере
- семейную носим узду:
- на нас можно ездить в той мере,
- в которой мы терпим езду.
- Вся планета сейчас нам видна:
- мы в гармонии неги и лени
- обсуждаем за рюмкой вина
- соль и суть мимолетных явлений.
- В зоопарке под вопли детей
- укрепилось мое убеждение,
- что мартышки глядят на людей,
- обсуждая свое вырождение.
- А то, что в среду я отверг,
- неся гневливую невнятицу,
- то с радостью приму в четверг,
- чтобы жалеть об этом в пятницу.
- На пороге вечной ночи,
- коротая вечер темный,
- что-то все еще бормочет
- бедный разум неуемный.
- Разумов парящих и рабочих
- нету ни святее, ни безбожней,
- наши дураки – глупее прочих,
- наши идиоты – безнадежней.
- Что я люблю? Курить, лежать,
- в туманных нежиться томлениях
- и вяло мыслями бежать
- во всех возможных направлениях.
- Блаженство алкогольного затмения
- неведомо жрецам ума и знания,
- мы пьем от колебаний и сомнения,
- от горестной тоски непонимания.
- Дается близость только с теми
- из городов и площадей,
- где бродят призраки и тени
- хранимых памятью людей.
- Бывают лампы в сотни ватт,
- но свет их резок и увечен,
- а кто слегка мудаковат,
- порой на редкость человечен.
- Не только от нервов и стужи
- болезни и хворости множатся:
- здоровье становится хуже,
- когда о здоровье тревожатся.
- Был некто когда-то и где-то,
- кто был уже мною тогда;
- слова то хулы, то привета
- я слышу в себе иногда.
- Не слишком я азартный был игрок,
- имея даже козыри в руках,
- ни разу я зато не пренебрег
- возможностью остаться в дураках.
- Сегодня исчез во мраке
- еще один, с кем не скучно;
- в отличие от собаки,
- я выл по нему беззвучно.
- Конечно, всем вокруг наверняка
- досадно, что еврей, пока живой,
- дорогу из любого тупика
- находит хитрожопой головой.
- Ворует власть, ворует челядь,
- вор любит вора укорять;
- в Россию можно смело верить,
- но ей опасно доверять.
- Чтобы душа была чиста,
- жить, не греша, совсем не глупо,
- но жизнь становится пуста,
- как детектив, где нету трупа.
- Хотя неволя миновала,
- однако мы – ее творение;
- стихия зла нам даровала
- высокомерное смирение.
- Тонко и точно продумана этика
- всякого крупного кровопролития:
- чистые руки – у теоретика,
- чистая совесть – у исполнителя.
- Не помню мест, не помню лиц,
- в тетради века промелькнувшего
- размылись тысячи страниц
- неповторимого минувшего.
- В силу душевной структуры,
- дышащей тихо, но внятно,
- лучшие в жизни халтуры
- делались мною бесплатно.
- Взывая к моему уму и духу,
- все встречные, галдя и гомоня,
- раскидывают мне свою чернуху,
- спасти меня надеясь от меня.
- Судить подробней не берусь,
- но стало мне теперь видней:
- евреи так поили Русь,
- что сами спились вместе с ней.
- Пусты потуги сторожей
- быть зорче, строже и внимательней:
- плоды запретные – свежей,
- сочней, полезней и питательней.
- Я рад, что вновь сижу с тобой,
- сейчас бутылку мы откроем,
- мы объявили пьянству бой,
- но надо выпить перед боем.
- Наступило время страха,
- сердце болью заморочено;
- а вчера лишь бодро трахал
- все, что слабо приколочено.
- Везде на красочных обложках
- и между них в кипящем шелесте
- стоят-идут на стройных ножках
- большие клумбы пышной прелести.
- Есть в ощущениях обман,
- и есть обида в том обмане:
- совсем не деньги жгут карман,
- а их отсутствие в кармане.
- Вновь меня знакомые сейчас
- будут наставлять, кормя котлетами;
- счастье, что Творец не слышит нас —
- мы б Его затрахали советами.
- В неправедных суждениях моих
- всегда есть оправдание моральное:
- так резво я выбалтываю их,
- что каждому найду диаметральное.
- Известно
- лишь немым небесным судьям,
- где финиш
- нашим песням соловьиным,
- и слепо
- ходит рок по нашим судьбам,
- как пес мой —
- по тропинкам муравьиным.
- Эпоха лжи, кошмаров и увечий
- издохла,
- захлебнувшись в наших стонах,
- божественные звуки русской речи
- слышны теперь
- во всех земных притонах.
- В доставшихся мне
- жизненных сражениях
- я бился, балагуря и шутя,
- а в мелочных
- житейских унижениях —
- беспомощен, как малое дитя.
- До славной мысли неслучайной
- добрел я вдруг дорогой плавной:
- у мужика без жизни тайной
- нет полноценной жизни явной.
- На высокие наши стремления,
- на душевные наши нюансы,
- на туманные духа томления —
- очень грубо влияют финансы.
- Стали бабы страшной силой,
- полон дела женский треп,
- а мужик – пустой и хилый,
- дармоед и дармоеб.
- Я был изумлен, обнаружив,
- насколько проста красота:
- по влаге – что туча, что лужа,
- но разнится их высота.
- Наш век в уме слегка попорчен
- и рубит воздух топором,
- а бой со злом давно закончен:
- зло победило, став добром.
- Я, друзья, лишь до срока простак
- и балдею от песни хмельной:
- после смерти зазнаюсь я так,
- что уже вам не выпить со мной.
- Я живу, незатейлив и кроток,
- никого и ни в чем не виня,
- а на свете все больше красоток,
- и все меньше на свете меня.
- Еще родить нехитрую идею
- могу после стакана или кружки,
- но мысли в голове уже редеют,
- как волос на макушке у старушки.
- Давно живя с людьми в соседстве,
- я ни за что их не сужу:
- причины многих крупных бедствий
- в себе самом я нахожу.
- Во что я верю, горький пьяница?
- А верю я, что время наше
- однажды тихо устаканится
- и станет каплей в Божьей чаше.
- Несчетны русские погосты
- с костями канувших людей —
- века чумы, холеры, оспы
- и несогласия идей.
- Повсюду, где гремит гроза борьбы
- и ливнями текут слова раздоров,
- евреи вырастают как грибы
- с обилием ярчайших мухоморов.
- Компотом духа и ума
- я русской кухне соприроден:
- Россия – лучшая тюрьма
- для тех, кто внутренне свободен.
- О нем не скажешь ничего —
- ни лести, ни хулы;
- ума палата у него,
- но засраны углы.
- В неполном зале – горький смех
- во мне журчит без осуждения:
- мне, словно шлюхе, жалко всех,
- кто не получит наслаждения.
- Со мной, хотя удаль иссякла,
- а розы по-прежнему свежи,
- еще приключается всякое,
- хотя уже реже и реже.
- Давно я заметил на практике,
- что мягкий – живителен стиль,
- а люди с металлом в характере
- быстрее уходят в утиль.
- В земной ума и духа суете
- у близких вызывали смех и слезы,
- но делали погоду только те,
- кто плюнул на советы и прогнозы.
- Зная, что глухая ждет нас бездна,
- и что путь мы не переиначим,
- и про это плакать бесполезно, —
- мы как раз поэтому и плачем.
- Опершись о незримую стену,
- как моряк на родном берегу,
- на любую заветную тему
- помолчать я с друзьями могу.
- Все, что было, —
- кануло и сплыло,
- есть еще
- в мехах моих вино;
- что же мне
- так вяло и уныло,
- пусто,
- равнодушно и темно?
- Повсюду смерть,
- но живы мы,
- я чувством света —
- тьме обязан,
- и даже если нет чумы,
- наш каждый пир
- с ней тесно связан.
- Идея, что мною владеет,
- ведет к пониманию важному:
- в года, когда небо скудеет,
- душа достается не каждому.
- Напористо, безудержно и страстно —
- повсюду, где живое колыхание, —
- в российское духовное пространство
- вплетается еврейское дыхание.
- Человек – существо такое,
- что страдает интимным жжением
- и в заветном живет покое
- с нарастающим раздражением.
- До поры, что востребую их,
- воплощая в достойных словах,
- много мыслей и шуток моих
- содержу я в чужих головах.
- Все дружно в России воздели глаза
- и в Божье поверили чудо,
- и пылко целует теперь образа
- повсюдный вчерашний Иуда.
- И хотя уже видна
- мне речушка Лета,
- голова моя полна
- мусора и света.
- Устав болеть от наших дел,
- порой лицо отводит Бог,
- и страшен жизненный удел
- живущих в этот темный срок.
- Среди любого поколения
- живя в обличии естественном,
- еврей – повсюдный червь сомнения
- в духовном яблоке общественном.
- Полистал я его откровения
- и подумал, захлопнув обложку,
- что в источник его вдохновения
- музы бросили дохлую кошку.
- Души мертвых терпят муки
- вновь и вновь, пока планета
- благодушно греет руки
- на пожарах наших гетто.
- Я щедро тешил плоть,
- но дух был верен чести;
- храни его, Господь,
- в сухом и теплом месте.
- Вчера ходил на пир к знакомым,
- их дом уютен, как кровать;
- но трудно долго почивать,
- когда не спится насекомым.
- Господь, услышав жалобы мои,
- подумал, как избыть мою беду,
- и стали петь о страсти соловьи
- в осеннем неприкаянном саду.
- Реальность – это то, где я живу;
- реальность – это личная окрестность;
- реальность – это все, что наяву;
- но есть еще совсем иная местность.
- Нам, конечно, уйти суждено,
- исчерпав этой жизни рутину,
- но, закончив земное кино,
- мы меняем лишь зал и картину.
- Иступился мой крючок
- и уже не точится;
- хоть и дряхлый старичок,
- а ебаться хочется.
- Чисто чувственно мной замечено,
- как незримо для наблюдения
- к нам является в сумрак вечера
- муза легкого поведения.
- Подвержен творческой тоске,
- Господь не чужд земного зелья,
- и наша жизнь на волоске
- висит в часы Его похмелья.
- Я вижу Россию не вчуже,
- и нет у меня удивления:
- разруха – в умах, а снаружи —
- всего лишь ее проявления.
- Злоба наша, в душах накопляясь,
- к небу воспаряет с ними вместе;
- небо, этой злобой воспаляясь,
- вяжет облака вражды и мести.
- Еще свой путь земной не завершив,
- российской душегубкой проворонен,
- по внешности сохранен я и жив,
- но внутренне – уже потусторонен.
- И жизнь моя не в тупике,
- и дух еще отзывчив к чувству,
- пока стакан держу в руке,
- а вилкой трогаю капусту.
- Не чувствую ни капли облегчения,
- осваивая новую реальность,
- где плотские порывы и влечения
- теряют остроту и актуальность.
- Земного прозябания режим
- толкает нас на поиск лучшей доли,
- и мы от благоденствия бежим
- не реже, чем от тягот и неволи.
- Вся наша склонность к оптимизму
- от неспособности представить,
- какого рода завтра клизму
- судьба решила нам поставить.
- Бог необузданно гневлив
- и сам себя сдержать не может,
- покуда ярости прилив
- чего-нибудь не уничтожит.
- Держусь я тем везде всегда,
- что никогда нигде
- я не даю себе труда
- усердствовать в труде.
- Из века в век и год от года
- смеясь над воплями старателей,
- бренчит российская свобода
- ключами сменных надзирателей.
- Я догадался очень рано
- себя от пакости беречь
- и не смотрю, когда с экрана
- двуликий анус держит речь.
- У писательского круга —
- вековечные привычки:
- все цитируют друг друга,
- не используя кавычки.
- Люблю ненужные предметы,
- любуюсь медью их и глиной,
- руками трогаю приметы
- того, что жизнь случилась длинной.
- Я чтенью предал жизнь мою,
- смакую тон, сюжет и фразу,
- а все, что жадно узнаю,
- я забывать умею сразу.
- Я жизнь мою прошел пешком,
- и был карман мой пуст,
- но метил я в пути стишком
- любой дорожный куст.
- Блажен, кто истов и суров,
- творя свою бурду,
- кто издает могучий рев
- на холостом ходу.
- Творец живет сейчас в обиде,
- угрюмо видя мир насквозь —
- и то, что вовсе не предвидел,
- и то, что напрочь не сбылось.
- Евреи всходят там,
- где их не сеяли,
- цветут и колосятся
- где не просят,
- растут из
- непосаженного семени
- и всюду
- безобразно плодоносят.
- Умелец мастерит лихую дрель
- и сверлит в мироздании дыру,
- а хлюпик дует в тонкую свирель
- и зябнет на космическом ветру.
- Сполна я осознал еще юнцом
- трагедию земного проживания
- с кошмарным и заведомым концом,
- со счастьем и тоской существования.
- Я завидую только тому,
- чей азарт не сильнее ума,
- и довольно того лишь ему,
- что судьба посылает сама.
- Сам в отшельнический скит
- заточился дух-молчальник;
- всюду бурно жизнь кипит,
- на плите кипит мой чайник.
- Весьма наш мир материален,
- но, вожжи духа отпустив,
- легко уловишь, как реален
- сокрытой мистики мотив.
- Когда по пьянке все двоится,
- опасно дальше наливать,
- и может лишняя девица
- легко проникнуть на кровать.
- Мир хотя загадок полон,
- есть ключи для всех дверей;
- если в ком сомненья, кто он,
- то, конечно, он еврей.
- Гражданским пышешь ты горением,
- а я – любуюсь на фиалки;
- облей, облей меня презрением
- и подожги от зажигалки.
- Созерцатель и свидетель,
- я по жизни зря кочую,
- я не славлю добродетель
- и пороки не бичую.
- Посторонен я настолько,
- что и чувствую иначе:
- видя зло – смеюсь я горько,
- а добру внимаю – плача.
- Я не был накопительства примером
- и думаю без жалости теперь,
- что стал уже давно миллионером
- по счету мной понесенных потерь.
- Как пастырь,
- наставляющий народ,
- как пастор,
- совершающий молебен,
- еврей, торгуя воздухом,
- не врет,
- а верит, что товар его целебен.
- Несложен мой актерский норов:
- ловя из зала волны смеха,
- я торжествую, как Суворов,
- когда он с Альп на жопе съехал.
- Виновен в этом или космос,
- или научный беспредел:
- несовращеннолетний возраст
- весьма у дев помолодел.
- Пока себя дотла не износил,
- на баб я с удовольствием гляжу;
- еще настолько свеж и полон сил,
- что внуков я на свет произвожу.
- Молчу, скрываюсь и таю,
- чтоб даже искрой откровения
- не вызвать пенную струю
- из брюк общественного мнения.
- Я к вам бы, милая, приник
- со страстью неумышленной,
- но вы, мне кажется, – родник
- воды весьма промышленной.
- С того слова мои печальны,
- а чувства миром недовольны,
- что мысли – редки и случайны,
- а рифмы – куцы и глагольны.
- Покуда есть литература,
- возможны в ней любые толки,
- придет восторженная дура
- и книгу пылко снимет с полки.
- Когда порой густеют в небе тучи,
- я думаю: клубитесь надо мной,
- бывали облака гораздо круче,
- но где они? А я – сижу в пивной.
- Нисколько от безделья я не маюсь,
- а ты натужно мечешься – зачем?
- Я – с радостью ничем не занимаюсь,
- ты – потно занимаешься ничем.
- Творец порой бывает так не прав,
- что сам же на себя глядит зловеще,
- и, чтоб утихомирить буйный нрав,
- придумывает что-нибудь похлеще.
- Нет часа угрюмей, чем утренний:
- душа озирается шало,
- и хаосы – внешний и внутренний
- коростами трутся шершаво.
- Когда мы спорим, наши головы
- весьма легки в тасовке фактов,
- поскольку сами факты – голые
- и для любых годятся актов.
- В местах любого бурного смятения,
- где ненависти нет конца и края,
- растут разнообразные растения,
- покоем наши души укоряя.
- Я чую в организме сговор тайный,
- решивший отпустить на небо душу,
- ремонт поскольку нужен капитальный,
- а я и косметического трушу.
- Все течет под еврейскую кровлю,
- обретая защиту и кров, —
- и свобода, политая кровью,
- и доходы российских воров.
- Дожрав до крошки, хрюкнув сыто
- и перейдя в режим лежания,
- свинья всегда бранит корыто
- за бездуховность содержания.
- Тоскливы русские пейзажи,
- их дух унынием повит,
- и на душе моей чем гаже,
- тем ей созвучней этот вид.
- Иссяк мой золота запас,
- понтуюсь я, бренча грошами,
- а ты все скачешь, мой Пегас,
- тряся ослиными ушами.
- Только самому себе, молчащему,
- я могу довериться как лекарю;
- если одинок по-настоящему,
- то и рассказать об этом некому.
- Те идеи, что в воздухе веяли
- и уже были явно готовые,
- осознались былыми евреями,
- наша участь – отыскивать новые.
- Где все сидят, ругая власть,
- а после спят от утомления,
- никак не может не упасть
- доход на тушу населения.
- Купаясь в мелкой луже новостей,
- ловлю внезапно слово, и тогда
- стихи мои похожи на детей
- случайностью зачатия плода.
- Мечтай, печальный человек,
- целебней нет от жизни средства,
- и прошлогодний веет снег
- над играми седого детства.
- Вся наука похожа на здание,
- под которым фундамент непрочен,
- ибо в истинность нашего знания
- это знание верит не очень.
- Возвышенные мифы год за годом
- становятся сильней печальной были;
- евреи стали избранным народом
- не ранее, чем все их невзлюбили.
- Однажды фуфло полюбило туфту
- с роскошной и пышной фигурой,
- фуфло повалило туфту на тахту
- и занялось пылкой халтурой.
- Под ветром жизни так остыли мы
- и надышались едким дымом,
- что постепенно опостылели
- самим себе, таким любимым.
- Мне стоит лишь застыть,
- сосредоточась,
- и, словно растворенные в крови,
- из памяти моей сочатся тотчас
- не доблести, а подлости мои.
- Присматриваясь чутко и сторожко,
- я думал, когда жил еще в России,
- что лучше воронок, чем неотложка,
- и вышло все, как если бы спросили.
- То с боями, то скинув шинель
- и обильно плодясь по дороге,
- человечество роет тоннель,
- не надеясь на выход в итоге.
- Дойдя до рубежа преображения,
- оставив дым последней сигареты,
- зеркального лишусь я отражения
- и весь переселюсь в свои портреты.
- Вся история – огромное собрание
- аргументов к несомненности идеи,
- что Творец прощает каждого заранее;
- это знали все великие злодеи.
- Аскетов боюсь я – стезя их
- лежит от моей далеко,
- а те, кто себя истязает,
- и ближних калечат легко.
- Зачем печалиться напрасно,
- словами горестно шурша?
- У толстых тоже очень часто
- бывает тонкая душа.
- Не видел я нигде в печати,
- но это знают все студенты:
- про непорочное зачатие
- миф сочинили импотенты.
- О чем-то грустном все молчали,
- но я не вник и не спросил,
- уже чужие знать печали
- нет у меня душевных сил.
- Думаю об этом без конца,
- наглый неотесанный ублюдок:
- если мы – подобие Творца,
- то у Бога должен быть желудок.
- Конечно, все на свете – суета
- под вечным абажуром небосвода,
- но мера человека – пустота
- окрестности после его ухода.
- Если все не пакостно, то мглисто,
- с детства наступает увядание,
- светлая пора у пессимиста —
- новых огорчений ожидание.
- В годы, что прослыли беззаботными
- (время только начало свой бег),
- ангелы потрахались с животными —
- вышел первобытный человек.
- Уже давно мы не атлеты,
- и плоть полнеет оголтело,
- теперь некрупные предметы
- я ловко прячу в складках тела.
- Держусь ничуть не победительно,
- весьма беспафосно звучу,
- меня при встрече снисходительно
- ублюдки треплют по плечу.
- Пусть меня заботы рвут на части,
- пусть я окружен гавном и суками,
- все же поразительное счастье —
- мучиться прижизненными муками.
- Когда мы кого-то ругаем
- и что-то за что-то клянем,
- мы желчный пузырь напрягаем,
- и камни заводятся в нем.
- Конечно, лучше жить
- раздельно с веком,
- не пачкаясь
- в нечестии и блуде,
- но чистым оставаться человеком
- мешают окружающие люди.
- Рассеялись былые притязания,
- и жизнь моя,
- желаньям в унисон,
- полна уже
- блаженством замерзания,
- когда внутри тепло
- и клонит в сон.
- Господь на нас
- не смотрит потому,
- что чувствует
- неловкость и смущение:
- Творец гордится замыслом,
- Ему
- видней, насколько плохо воплощение.
- Не по капризу Провидения
- мы на тоску осуждены,
- тоска у нас – от заблуждения,
- что мы для счастья рождены.
- В немыслимом количестве томов
- мусолится одна и та же шутка —
- что связано брожение умов
- с бурчанием народного желудка.
- Почти закончив путь земной,
- я жизнь мою обозреваю
- и сам себя подозреваю,
- что это было не со мной.
- Ты, душа, если сердце не врет,
- запросилась в родные края?
- Лишь бы только тебя наперед
- не поехала крыша моя.
- Свой дух я некогда очистил
- не лучезарной красотой,
- а осознаньем грязных истин
- и тесной встречей с мерзотой.
- Исчерпался остаток чернил,
- Богом некогда выданный мне;
- все, что мог, я уже сочинил;
- только дохлая муха на дне.
- Моя прижизненная аура
- перед утечкой из пространства
- в неделю похорон и траура
- пронижет воздух духом пьянства.
- Столько из былого мной надышано,
- что я часто думаю сейчас:
- прошлое прекрасно и возвышенно,
- потому что не было там нас.
- Комфорту и сытости вторя,
- от массы людской умножения
- из пены житейского моря
- течет аромат разложения.
- Всему учился между прочим,
- но знаю слов я курс обменный,
- и собеседник я не очень,
- но соболтатель я отменный.
- Бог нам подсыпал, дух варя,
- и зов безумных побуждений,
- и темный ужас дикаря,
- и крутость варварских суждений.
- Всюду меж евреями сердечно
- теплится идея прописная:
- нам Израиль – родина, конечно,
- только, слава Богу, запасная.
- Замедлился кошмарный маховик,
- которым был наш век
- разбит и скомкан;
- похоже, что закончен черновик
- того, что предстоит
- уже потомкам.
- Я не рассыпаюсь в заверениях
- и не возношу хвалу фальшиво:
- Бога я люблю в его творениях
- женского покроя и пошива.
- В России очень часто ощущение —
- вослед каким-то мыслям или фразам,
- что тесное с евреями общение
- ужасно объевреивает разум.
- Хотя везде пространство есть,
- но от себя нам не убресть.
- Люблю чужеземный ландшафт
- не в виде немой территории,
- а чтобы везде на ушах
- висела лапша из истории.
- Тактично, щепетильно, деликатно —
- беседуя, со сцены, за вином —
- твержу я, повторяясь многократно,
- о пагубности близости с гавном.
- Поскольку жутко тяжек путь земной
- и дышит ощущением сиротства —
- блаженны, кто общается со мной,
- испытывая радость превосходства.
- Как судьба ни длись благополучно,
- есть у всех последняя забота;
- я бы умереть хотел беззвучно:
- близких беспокоить неохота.
- Кто на суете сосредоточен
- в судорогах алчного радения,
- тех и посреди кромешной ночи
- денежные мучают видения.
- Ведь любой, от восторга дурея,
- сам упал бы в кольцо твоих рук —
- что ж ты жадно глядишь на еврея
- в стороне от веселых подруг?
- Угрюмо ощутив, насколько тленны,
- друзья мои укрылись по берлогам;
- да будут их года благословенны,
- насколько это можно с нашим Богом.
- Мы к ночи пьем с женой
- по тем причинам веским,
- что нету спешных дел,
- и поезд наш ушел,
- и заняты друзья,
- нам часто выпить не с кем,
- а главное —
- что нам так хорошо.
- Все время учит нас история,
- что получалось так и сяк,
- но где хотелось, там и стоило
- пускаться наперекосяк.
- Раздвоенность —
- печальная нормальность,
- и зыбкое держу я равновесие:
- умишко
- слепо тычется в реальность,
- а душу
- распирает мракобесие.
- Как раньше в юности
- влюбленность,
- так на закате невзначай
- нас осеняет просветленность
- и благодарная печаль.
- Здесь еврей и ты, и я —
- мы единая семья:
- от шабата до шабата
- брат наебывает брата.
- Нынче различаю даже масти я
- тех, кому душа моя – помеха:
- бес гордыни, дьявол любострастия,
- демоны свободы и успеха.
- Нет, мой умишко не глубок,
- во мне горит он тихой свечкой
- и незатейлив, как лубок,
- где на лугу – баран с овечкой.
- Благословенна будь, держава,
- что век жила с собой в борьбе,
- саму себя в дерьме держала,
- поя хвалу сама себе.
- Конечно, всюду ложь и фальшь,
- тоска, абсурд и бред,
- но к водке рубят сельдь на фарш,
- а к мясу – винегрет.
- Весь Божий мир, пока живой, —
- арена бойни мировой,
- поскольку что кому-то прибыльно,
- другому – тягостно и гибельно.
- Я слышу завывания кретина,
- я вижу, как гуляет сволота,
- однако и душа невозмутима,
- и к жизни не скудеет теплота.
- Разуверясь в иллюзии нежной,
- мы при первой малейшей
- возможности
- обзаводимся новой надеждой,
- столь же явной в ее безнадежности.
- Спать не зря охоч я очень:
- сонный бред люблю я с юности,
- разум наш под сенью ночи
- отдыхает от разумности.
- Всякий нес ко мне боль и занозы,
- кто судьбе проигрался в рулетку,
- и весьма крокодиловы слезы
- о мою осушались жилетку.
- Мой деловой, рациональный,
- с ухваткой, вскормленной веками,
- активный ген национальный
- остался в папе или в маме.
- Гуляка, пройдоха, мошенник,
- для адского пекла годясь, —
- подвижник, аскет и отшельник,
- в иную эпоху родясь.
- Замшелым душам стариков
- созвучны внешне их старушки:
- у всех по жизни гавнюков
- их жены – злобные гнилушки.
- От коллективных устремлений,
- где гул восторгов, гам и шум,
- я уклоняюсь из-за лени,
- что часто выглядит, как ум.
- Клокочет неистовый зал,
- и красные флаги алеют…
- Мне доктор однажды сказал:
- глисты перед гибелью злеют.
- Пока присесть могу к столу,
- ценю я каждое мгновение,
- и там, где я пишу хулу,
- внутри звучит благословение.
- Время тянется уныло,
- но меняться не устало:
- раньше все мерзее было,
- а теперь – мерзее стало.
- Проходят эпохи душения,
- но сколько и как ни трави,
- а творческий пыл разрушения
- играет в российской крови.
- Был я молод и где-то служил,
- а любовью – и бредил, и жил;
- даже глядя на гладь небосклона,
- я усматривал девичьи лона.
- Кто книжно, а кто по наитию,
- но с чувством неясного страха
- однажды приходишь к открытию
- сообщества духа и паха.
- Я остро ощущаю временами
- (проверить я пока еще не мог),
- что в жизни все случившееся с нами —
- всего лишь только опыт и пролог.
- Уходит черный век великий,
- и станет нем его гранит,
- и лишь язык, живой и дикий,
- кошмар и славу сохранит.
- Идеей тонкой и заветной
- богат мой разум проницательный:
- страсть не бывает безответной —
- ответ бывает отрицательный.
- Вокруг хотя полно материальности,
- но знают нынче все, кто не дурак:
- действительность
- загадочней реальности,
- а что на самом деле – полный мрак.
- Бурлит российский передел,
- кипят азарт и спесь,
- а кто сажал и кто сидел —
- уже не важно здесь.
- Сбываются – глазу не веришь —
- мечты древнеримских трудящихся:
- хотевшие хлеба и зрелищ
- едят у экранов светящихся.
- Мы уже судьбу не просим
- об удаче скоротечной,
- осенила душу осень
- духом праздности беспечной.
- Вой ветра, сеющий тревогу,
- напоминает лишь о том,
- что я покуда, слава Богу,
- ни духом слаб, ни животом.
- Предай меня, Боже, остуде,
- от пыла вещать охрани,
- достаточно мудрые люди
- уже наболтали херни.
- Не числю я склероз мой ранний
- досадной жизненной превратностью;
- моя башка без лишних знаний
- полна туманом и приятностью.
- Не травлю дисгармонией мрачной
- я симфонию льющихся дней:
- где семья получилась удачной,
- там жена дирижирует ей.
- Когда близка пора маразма,
- как говорил мудрец Эразм,
- любое бегство от соблазна
- есть больший грех,
- чем сам соблазн.
- Плачет баба потому,
- что увяло тело,
- а давала не тому,
- под кого хотела.
- Художнику дано благословлять —
- не более того, хоть и не менее,
- а если не художник он, а блядь,
- то блядство и его благословение.
- С разным повстречался я искусством
- в годы любованья мирозданием,
- лучшее на свете этом грустном
- создано тоской и состраданием.
- В одном история не врет
- и правы древние пророки:
- великим делают народ
- его глубинные пороки.
- Ты к небу воздеваешь пылко руки,
- я в жестах этих вижу лицемерие:
- за веру ты принять согласен муки,
- а я принять готов их – за неверие.
- Господь не будет нас карать,
- гораздо хуже наш удел:
- на небе станут нагло жрать
- нас те, кто нас по жизни ел.
- Бог печально тренькает на лире
- в горести недавнего прозрения:
- самая большая скверна в мире —
- подлые разумные творения.
- Я храню душевное спокойствие,
- ибо все, что больно,
- то нормально,
- а любое наше удовольствие —
- либо вредно, либо аморально.
- Жила-была на свете дева,
- и было дел у ней немало:
- что на себя она надела,
- потом везде она снимала.
- Тайным действием систем,
- скрытых под сознанием,
- жопа связана со всем
- Божьим мирозданием.
- Схожусь я медленно, с опаской,
- по горло полон горьким опытом,
- но вдруг дохнет на душу лаской,
- и снова все пропало пропадом.
- Когда мне почта утром рано
- приносит вирши графомана,
- бываю рад я, как раввины —
- от ветра с запахом свинины.
- Вульгарен, груб и необуздан,
- я в рай никак не попаду,
- зато легко я буду узнан
- во дни амнистии в аду.
- Людей давно уже делю —
- по слову, тону, жесту, взгляду —
- на тех, кому я сам налью,
- и тех, с кем рядом пить не сяду.
- У внуков с их иными вкусами
- я не останусь без призора:
- меня отыщут в куче мусора
- и переложат в кучу сора.
- Я живу в тишине и покое,
- стал отшельник, монах и бирюк,
- но на улицах вижу такое,
- что душа моя рвется из брюк.
- Первые на свете совратители,
- понял я, по памяти скользя,
- были, с несомненностью, родители:
- я узнал от них, чего нельзя.
- Покуда наши чувства не остыли,
- я чувствую живое обожание
- к тому, что содержимое бутыли
- меняет наших мыслей содержание.
- Ум – помеха для нежной души,
- он ее и сильней, и умней,
- но душа если выпить решит,
- ум немедля потворствует ей.
- Я от века отжил только треть,
- когда понял: бояться – опасно,
- страху надо в глаза посмотреть,
- и становится просто и ясно.
- В натурах подлинно способных
- играет тонкий и живой
- талант упрямо, как подсолнух,
- вертеть за солнцем головой.
- Мир совершенствуется так —
- не по годам, а по неделям, —
- что мелкотравчатый бардак
- большим становится борделем.
- Хотя под раскаты витийства
- убийц человечество судит,
- но жить на земле без убийства
- не может, не хочет, не будет.
- Естественно и точно по годам
- стал ветошью
- мой рыцарский доспех,
- поскольку у весьма прекрасных дам
- терпел он сокрушительный успех.
- Я подбил бы насильнику глаз,
- а уж нос я расквасил бы точно,
- очень жалко, что трахают нас
- анонимно, безлико, заочно.
- В чистом разуме скрыта отрава,
- целой жизни мешая тайком:
- мысля трезво, реально и здраво,
- ты немедля слывешь мудаком.
- Поскольку есть мужчины и юнцы,
- просящие готовые ответы,
- постольку возникают мудрецы,
- родящие полезные советы.
- Свобода неотрывна от сомнения
- и кажется обманом неискусным,
- дух горечи
- и дух недоумения
- витают над ее рассветом тусклым.
- Идея моя не научна,
- но мне помогала всегда:
- прекрасное – все, что не скучно,
- и даже крутая беда.
- То ясно чувствуешь душой,
- то говорит об этом тело:
- век был достаточно большой,
- и все слегка осточертело.
- В лени всякого есть понемногу,
- а в решимости жить поперек —
- и бросание вызова Богу,
- что когда-то на труд нас обрек.
- Чуя в человечестве опасность,
- думая о судьбах мироздания,
- в истину вложил Господь напрасность
- поисков ее и опознания.
- Посреди миропорядка
- есть везде, где я живу,
- и моя пустая грядка,
- я сажаю трын-траву.
- Так же будут кишеть муравьи,
- а планеты – нестись по орбитам;
- размышленья о смерти мои —
- только мысли о всем недопитом.
- Борьба – не душевный каприз,
- не прихоть пустого влечения:
- плывут по течению – вниз,
- а вверх – это против течения.
- Конечно, я придурком был тогда,
- поскольку был упрям я и строптив,
- а умный в те кромешные года
- носил на языке презерватив.
- На все подряд со страстью нежной,
- как воробьи к любому крошеву,
- слетались мы, томясь надеждой
- прильнуть к чему-нибудь хорошему.
- В беде, где все пошло насмарку,
- вразлом и наперекосяк,
- велик душой, кто рад подарку,
- что жив, на воле и босяк.
- Готовлюсь к уходу туда,
- где быть надлежит человеку,
- и время плеснет, как вода
- над камешком, канувшим в реку.
- Я не люблю живые тени:
- меня страшит их дух высокий;
- дружу я близко только с теми,
- кого поят земные соки.
- Я музу часто вижу здесь
- во время умственного пира,
- она собой являет смесь
- из нимфы, бляди и вампира.
- Осадком памяти сухим
- уже на склоне и пределе
- мы видим прошлое таким,
- каким его прожить хотели.
- Разгул наук сейчас таков,
- что зуд ученого азарта
- вот-вот наладит мужиков
- рожать детей Восьмого марта.
- Конечно, слезы, боль и грех
- все время видеть тяжело Ему,
- но Бог нас любит равно всех
- и просто каждого по-своему.
- Лишь на смертном одре
- я посмею сказать,
- что печально
- во всем этом деле:
- если б наши старухи
- любили вязать,
- мы бы дольше
- в пивных посидели.
- Что нес я ахинею, но не бред,
- поймут, когда уже я замолчу,
- и жалко мне порой, что Бога нет,
- я столько рассказать Ему хочу!
- Любые наши умозрения
- венчает вывод горемычный,
- что здесь нас точит
- червь сомнения,
- а после смерти —
- червь обычный.
- Величественна и проста
- в делах житейских роль Господня:
- никто, как Он, отверз уста
- у тех, кто выпить звал сегодня.
- Старение – тяжкое бедствие,
- к закату умнеют мужчины,
- но пакостно мне это следствие
- от пакостной этой причины.
- Меня пересолив и переперчив,
- Господь уравновесил это так,
- что стал я неразборчиво доверчив
- и каждого жалею, как мудак.
- Я изо всех душевных сил
- ценю творения культуры,
- хотя по пьянке оросил
- немало уличной скульптуры.
- Я дивлюсь устройству мира:
- ведь ни разу воробей,
- хоть и наглый и проныра,
- а не трахал голубей.
- Я времени себе не выбирал,
- оно других не лучше и не хуже,
- но те, кто мог бы вырасти в коралл,
- комками пролежали в мелкой луже.
- Я думаю – украдкой и тайком, —
- насколько легче жить на склоне лет,
- и спать как хорошо со стариком:
- и вроде бы он есть, и вроде нет.
- Забыть об одиночестве попытка,
- любовь разнообразием богата:
- у молодости – радости избытка,
- у старости – роскошество заката.
- За глину, что вместе месили,
- за долю в убогом куске
- подвержен еврей из России
- тяжелой славянской тоске.
- Хоть живу я благоденно и чинно,
- а в затмениях души знаю толк;
- настоящая тоска – беспричинна,
- от нее так на луну воет волк.
- Мы стали снисходительно терпеть
- излишества чужого поведения:
- нет сил уже ни злиться, ни кипеть,
- и наша доброта – от оскудения.
- Когда я сам себе перечу,
- двоюсь настолько, что пугаюсь:
- я то бегу себе навстречу,
- то разминусь и разбегаюсь.
- Я недвижен в уюте домашнем,
- как бы время ни мчалось в окне;
- я сегодня остался вчерашним,
- это завтра оценят во мне.
- Угрюмо замыкаюсь я, когда
- напившаяся нелюдь и ублюдки
- мне дружбу предлагают навсегда
- и души облегчают, как желудки.
- Время дикое, странное, смутное
- над Россией – ни ночь, ни заря,
- то ли что-то родит она путное,
- то ли снова найдет упыря.
- Невольно ум зайдет за разум,
- такого мир не видел сроду:
- огромный лагерь весь и сразу
- внезапно вышел на свободу.
- Давно уже в себя я погружен,
- и в этой благодатной пустоте
- я слишком сам собою окружен,
- чтоб думать о толкучей суете.
- С восторгом я житейский ем кулич,
- но вдосталь мне мешает насладиться
- висящая над нами, словно бич,
- паскудная обязанность трудиться.
- Зевая от позывов омерзения,
- читаю чьи-то творческие корчи,
- где всюду по извивам умозрения
- витает аромат неясной порчи.
- Мы зорче и мягче, старея
- в осенних любовных объятьях,
- глаза наши видят острее,
- когда нам пора закрывать их.
- Сегодня – время скепсиса. Потом
- (неверие не в силах долго длиться)
- появится какой-нибудь фантом
- и снова озарит умы и лица.
- Куражится в мозгу моем вино
- в извилинах обоих полушарий;
- здоровье для того нам и дано,
- чтоб мы его со вкусом разрушали.
- В его лице – такая скверна,
- глаз отвести я не могу
- и думаю: Кащей, наверно,
- тайком любил Бабу-ягу.
- Могу всегда сказать я честно,
- что безусловный патриот:
- я всюду думаю про место,
- откуда вышел мой народ.
- Благоволение небес
- нам если светит на пути,
- то совращает нас не бес,
- а чистый ангел во плоти.
- От нежных песен дев кудлатых
- во мне бурлит, как тонкий яд,
- мечта пернатых и женатых —
- лететь куда глаза глядят.
- Не те, кого не замечаем,
- а те, с кем соли съели пуд
- и в ком давно души не чаем,
- нас неожиданно ебут.
- Люблю вечернее томление,
- сижу, застыв, как истукан,
- а вялых мыслей шевеление
- родит бутылку и стакан.
- Всегда сулит улов и фарт
- надежда – врунья и беглянка,
- а дальше губит нас азарт
- или случайная подлянка.
- Что стал я ветхий старичок,
- меня не гложет грусть,
- хотя снаружи я сморчок,
- внутри – соленый груздь.
- Душа полна пренебрежения
- к боязни сгинуть и пропасть,
- напрасны все остережения,
- когда уму диктует страсть.
- Не ведает ни берега, ни дна
- слияние судьбы и линий личных,
- наружная живется жизнь одна,
- а внутренние – несколько различных.
- Мы когда судьбе своей перечим,
- то из пустоты издалека
- дружески ложится нам на плечи
- легкая незримая рука.
- Чтобы избегнуть липких нитей
- хлопот и тягот вероятных,
- я сторонюсь любых событий,
- душе и разуму невнятных.
- Конечно, это горестно и грустно,
- однако это факты говорят:
- евреи правят миром так искусно,
- что сами себе пакости творят.
- Характер мира – символический,
- но как мы смыслы ни толкуй,
- а символ истинно фаллический
- и безусловный – только хуй.
- Бог учел в живой природе
- даже духа дуновение:
- если деньги на исходе,
- то приходит вдохновение.
- Земное бытие мое густое —
- не лишнее в цепи людской звено,
- я сеял бесполезное, пустое,
- никчемное, но все-таки зерно.
- Сижу я с гостями и тихо зверею,
- лицо – карнавал восхищения:
- за что пожилому больному еврею
- такое богатство общения?
- Есть между сном и пробуждением
- души и разума игра,
- где ощущаешь с наслаждением,
- что гаснуть вовсе не пора.
- Век ушел. В огне его и блуде
- яркая особенность была:
- всюду вышли маленькие люди
- на большие мокрые дела.
- Я друг зеленых насаждений
- с тех лет, когда был полон сил
- и много дивных услаждений
- в тени их зарослей вкусил.
- Уже давно стихов моих
- течет расплавленный металл,
- не сможет мир забыть о них,
- поскольку мир их не читал.
- Не зря читал я книги,
- дух мой рос,
- дает сейчас мой разум безразмерный
- на самый заковыристый вопрос —
- ответ молниеносный и неверный.
- Я с незапамятной поры
- душой усвоил весть благую,
- что смерть – не выход из игры,
- а переход в игру другую.
- Давно уже явилось невзначай
- ко мне одно высокое наитие:
- чем гуще мы завариваем чай,
- тем лучшее выходит чаепитие.
- Еврейский дух – слегка юродивый,
- и зря еврей умом гордится,
- повсюду слепо числя родиной
- чужую землю, где родится.
- Как долго гнил ты,
- бедный фрукт,
- и внешне тухлый, и с изнанки,
- ты не мерзавец, ты – продукт
- российской черной лихоманки.
- Выбрав одинокую свободу,
- к людям я с общеньем не вяжусь,
- ибо я примкну еще к народу
- и в земле с ним рядом належусь.
- Совершенно обычных детей
- мы с женой, слава Богу, родители;
- пролагателей новых путей
- пусть рожают и терпят любители.
- Хотя стихи – не то, что проза,
- в них дух единого призвания,
- и зря у кала и навоза
- такие разные названия.
- В обед я рюмку водки
- пью под суп
- и к ночи – до бровей уже налит,
- а те, кто на меня имеет зуб,
- гадают, почему он так болит.
- Все помыслы, мечты и упования
- становятся живей от выливания.
- Дух надежды людям так угоден,
- что на свете нету постояннее
- мифа, что по смерти мы уходим
- в некое иное состояние.
- На некоторой стадии подпития
- все видится ясней, и потому
- становятся понятными события,
- загадочные трезвому уму.
- Густеет, оседая, мыслей соль,
- покуда мы свой камень
- в гору катим:
- бесплатна в этой жизни —
- только боль,
- за радости мы позже круто платим.
- Обманываться – глупо и не надо,
- ведь истинный пастух от нас сокрыт,
- а рвутся все козлы возглавить стадо —
- чтоб есть из лакированных корыт.
- Финал кино: стоит кольцом
- десяток близких над мужчиной,
- а я меж них лежу с лицом,
- чуть опечаленным кончиной.
- Жизнь моя ушла на ловлю слова,
- службу совратительному змею;
- бросил бы я это, но другого
- делать ничего я не умею.
- Сотрись, не подводи меня, гримаса,
- пора уже привыкнуть,
- что ровесники,
- которые ни рыба и ни мясо,
- известны как орлы и буревестники.
- Моя шальная голова
- не переносит воздержания
- и любит низкие слова
- за высоту их содержания.
- Я злюсь, когда с собой я ссорюсь,
- переча собственной натуре,
- а злит меня зануда-совесть:
- никак не спится этой дуре.
- Политики весьма, конечно, разны,
- и разные блины они пекут,
- но пахнут одинаково миазмы,
- которые из кухонь их текут.
- Уже для этой жизни староват
- я стал, хотя умишко —
- в полной целости;
- все время перед кем-то виноват
- оказываюсь я по мягкотелости.
- В российской оперетте
- исторической
- теперь уже боюсь я не солистов,
- а слипшихся слюной
- патриотической
- хористов и проснувшихся статистов.
- Возможно, мыслю я убого,
- но я уверен, как и прежде:
- плоть обнаженная – намного
- духовней, нежели в одежде.
- Девицы с мечтами бредовыми,
- которым в замужестве пресно,
- душевно становятся вдовами
- гораздо скорей, чем телесно.
- Печально мне, что нет лечения
- от угасания влечения.
- Конечно, Ты меня, Господь,
- простишь
- за то, что не молился, а читал,
- к тому же свято чтил я
- Твой престиж:
- в субботу – алкоголь предпочитал.
- Весь век меня то Бог, то дьявол
- толкали в новую игру,
- на нарах я баланду хавал,
- а на банкетах ел икру.
- Я написать хочу об этом,
- но стал я путаться с годами:
- не то я крыл туза валетом,
- не то совал десятку даме.
- Плывут неясной чередой
- туманы дня, туманы ночи…
- Когда-то был я молодой,
- за что-то баб любил я очень.
- Где б теперь ни жили,
- с нами навсегда
- многовековая русская беда.
- Век мой суетен, шумен, жесток,
- и храню в нем безмолвие я;
- чтоб реветь – я не горный поток,
- чтоб журчать – я ничья не струя.
- Подумав, я бываю поражен,
- какие фраера мы и пижоны:
- ведь как бы мы любили наших жен,
- когда б они чужие были жены!
- Везде, где пьют из общей чаши,
- где песни звук и звон бокалов,
- на всяком пире жизни нашей
- вокруг полным-полно шакалов.
- Да, мечта не могла
- быть не мутная,
- но не думалось даже украдкой,
- что свобода – шалава беспутная
- с уголовно крученой повадкой.
- Скудеет жизни вещество,
- и явно стоит описания,
- как возрастает мастерство
- по мере телоугасания.
- Господь безжалостно свиреп,
- но стихотворцам, если нищи,
- дает перо, вино и хлеб,
- а ближе к ночи – девок ищет.
- Еще едва-едва вошел в кураж,
- пора уже отсюда убывать,
- а чувство – что несу большой багаж,
- который не успел распаковать.
- Очень я игривый был щенок,
- но, дожив до старческих седин,
- менее всего я одинок
- именно в часы, когда один.
- Везде, где нет запоров у дверей
- и каждый для любого – брат и друг,
- еврей готов забыть, что он еврей,
- однако это помнят все вокруг.
- Всецело доверясь остатку
- духовной моей вермишели,
- не раз попадал я в десятку
- невинной соседней мишени.
- Я не пророк, не жрец, не воин,
- однако есть во мне харизма,
- и за беспечность я достоин
- апостольства от похуизма.
- Купаю уши
- в мифах и парашах,
- никак и никому не возражая;
- еще среди живых немало наших,
- но музыка вокруг – уже чужая.
- Как только жить нам надоест,
- и Бог не против,
- Он ускоряет нам разъезд
- души и плоти.
- Любой повсюду и всегда
- чтоб не распался коллектив,
- на вольный дух нужна узда,
- на вольный ум – презерватив.
- Я мир осязал без перчаток
- при свете, во тьме и на дне,
- и крыльев моих отпечаток
- не раз я оставил в гавне.
- У жизни множество утех
- есть за любыми поворотами,
- и не прощает Бог лишь тех,
- кто пренебрег Его щедротами.
- Старик не просто жить устал,
- но более того:
- ему воздвигли пьедестал —
- он ебнулся с него.
- Заметил я порок врожденный
- у многих творческих людей:
- кипит их разум поврежденный
- от явно свихнутых идей.
- Всего на свете мне таинственней,
- что наши вывихи ума
- порой бывают ближе к истине,
- чем эта истина сама.
- Прогнозы тем лишь интересны,
- что вместо них текут сюрпризы,
- ведь даже Богу не известны
- Его грядущие капризы.
- Я принес из синагоги
- вечной мудрости слова:
- если на ночь вымыть ноги,
- утром чище голова.
- Сопровождает запах пиршества
- мои по жизни прегрешения,
- я слабый тип: люблю излишества
- намного больше, чем лишения.
- Ешьте много, ешьте мало,
- но являйте гуманизм
- и не суйте что попало
- в безответный организм.
- Нахожусь я в немом изумлении,
- осознав, как убого живу,
- ибо только в одном направлении
- я по жизни все время плыву.
- Бог часто ищет утешения,
- вращая глобус мироздания
- и в душах пафос разрушения
- сменяя бредом созидания.
- Я знавал не одно приключение,
- но они мне не дали того,
- что несло и несет заключение
- в одиночке себя самого.
- Нет, я пока не знаю – чей,
- но принимаю как подарок,
- что между пламенных свечей
- еще чадит и мой огарок.
- Давно уж качусь я со склона,
- а глажу – наивней мальчишки —
- тугое и нежное лоно
- любой подвернувшейся книжки.
- Писал, играл, кутил,
- моя и жизни связь
- калилась на огне
- и мочена в вине,
- но вдруг я ощутил,
- угрюмо удивясь,
- что колокол во мне
- звонит уже по мне.
- По-прежнему живя легко и праздно,
- я начал ощущать острей гораздо,
- что время, приближаясь к вечной ночи,
- становится прозрачней и короче.
- Время – лучший лекарь,
- это верно,
- время при любой беде поможет,
- только исцеляет очень скверно:
- мы чуть позже
- гибнем от него же.
- На время и Бога в обиде,
- я думаю часто под вечер,
- что те, кого хочется видеть,
- не здесь уже ждут нашей встречи.
- Все то же и за тридевять земель:
- кишение по мелочной заботе,
- хмельные пересуды пустомель,
- блудливое почтение к работе.
- У Бога (как мы ни зови
- бесплотный образ без одежды)
- есть вера в нас, но нет любви,
- а потому и нет надежды.
- Успеха и славы венок
- тяжелой печалью прострочен:
- и раньше ты был одинок,
- теперь ты еще одиноче.
- Развил я важное умение,
- судьбе сулящее удачу:
- я о себе имею мнение,
- но от себя его я прячу.
- Покоем обманчиво вея,
- предательски время течет,
- привычка нас держит сильнее,
- чем держат любовь и расчет.
- Ветрами времени хранимо,
- вплетаясь в каждое дыхание,
- течет по воздуху незримо
- моей души благоухание.
- Весьма, конечно, старость ощутима,
- но ценным я рецептом обеспечен:
- изношенной душе необходима
- поливка алкоголем каждый вечер.
- Былое – мелкие цветочки
- на фоне будущей поры,
- куда мы все в огромной бочке
- бесшумно катимся с горы.
- Кипят амбиции, апломбы,
- пекутся пакты и процессы,
- и тихо-тихо всюду бомбы
- лежат, как спящие принцессы.
- В соседстве с лихим окаянством
- отрадно остаться изгоем,
- то сном наслаждаясь, то пьянством,
- то книжным беспутным запоем.
- Как зоопарковый медведь,
- растленный негою дремотной,
- уже не в силах я взреветь
- с отвагой ярости животной.
- Пока течет и длится срок,
- меняя краски увядания,
- мой незначительный мирок
- мне интересней мироздания.
- Печалью душу веселя,
- в журналах той эпохи нищей
- люблю хлебнуть я киселя,
- который был высокой пищей.
- Не знаю, что в небесных высях
- и что в заоблачных полях,
- а тут – запутался я в мыслях,
- как раньше путался в соплях.
- Раскрылись выходы и входы,
- но волю выдали снаружи,
- и равнодушие свободы
- нам тяжелее лютой стужи.
- Входя на сцену из кулис,
- горя огнем актерской страсти,
- смотрю на зал я сверху вниз,
- хотя в его я полной власти.
- Повсюду, где случалось поселиться —
- а были очень разные места, —
- встречал я одинаковые лица,
- их явно Бог лепил, когда устал.
- Давно уже я понял непреложно
- устройство созидательного рвения:
- безденежье (когда не безнадежно) —
- могучая пружина вдохновения.
- При сильно лихой непогоде
- тревожится дух мой еврейский,
- в его генетическом коде
- ковчег возникает библейский.
- Езжу я по свету
- чаще, дальше,
- все мои скитания случайны,
- только мне нигде уже,
- как раньше,
- голову не кружит запах тайны.
- Источник ранней смерти крайне прост:
- мы нервы треплем —
- ради, чтобы, для —
- и скрытые недуги в бурный рост
- пускаются, корнями шевеля.
- В России всегда
- в разговоре сквозит
- идея (хвалебно, по делу),
- что русский еврей —
- не простой паразит,
- а нужный хозяйскому телу.
- Вся интимная плеяда
- испарилась из меня —
- нету соли, нету яда, нету скрытого огня.
- Только что вставая с четверенек,
- мы уже кусаем удила,
- многие готовы ради денег
- делать даже добрые дела.
- Опыт не улучшил никого;
- те, кого улучшил, – врут безбожно;
- опыт – это знание того,
- что уже исправить невозможно.
- Про подлинно серьезные утраты
- жалеть имеют право лишь кастраты.
- Хоть лопни, ямба от хорея
- не в силах был я отличить,
- хотя отменно знал еврея,
- который брался научить.
- Не зря из мужиков сочится стон
- и жалобы, что жребий их жесток:
- застенчивый досвадебный бутон
- в махровый распускается цветок.
- Романтик лепит ярлыки,
- потом воюет с ярлыками,
- а рядом режут балыки
- или сидят за шашлыками.
- Как метры составляют расстояние,
- как весом измеряется капуста,
- духовность – это просто состояние,
- в котором одиночество не пусто.
- Ища свой мир в себе, а не вовне,
- чуть менее полощешься в гавне.
- Повсюду мысли покупные,
- наживы хищные ростки,
- и травят газы выхлопные
- душ неокрепших лепестки.
- Давно про эту знал беду
- мой дух молчащий:
- весна бывает раз в году,
- а осень – чаще.
- Не раз наблюдал я,
- как быстро девица,
- когда уже нету одежды на ней,
- от Божьего ока спеша заслониться,
- свою наготу прикрывает моей.
- Когда от тепла диктатуры
- эпоха кишит саранчой,
- бумажные стены культуры
- горят или пахнут мочой.
- Что многое я испытал —
- лишь духу опора надежная,
- накопленный мной капитал —
- валюта нигде не платежная.
- Обуглясь от духовного горения,
- пылая упоительным огнем,
- я утром написал стихотворение,
- которое отнес в помойку днем.
- Из рук вон хороши мои дела,
- шуршащие мыслительной текучкой,
- судьба меня до ручки довела,
- и до сих пор пишу я этой ручкой.
- Все стало фруктовей,
- хмельней и колбасней,
- но странно растеряны мы:
- пустыня свободы —
- страшней и опасней
- уютного быта тюрьмы.
- Сумеет, надеюсь,
- однажды планета
- понять по российской гульбе,
- что тьма —
- не простое отсутствие света,
- а нечто само по себе.
- Мне в уши
- отовсюду льется речь,
- но в этой размазне
- быстротекущей
- о жизни понимание извлечь
- возможно из кофейной
- только гущи.
- Тек безжалостно и быстро
- дней и лет негромкий шорох;
- на хера мне Божья искра,
- если высыпался порох?
- Пьет соки из наследственных корней
- духовная таинственная сфера,
- и как бы хорошо ни жил еврей,
- томят еврея гены Агасфера.
- Дорога к совершенству не легка,
- и нету просветления предела;
- пойду-ка я приму еще пивка,
- оно уже вполне захолодело.
- От каждой потери и каждой отдачи
- наш дух не богаче, но дышит иначе.
- Едва лишь былое копни —
- и мертвые птицы свистят,
- и дряхлые мшистые пни
- зеленой листвой шелестят.
- Литавры и лавры успеха
- меня не подружат с мошенником,
- и чувство единого цеха
- скорей разделю я с отшельником.
- Цветы на полянах обильней растут
- и сохнут от горя враги,
- когда мы играем совместный этюд
- в четыре руки и ноги.
- Болванам
- легче жить с болванками:
- прочней семейный узелок,
- когда невидимыми планками
- означен общий потолок.
- История мало-помалу
- устала плести свою сказку,
- и клонится время к финалу,
- и Бог сочиняет развязку.
- Очень тяжело – осознавать,
- что любому яростному тексту
- свойственна способность остывать,
- делаясь пустым пятном по месту.
- От мира напрочь отвернувшись,
- я ночи снов живу не в нем,
- а утром радуюсь, проснувшись,
- что снова спать залягу днем.
- Не слабей наркотической дури
- помрачает любовь наши души,
- поздней осенью майские бури
- вырывают из почвы и рушат.
- Источник веры – пустота,
- в которой селится тревога;
- мы в эти гиблые места
- зовем тогда любого бога.
- Однажды жить решу я с толком:
- я приберу свою нору,
- расставлю все по нужным полкам,
- сложу все папки – и умру.
- Закладывать по жизни виражи,
- испытывая беды и превратности, —
- разумно, если видишь миражи
- с хотя бы малой каплей вероятности.
- У Бога нету малой малости:
- нет милосердия и жалости.
- Грешил я, не ведая меры,
- но Богу я нужен такой:
- чужие дурные примеры
- всем дарят душевный покой.
- С яростью и пылом идиота
- силюсь я в потуге холостой
- думать, что рожден я для чего-то,
- а не по случайности пустой.
- Непрестанно, то вслух, то тайком
- я твержу к этой жизни припев:
- кто садится за стол с дураком,
- тот со стула встает, поглупев.
- На выставках тешится публика
- высокой эстетикой разницы,
- смакуя, что дырка от бублика —
- иная, чем дырка от задницы.
- Не скованы если затеи
- ни Божьим, ни будничным страхом,
- рабы, холуи и лакеи
- дерзают с особым размахом.
- О людях вслух я не сужу,
- ничьих не порчу репутаций
- и даже мыслей не держу,
- боясь по пьянке проболтаться.
- Еврея в русский климат занесло
- достаточно давно, и потому
- мы местное впитать успели зло
- и стали тесно родственны ему.
- Глупо думать, что я лицемерю —
- в этом нету нужды у паяца,
- я кощунствую – значит, я верю,
- над ничем невозможно смеяться.
- Зачем
- толпимся мы у винной бочки?
- Затем,
- чтоб не пропасть поодиночке.
- Россия легко переносит урон
- своих и ветвей, и корней,
- и черные списки для белых ворон
- всегда пригождаются в ней.
- А псы, в те дни кишевшие окрест
- (густая слежка, обыск и арест),
- запомнились как некто вообще —
- безликий, но при шляпе и плаще.
- Нет, на бегство я не уповал,
- цепи я не рвал, не грыз, не резал,
- я чихал на цепи и плевал,
- и проела ржавчина железо.
- Увы, наш дух мечтами не богат:
- на небо покаянно приплестись,
- поплакаться, что слаб и виноват,
- и вновь на Божьих пастбищах пастись.
- В сей жизни полагаю я щитом
- готовность утлый разум превозмочь,
- легко почерпать воду решетом
- и в ступе с интересом потолочь.
- Забыв про старость и семью,
- согретый солнечным лучом,
- сажусь я в парке на скамью
- и размышляю ни о чем.
- А верю я всему покамест:
- наступит светлая пора,
- детей в семью приносит аист,
- вожди желают нам добра.
- Сон был такой: небес абориген,
- в земном существовании – Сенека,
- смеялся, что несчастный Диоген
- и здесь напрасно ищет человека.
- Несчетно разнолика наша россыпь,
- делясь еще притом на племена,
- и счастлива любая сучья особь
- тому, что кто-то хуже, чем она.
- На лицах у супружеской четы,
- нажившей и потомство, и добро,
- являются похожие черты —
- удачной совместимости тавро.
- Покоем и бездельем дорожа,
- стремлюсь, чтоб суета текла не густо,
- к тому же голова тогда свежа,
- как только что политая капуста.
- Дыша безумием экспресса,
- наука правит бал земной,
- и светится слеза прогресса
- из абажура надо мной.
- Во всем я вровень жил со всеми,
- тая неверие свое,
- когда искал иголку в сене,
- хотя и знал, что нет ее.
- Все чувства словно бы воскресли
- и душу радуют мою
- в часы, когда хмельные песни
- пропащим голосом пою.
- Как увижу бутыль —
- отвожу я глаза,
- отзывается стоном душа,
- и шалят у замшелой души тормоза,
- разум деньги считает, шурша.
- Между мной и днем грядущим
- в некий вечер ляжет тень,
- и, подобно всем живущим,
- я не выйду в этот день.
- Забавно, что прозрачный сок лозы,
- ласкаясь, как доверчивый щенок,
- немедленно влияет на язык,
- а после добирается до ног.
- Ночные не томят меня кошмары —
- пожар, землетрясение, обвал,
- но изредка я вижу крыс и нары —
- чтоб родину, видать, не забывал.
- …И блудолицая девица,
- со мной стремясь духовно слиться,
- меня душила бюстом жарким…
- Очнулся я со стоном жалким:
- сон побуждал опохмелиться.
- Какой сейчас высокой думой
- мой гордый разум так захвачен?
- О том, что слишком низкой суммой
- был жар души вчера оплачен.
- От всех житейских бурь и ливней,
- болот и осыпи камней —
- блаженны те, кто стал наивней,
- несчастны все, кто стал умней.
- Тщедушное почтение к отчизне
- внушило нам умение в той жизни
- рассматривать любое удушение
- как магию и жертвоприношение.
- Не жалко мне,
- что жизнь проходит мимо,
- догнать ее ничуть не порываюсь,
- мое существование не мнимо,
- покуда в нем я сам не сомневаюсь.
- Поставил я себе порог —
- не пить с утра и днем,
- и я бы выполнил зарок,
- но я забыл о нем.
- Пускай витийствует припадочно
- любой, кто мыслями томим,
- а у меня ума достаточно,
- чтоб я не пользовался им.
- Стал я с возрастом опаслив:
- если слышу вдруг о ком,
- то бываю тихо счастлив,
- что и с этим не знаком.
- День вертит
- наши толпы в хороводе,
- и к личности – то слеп, то нетерпим,
- а ночью каждый волен и свободен,
- поэтому так разно мы храпим.
- О мраке разговор
- или лазури,
- в какие кружева
- любовь ни кутай,
- но женщина,
- когда ее разули, —
- значительно
- податливей обутой.
- Готовясь к неизбежным
- тяжким карам,
- я думаю о мудрости небес:
- все лучшее
- Творец дает нам даром,
- а прочее – подсовывает бес.
- Когда уже в рассудке
- свет потушен,
- улегся вялых мыслей винегрет,
- не ведают покоя только души,
- готовя сновидения и бред.
- А жалко мне, что я не генерал
- с душою, как незыблемый гранит,
- я столько бы сражений проиграл,
- что стал бы легендарно знаменит.
- А глубина – такой пустой
- порой бывает у мыслителей,
- что молча стыд сочит густой
- немая глина их обителей.
- Пожары диких войн отполыхали,
- планету фаршируя мертвым прахом;
- но снова слышу речи, вижу хари
- и думаю о правнуках со страхом.
- Вся трагедия жизни моей —
- что судьбе я соавтор по ней.
- Свалился мне на голову кирпич,
- я думаю о нем без осуждения:
- он, жертвуя собой, хотел постичь
- эстетику свободного падения.
- У меня есть со многими сходство,
- но при этом – нельзя не понять —
- несомненно мое первородство,
- ибо все его жаждут отнять.
- Чтоб не свела тоска тягучая
- в ее зыбучие пески,
- я пью целебное горючее,
- травя зародыши тоски.
- Не корчу я духом убогого,
- но чужд и смирения лживого,
- поскольку хочу я немногого,
- однако же – недостижимого.
- Хоть самому себе, но внятно
- уже пора сказать без фальши,
- что мне доныне непонятно
- все непонятное мне раньше.
- Какого и когда бы ни спросили
- оракула о будущем России,
- то самый выдающийся оракул
- невнятно бормотал и тихо плакал.
- Всерьез меня волнует лишь угроза —
- подумаю, мороз бежит по коже, —
- что я из-за растущего склероза
- начну давать советы молодежи.
- Хотя умом и знанием убоги,
- мы падки на крутые обобщения —
- похоже, нас калечат педагоги,
- квадратные колеса просвещения.
- По комнате моей
- клубятся тени,
- чей дух давно витает беспечально,
- и с ними я общаюсь,
- а не с теми,
- которым современник я случайно.
- Еще по инерции щерясь,
- не вытерши злобных слюней,
- все те, кто преследовал ересь, —
- теперь генералы при ней.
- За то я и люблю тебя, бутылка,
- что время ненадолго льется вспять,
- и разума чадящая коптилка
- слегка воспламеняется опять.
- Скорби наши часто безобразны,
- как у нищих жуликов – их язвы.
- Как раз когда находишься в зените,
- предельны и азарт, и наслаждение, —
- фортуна рвет невидимые нити,
- и тихо начинается падение.
- Наш мир – за то, что все в порядке,
- обязан, может быть, молитвам,
- но с несомненностью – тетрадке,
- где я слова связую ритмом.
- Нет, ни холстом, ни звуком клавиш,
- ни книжной хрупкой скорлупой
- дух не спасешь и не избавишь
- от соучастия с толпой.
- От каждого любовного свидания
- светлеет атмосфера мироздания.
- Хлеща привольно и проворно,
- кишащей мерзости полна,
- уже доходит нам до горла
- эпохи пенная волна.
- Повсюду свинство или скотство,
- и прохиндей на прохиндее,
- и чувство странного сиротства —
- тоска по умершей идее.
- Сегодня только темный истукан,
- изваянный из камня-монолита,
- отвергнет предлагаемый стакан,
- в который благодать уже налита.
- Дурная получилась нынче ночь:
- не спится, тянет выпить и в дорогу;
- а Божий мир улучшить я не прочь,
- но как – совсем не знаю, слава Богу.
- Души напрасная растрава,
- растрата времени и сил —
- свободой даренное право
- на то, чего ты не просил.
- Моя кудрявая известность,
- как полоумная девица,
- ушла за дальнюю окрестность
- в болоте времени топиться.
- Зря бранит меня чинная дура
- за слова, что у всех на устах,
- обожает любая культура
- почесаться в укромных местах.
- Всюду юрко снует воровство,
- озверевшие воют народы,
- и лихое в ночи баловство,
- и земля не родит бутерброды.
- Я исповедую мораль,
- с которой сам на свете жил:
- благословенны лгун и враль,
- пока чисты мотивы лжи.
- В душе – руины, хлам, обломки,
- уже готов я в мир иной,
- и кучерявые потомки
- взаимно вежливы со мной.
- Ох, я боюсь людей непьющих,
- они – опасные приятели,
- они потом в небесных кущах
- над нами будут надзиратели.
- Я лягу в землю плотью смертной,
- уже недвижной и немой,
- и тени дев толпой несметной
- бесплотный дух облепят мой.
- Весь день я думал, а потом
- я ближе к ночи понял мудро:
- соль нашей жизни просто в том,
- что жизнь – не сахарная пудра.
- Грядущий век пойдет научно,
- я б не хотел попасть туда:
- нас раньше делали поштучно,
- а там – начнут расти стада.
- Когда фортуна шлет кормушку,
- и мы блаженствуем в раю,
- то значит – легче взять на мушку
- нас в этом именно краю.
- Когда-то, в упоении весеннем,
- я думал – очень ветрен был чердак, —
- что славно можно жить,
- кормясь весельем,
- и вышел я в эстрадники, мудак.
- Кто алчен был и жил напористей,
- кто рвал подметки на ходу,
- промчали век на скором поезде,
- а я пока еще иду.
- Духовно зрячими слепили
- нас те, кто нас лепили где-то,
- но мы умеем быть слепыми,
- когда опасно чувство света.
- Шумиха наших кривотолков,
- мечты, надежды, мифы наши —
- потехой станут у потомков,
- родящих новые параши.
- Пивною пенистой тропой
- с душевной близостью к дивану
- не опускаешься в запой,
- а погружаешься в нирвану.
- Я все же очень дикий гусь:
- мои устои эфемерны —
- душой к дурному я влекусь,
- а плотью – тихо жажду скверны.
- Не знаю, как по Божьей смете
- должна сгореть моя спираль,
- но я бы выбрал датой смерти
- число тридцатое, февраль.
- Раскидывать чернуху на тусовке
- идут уже другие, как на танцы,
- и девок в разноцветной расфасовке
- уводят эти юные засранцы.
- Безоблачная старость – это миф,
- поскольку наша память —
- ширь морская,
- и к ночи начинается прилив,
- со дна обломки прошлого таская.
- Хоть мы браним себя, но все же
- накал у гнева не такой,
- чтоб самому себе по роже
- заехать собственной рукой.
- Куча у меня в моем дому
- собрана различного всего,
- многое – бесценно, потому
- что совсем не стоит ничего.
- Будь в этой жизни я трезвее,
- имей хоть чуть побольше лоска,
- уже давно бы я в музее
- пылился статуей из воска.
- Не хочется довольствоваться малым,
- в молитвенных домах
- не трону двери,
- небесным обсуждался трибуналом
- и был я присужден им к высшей вере.
- Во всех веках течет похоже
- сюжет, в котором текст не нужен
- и где в конце одно и то же:
- слеза вдовы и холм над мужем.
- У врачебных тоскуя дверей,
- мы болезни вниманием греем
- и стареем гораздо быстрей
- от печали, что быстро стареем.
- Сев тяжело, недвижно, прочно,
- куда-то я смотрю вперед;
- задумчив утром так же точно
- мой пес, когда на травку срет.
- В повадках канувшей империи,
- чтоб уважала заграница,
- так было много фанаберии,
- что в нас она еще дымится.
- Везде в чаду торгового угара
- всяк вертится при деле,
- им любимом,
- былые короли гавна и пара
- теперь торгуют воздухом и дымом.
- Пью водку, виски и вино я,
- коньяк в утробу лью худую,
- существование иное
- я всем врагам рекомендую.
- А мужикам понять пора бы,
- напрасно рты не разевая,
- что мирозданья стержень – бабы,
- чья хрупкость – маска боевая.
- За то, что некогда гоним был
- и темным обществом помят,
- я не украшу лик мой нимбом,
- поскольку сильно был не свят.
- Есть бабы из диковинного теста,
- не молкнет в них
- мучительная нота:
- жена и мать, но все еще невеста,
- и сумрачное сердце
- ждет кого-то.
- Столетиями вертится рулетка,
- толпа словивших выигрыш
- несметна,
- и только заколдованная клетка,
- где счастье и покой, —
- она посмертна.
- У гибели гуляя на краю,
- к себе не пребывали мы
- в почтении,
- сегодня я листаю жизнь мою,
- и волосы шевелятся при чтении.
- Да, специально нас не сеяли,
- но по любой пройтись округе —
- и мы кишмя кишим на севере,
- востоке, западе и юге.
- Нас увозил фортуны поезд,
- когда совсем уже приперло,
- везде сейчас дерьма по пояс,
- но мы-то жили, где по горло.
- Напомнит о помыслах добрых
- в минувшее кинутый взгляд,
- и вновь на срастившихся ребрах
- следы переломов болят.
- Настырный сон —
- хожу в проходе,
- на нарах курят и галдят,
- а я-то знаю: те, кто ходят,
- чуть забывают, что сидят.
- В пыли замшелых канцелярий,
- куда я изредка захаживал,
- витают души Божьих тварей,
- когда-то здесь усохших заживо.
- Страдал я легким, но пороком,
- живя с ним годы беспечальные:
- я очень склонен ненароком
- упасть в объятия случайные.
- Тоску, печаль, унынье, грусть,
- угрюмых мыслей хоровод —
- не унимай, Господь, но пусть
- они не застят небосвод.
- Всегда в удачно свитых гнездах,
- как ни темны слова и лица,
- совсем иной житейский воздух,
- чем в доме, склонном развалиться.
- Когда устал, когда остыл
- и на душе темно и смутно,
- любовь не фронт уже, а тыл,
- где безопасно и уютно.
- В игре, почти лишенной правил,
- чтоб не ослабло к ней влечение,
- Творец искусно предоставил
- нам пыл, азарт и помрачение.
- Увы, чистейшей пробы правда,
- поддавшись кличу боевому,
- как озверевшая кувалда,
- подряд молотит по живому.
- По всем векам летит булыжник,
- и невозможно отстраниться,
- а за стеклом – счастливый книжник
- над некой мудрою страницей.
- Сейчас пойду на именины,
- явлю к напиткам интерес
- и с ломтем жареной свинины
- я пообщаюсь наотрез.
- Что было в силах – все исполнили,
- хоть было жить невыносимо,
- а долгий свет не свойствен молнии,
- за то, что вспыхнули, спасибо.
- Не зря, упоенно сопя и рыча,
- так рабской мы тешились пищей:
- я музу свободы вчера повстречал —
- она была рваной и нищей.
- Мне ничуть не нужен
- пруд пейзанский,
- мне не надо речки и дождя,
- я колодец мой раблезианский
- рою, от стола не отходя.
- Что-то никем я нигде не служу,
- что-то с тоской то сижу, то лежу,
- что-то с людьми я не вижусь давно,
- всюду эпоха, а мне все равно.
- Все, что в душе носил, – изношено,
- живу теперь по воле случая
- и ничего не жду хорошего,
- хотя упрямо верю в лучшее.
- Нетрудно обойти любые сложности,
- в себе имея к этому готовность:
- мои материальные возможности
- мне очень помогли возжечь духовность.
- Вполне терпимо бытие,
- когда с толпой – одна дорога,
- а чтобы гнуть в судьбе свое,
- его должно быть очень много.
- Держусь я в стороне
- и не устану
- посланцев отгонять,
- как нудных пчел,
- враждебному и дружескому стану
- я стан моей подруги предпочел.
- Навряд ли в Божий план входило,
- чтобы незрячих вел мудила.
- Поэтессы в любви прихотливы
- и не всем раскрывают объятья,
- норовя про плакучие ивы
- почитать, вылезая из платья.
- Не потому ли я безбожник
- и дух укрыт, как дикобраз,
- что просто темен, как сапожник?
- Но он-то верует как раз.
- Нытью, что жребий наш плачевен
- и в мире мало душ родных,
- целебен жирный чад харчевен
- и волокнистый дым пивных.
- Она грядет, небес подмога:
- всех переловят, как собак,
- и ангелы – посланцы Бога
- отнимут водку и табак.
- Мы эпоху несли на плечах,
- и была нам не в тягость обуза,
- но, по счастью, увял и зачах
- пыл пустого таскания груза.
- Кто без страха
- с реальностью дружит,
- тот о ней достовернее судит:
- раньше было значительно хуже,
- но значительно лучше, чем будет.
- Томит бессонница. Уснуть бы
- и до утра не просыпаться;
- а мирового духа судьбы —
- мне вовсе по хую, признаться.
- Порою мне ужасно жалко,
- что льется мимо звон монет;
- есть ум, энергия, смекалка,
- но между ними связи нет.
- На кривой не объедешь кобыле
- некий дух, что везде неспроста:
- есть поэзия – музы там были,
- но интимные мыли места.
- После юных творческих метаний
- денежным тузом бедняга стал:
- призраки несбывшихся мечтаний
- часто воплощаются в металл.
- Ясен дух мой,
- и радость чиста,
- снова жить я хочу и готов,
- если текст мой
- выходит в места,
- где чужих я не вижу следов.
- Книжек ветхих
- любезно мне чтение,
- шел по жизни
- путем я проторенным,
- даже девкам весь век предпочтение
- отдавал я уже откупоренным.
- Творцы различаются
- в мире растленном
- не только душевным накалом,
- но службой убийцам,
- но службой гиенам,
- а те, кто помельче, – шакалам.
- К любому подлому подвоху
- идя с раскрытыми глазами,
- Россия в новую эпоху
- вошла со старыми козлами.
- Меня оттуда съехать попросили,
- но я – сосуд российского сознания
- и часто вспоминаю о России,
- намазывая маслом хлеб изгнания.
- Люблю я этот мир порочный,
- хотя вполне готов к тому,
- что некто в некий час урочный
- погасит свет и включит тьму.
- Все, что хочешь, отыщется тут —
- вонь помоев и запахи вечности,
- на обочинах жизни растут
- голубые фиалки беспечности.
- Ни с кем не успевая поделиться,
- я часто оборачиваюсь вслед:
- любовь на окружающие лица
- бросает мимоходом легкий свет.
- Можно очень дикими согреться
- мыслями, короткими, как искра:
- если так разрывно колет сердце —
- значит, я умру легко и быстро.
- Я не был ни настырен, ни назойлив,
- я свято блюл достоинство и честь:
- глаза и уши зала намозолив,
- я тихо плелся выпить и поесть.
- Не ждешь,
- а из-за кромки горизонта —
- играющей судьбы заначка свежая —
- тебе навстречу нимфа, амазонка,
- наяда или просто блядь проезжая.
- Я не люблю азарт гадания,
- потом печаль, что ждал вотще,
- грядет лишь то без опоздания,
- о чем не думал вообще.
- Все грязное, больное и гнилое,
- что в рабстве родилось от унижения,
- сегодня распустилось в удалое
- гуляние российского брожения.
- Я безрадостный слышу мотив,
- у меня обольщения нет,
- ибо серость, сольясь в коллектив,
- обретает коричневый цвет.
- Из беды, из несчастья, из горя
- выходя (тьфу-тьфу-тьфу)
- невредим,
- обретаешь повадку изгоя,
- а чуть позже – становишься им.
- Ползет мой текст
- весьма порой со скрипом,
- корявый
- от избытка низкой прозы;
- Бог даст,
- я напишу уже постскриптум:
- жалею,
- что сбылись мои прогнозы.
- Небо медлит,
- если даже благосклонно,
- и не надо ждать от засухи дождя,
- справедливость
- торжествует неуклонно,
- просто пару поколений погодя.
- Всегда одним и тем же знаменит:
- плетя с евреем рядом жизни кружево,
- еврея не любил антисемит
- сильнее,
- чем еврей того заслуживал.
- Да, уже мы скоро все там
- соберемся, милый мой,
- интересно только – светом
- или гнилостью и тьмой?
- Грустно щиплет все живое
- личную струну,
- даже ночью каждый воет
- на свою луну.
- Душа, устремляясь в гастроль
- к родившейся плоти намеченной,
- порой попадает на роль,
- где стать суждено искалеченной.
- Прикинутого фраера типаж
- повсюду украшает наш пейзаж,
- он даже если только в неглиже,
- то яйца у него – от Фаберже.
- Дешевыми дымили папиросами,
- Вольтерами себя не объявляли,
- но в женщине с культурными запросами
- немедля и легко их утоляли.
- Среди всемирного банкротства
- любых высоких слов и фраз
- родство душевного сиротства
- любовью связывает нас.
- Коварство, вероломство и корысть
- игру свою ловчат настолько точно,
- что глотку нынче могут перегрызть
- без боли, анонимно и заочно.
- Разум по ночам —
- в коротком отпуске,
- именно отсюда наши отпрыски,
- и текут потоки малолеток —
- следствие непринятых таблеток.
- Попавши в сочетание случайное,
- слова имеют свойство обрести
- внезапное согласное звучание
- у смысла в собирающей горсти.
- Во мне видна уже до дна
- ума канистра;
- не бойся старости, она
- проходит быстро.
- Когда к какой-нибудь давалке
- я устремляю взор непраздный,
- эфир, ласкающий фиалки,
- в тот миг меня грубей гораздо.
- Ни в чем и никому не подражатель,
- не сын и не питомец горних высей,
- по духу я скорее содержатель
- притона беглых слов
- и блудных мыслей.
- Сноровка ослабла,
- похвастаться нечем,
- я выпить могу
- очень мало за вечер,
- и тяжко настолько
- в душе с бодуна,
- как будто я на хуй
- послал колдуна.
- Блаженны те, кто не галдя,
- но собственным трудом
- из ветра, света и дождя
- себе возводят дом.
- Ткань жизни сожжена почти дотла,
- в душе и на гортани —
- привкус терпкий,
- уже меня великие дела
- не ждут,
- а если ждут, пускай потерпят.
- У мудрых дев – поплоше лица
- и вся фигуристость – не броская,
- а крутозадая девица
- зато умом обычно плоская.
- Кичлив и шумен, мир огромный
- на страшный сон порой похож,
- я рад, что в угол мой укромный
- он даже запахом не вхож.
- С подонством, пакостью и хамством
- по пьесе видясь в каждом акте,
- я все же с дьявольским упрямством
- храню свой ангельский характер.
- День за день устает и, вечерея,
- он сумеркам приносит теплоту
- печально умудренного еврея,
- готового к уходу в темноту.
- Загадка, заключенная в секрете,
- жужжит во мне, как дикая пчела:
- зачем-то лишь у нас на белом свете
- сегодня наступает со вчера.
- Я с утра томлюсь в неясной панике,
- маясь от тоски и беспокойства, —
- словно засорилось что-то в кранике,
- капающем сок самодовольства.
- Приличий зоркие блюстители,
- цензуры нравов почитатели —
- мои первейшие хулители,
- мои заядлые читатели.
- Вокруг супружеской кровати —
- не зря мы брак боготворим —
- витает Божьей благодати
- вполне достаточно троим.
- Я всю жизнь сомневаюсь во всем,
- даже в собственном
- темном сомнении,
- размышляя о том и о сем,
- сам с собой расхожусь
- я во мнении.
- Кто пил один и втихомолку,
- тот век земной прожил без толку.
- Бесплотные мы будем силуэты,
- но грех нас обделять необходимым,
- и тень моя от тени сигареты
- сумеет затянуться горьким дымом.
- Вкусил я достаточно света,
- чтоб кануть в навечную тьму,
- я в Бога не верю, и это
- прекрасно известно Ему.
- Не чересчур себя ценя,
- почти легко стареть,
- мир обходился без меня
- и обойдется впредь.
- Легковейная мыслей игра
- кровь и смерти родит регулярно,
- все хотят в этой жизни добра,
- но его понимают полярно.
- У памяти в углах – целебный мрак,
- упрятаны туда с умом и вкусом
- те случаи, когда я был дурак,
- то время, когда был я жалким трусом.
- Наследье рабских лет
- весьма типично:
- сноровка в разбегании по норам,
- отвычка рисковать, решая лично,
- и навык петь согласным подлым хором.
- Так тяжко, словно у небес
- я нахожусь уже в ответе,
- а за душой – сожженный лес
- или уморенные дети.
- В какую ни кидало круговерть,
- а чуял я и разумом, и носом:
- серьезна в этой жизни только смерть,
- хотя пока и это под вопросом.
- Наплывы закатного света
- текут на любимые лица,
- уже наша песенка спета,
- и только мелодия длится.
Вечерний звон
Всем, кого люблю и помню, – с благодарностью
Предисловие
У меня есть два одинаково заманчивых варианта начала, и я мучительно колеблюсь, какой из них предпочесть. Первый из них наверняка одобрил бы Чехов:
Проезжая по России, мне попала в рот вульгарная инфекция.
Вариант второй попахивает детективом и имеет аромат интриги:
Уже семь дней во рту у меня не было ни капли.
Так как начало это – чисто дневниковое, а я как раз собрался имитировать дневник, то я и выбрал вариант второй. Ничуть не отвергая первый. Итак.
Уже семь дней во рту у меня не было ни капли. Речь идет об алкоголе, разумеется, с водой у меня было все в порядке. Но выпивка была строжайше мне запрещена, я принимал антибиотики и от надежды, что они помогут, стойко переносил мучения целодневной трезвости. Дело в том, что, проезжая по России, мне попала в рот вульгарная инфекция. В городе Ижевске я почувствовал первую, еще терпимую боль во рту и попытался по привычке отпугнуть ее куриным бульоном. Это ведь средство универсально целебное, еврей рифмуется с курицей ничуть не хуже, чем со скрипкой. Но не помогло. В Перми боль стала невыносимой. Все ткани рта пылали этой болью, ночью я не спал ни минуты, хотя съел горсть каких-то болеутоляющих таблеток, погрузивших меня в полуобморочную отключку. Утром отыскался некий специальный врач, состоявший при опере, – я даже не знал, что существуют такие узкие специалисты. Он-то мне и сообщил, что это некая вульгарная инфекция, с которой надо бороться долго и вдумчиво, а голосовые связки он поддержит мне какой-то травяной блокадой и выступать я вечером смогу. И голос у меня действительно возник, а про выражение лица я два часа старался просто не думать. Думал я про Муция Сцеволу и про несравненную выгоду своей ситуации – и гонорар я получал, и еще мог на исцеление надеяться.
В Москве я сразу разыскал большую стоматологическую клинику. Кто-то вбухал много денег в роскошное новешенькое оборудование; на туфли пациента надевался пластиковый пакет, секретарши работали на компьютерах и улыбались, вас увидев. Первое посещение стоило довольно дорого, поэтому там было пусто. Усадив меня в удобнейшее кресло и слегка немедля опрокинув, чтобы сам не вылез, три стосковавшихся врача окружили его, глядя мне в рот, как золотоискатели – в промывочный лоток.
– Пять передних нижних надо вырвать сразу, – с нежностью сказала моложавая блондинка сильно средних лет.
– Мы вам вживим в десну полоску стали, – пояснила с той же нежностью блондинка помоложе, – а на нее навинтим новенькие зубики.
– А я бы перед тем, как вырвать, ультразвуком их почистила, – мечтательно сказала первая. Но засмеяться я не мог. Блондинка помоложе улыбнулась. И коллегиально, и конфузливо.
– Сперва надо разрезать очаг воспаления, – сказал худой мужчина в толстом свитере, бестактно оборвав мечты и звуки. – Идемте в мой кабинет.
Неловко уползая с комфортабельного полуложа, я благодарственно и виновато улыбнулся двум разочарованным коллегам. Моложавая и помоложе смотрели мне вслед, не оставляя надежды. Как две лисы – на упорхнувшую птичку.
Я уселся в кресло, стараясь не смотреть в сторону шкафчика с аккуратно разложенными пыточными инструментами. Хирург неторопливо надевал халат. Бедняга, он уже уверен был, что я не ускользну.
– Доктор, – произнес я вкрадчиво и проникновенно, – я себя пока что резать не дам. Попробуйте антибиотики. А если не помогут, то я завтра к вам приду и сдамся.
– Но завтра я не работаю, – растерянно возразил молодой энтузиаст. Меня восхитила его римская прямота, но улыбаться было очень больно.
– Потерплю до послезавтра, – согласился я. – Какие-нибудь дайте мне антибиотики покруче.
Температура накануне у меня была – тридцать девять. А уже назавтра – тридцать восемь. И таблетки, утоляющие боль, немедля стали помогать. Я знал, что страх перед хирургическими инструментами весьма целебен моей трусливой натуре, но что настолько – не предполагал. Через неделю все прошло. Осталась только легкая неловкость перед юным эскулапом, понапрасну меня ждавшим с острым скальпелем в руках, и восхитительная жажда выпить.
После такого перерыва нету ничего прекраснее холодной водки, а плоть соленого груздя повергла меня в острое блаженство. Я аж засмеялся от нахлынувшего чувства возвращенной жизни. И немедля вспомнил чью-то замечательную мысль о том, что если человек действительно хочет жить, то медицина тут бессильна. Снова мог я выпивать и путешествовать.
Кем я хочу стать, когда вырасту, я осознал довольно поздно – шел уже к концу седьмой десяток лет. Но все совпало: я всю жизнь хотел, как оказалось, быть старым бездельником и получать пособие на пропитание, не ударяя палец о палец. У старости, однако, выявилась грустная особенность: семь раз отмерив, резать уже не хочется. Поэтому за книгу принимался я не раз, однако же, прикинув главы, остывал и все забрасывал. Правильно сказал когда-то неизвестный древний грек: старость – это убыль одушевленности. Остатков, что питали мой кураж, на книгу ощутимо не хватало. Пока судьба не подарила мне запевку столь достойную, что больше я увиливать не мог. Раз ты уж начал, – как шепнула мне в далекой юности одна подруга. (Дивная была светловолосая девчушка. В молодости ведь евреи любят блондинок, ибо еще надеются слиться с русским народом.) И я сел писать воспоминания.
Две тысячи четвертый год был юбилейным у меня. Точнее, трижды юбилейным. Двадцать пять лет, как посадили, двадцать – как выпустили, и пятнадцать лет на сцене. И отменный получил я в этот год подарок. Я давно уже прознал, что некая в Одессе существует фраза, даже знал, к кому бывали те слова обращены, и теплил тайную мечту, что я когда-нибудь услышу это сам. И точно в юбилей сбылась моя мечта. Я шел по Дерибасовской, и возле парка, где стоят художники, меня чуть обогнал некрупный лысый человек лет сорока. Он оглянулся на меня, помедлил бег и вежливо спросил:
– Я извиняюсь, вы Губерман или просто гуляете?
Как я был счастлив! И теперь рассказываю это на своем почти что каждом выступлении. На сцене вообще ужасно тянет хвастаться. Однако попадаются истории, которые язык не повернется вслух пересказать, а письменно – гораздо легче. Не такое от моих коллег терпела беззащитная бумага. В тот же мой приезд в Одессу после интервью на телевидении меня уже на улице догнал мальчонка-осветитель.
– Я все сомневался, не обидитесь ли вы, – сказал он мне, – но я хочу вам рассказать. Я сам украинец, поэтому и сомневался…
Я молча слушал. У него был дядя, но недавно умер. Дядя этот всю свою жизнь проплавал на торговых кораблях, но это было в нем не главное. А главное – что дядя был антисемитом, и не просто по природе, инстинктивным, нет, осознанно евреев не любил за их умение обманывать и надувать. Как видно, по торговой контрабандной части сталкиваясь с этим, я в детали не вдавался. И еще любил стихи покойный дядя, часто их читая наизусть на каждой пьянке. А до смерти незадолго он позвал племянника и наказал ему не доверять евреям. Верить можно только трем из них, сказал он мальчику. Христу, который проповедовал, что Бог – это любовь, Спинозе, который говорил, что Бога нет, и Губерману, который написал, что Бог на свете есть, но от людей Он отвернулся.
– Извините, если я вас чем обидел, – мальчик явно был смущен.
Я ошарашенно сказал, что мне такое слышать очень лестно.
– Только вы к евреям так не относитесь, – попросил я глупо и растерянно.
– Да что вы, – возразил мне мальчик. И вернулся к осветительным приборам.
Мне даже письменно слегка неловко приводить сейчас эту историю, но только есть в ней нечто и помимо хвастовства. То, что относится к загадочности нашего рассудка. Был наверняка ведь этот дядя прост, как правда: плавал, воровал, обманывал таможню и клиентов, по-моряцки крепко выпивал и не любил евреев, что естественно. Однако же – читал и думал.
Тут бы что-нибудь высокое и вдумчивое надо написать – о духе и мышлении народном и про тайности душевного устройства, только на такое у меня рука не поднимается.
К тому же время на дворе – год Петуха. А значит, можно клекотать, и крыльями махать, и кукарекать. Так что хвастаться еще не раз я буду. Хитроумно заворачивая это в будто бы насмешку над собой или глубокое о жизни размышление. Не лыком шиты. Я все время помню, что сказал Вильям Шекспир какому-то хвастливому актеру: учитесь скромности у своего дарования. Возможно, это некогда Эсхил еще сказал (в беседе с Эмпедоклом), но главное – завет, а не сомнительное авторство.