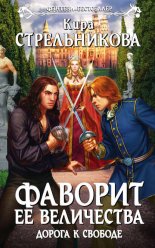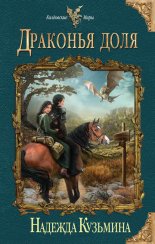Сейд. Джихад крещеного убийцы Улдуз Аждар

—... ну, вот ты и стал убийцей праведных! – с усмешкой сказал Муаллим, выслушав историю Сейда о его задании. – Я доволен тобой, сынок. И даже не буду ругать тебя за то, что ты не стал убивать Акына-Сказочника. Он, конечно же, наглец, и вор, укравший у меня некоторые тайны мастерства и сбежавший на службу к Салах-ад-Дину... это давняя история, расскажу как-нибудь... Он ведь тоже родом из степей, как и я. Пусть Лев Пустыни знает, кому он обязан своим спасением. Акын всё ему расскажет. И в этом есть керамет (высший смысл) от Аллаха... Только вот то, что произошло с тобой у Железного Копта, мне совсем не нравится. Возможно, для тебя стоит сделать исключение и запретить тебе употреблять гашиш. Та история с убитым орлом не прошла для тебя даром. А орлы гашиш не потребляют. Так что... – Учитель потянулся за мундштуком кальяна в руке у Сейда, – ... дай-ка его мне!..
Короткое рондо (вне времени)
Арабские кони топтали Кавказ. Разрушались зороастрийские храмы, чей возраст был больше, чем у всех новомодных религий, вместе взятых... Огнем и мечом насаждалась вера Пророка, да пребудет Он в мире, учившего, что нет в исламе принуждения. Под копытами завоевателей умирали матери... те, под чьими ногами, согласно Корану, рай для правоверных... Арабы завоевывали Шелковый Путь.
Арабам тоже было нужно золото, и под знаменем джихада несли они не веру Пророка, да пребудет Он в мире, но власть над богатейшими землями Востока. Раздвоенный зульфукар хазрета Али размножили и передали вчерашним язычникам-бедави, пустынным кочевникам, дав дозволение на ганимед – добычу с грабежа во время войны.
Арабские кони еще будут топтать Персию. Древняя цивилизация, подарившая миру Заратустру, погибнет под железными копытами войск халифата, втаптываясь в грязь разрушенных дорог и падая с сожженных мостов между прошлым и будущим. Сожгут древние библиотеки, сдерут кожу живьем с непокорных лидеров, забросают камнями жен, названных неверными лишь по причине сомнения, виной которому неуверенность мужчин... бесплодия, за которым – слабость мужчин... нежелания платить отступные при разводе, предписанные исламом, и за всем этим – жадность и властолюбие мужчин. Всему этому они научатся после крестовых походов.
Арабские кони споткнутся о Малую Азию. Пройдут столетия, и османы дерзко вырвут из алчных рук знамя СВОЕГО халифата, чтобы пойти на Запад... туда, куда арабы идти побоялись... Потому что они тоже извлекут свои уроки из крестовых походов.
А в Персии и на Кавказе созреют очаги... Расцветет Красный Цветок, и очаги взорвутся восстаниями, разбрызгивая вокруг искры ярости и беспощадных схваток за Веру и Идею, за Землю и Золото...
Среди новых мусульман появятся отщепенцы-суфии, и споет миролюбец Насими:
Во мне вместятся оба мира,
Но я и в мире не вмещусь.
Я суть, я не имею места,
И в бытие я не вмещусь.
Всё то, что было, есть и будет —
Всё воплощается во мне.
Не спрашивай, иди за мною!
Я в объясненье не вмещусь!..
И за ним пойдут. Пойдут, не вопрошая, и бросятся толпы суфийских адептов безоружными под копыта воинов халифата, и порвется на лоскуты кожа, сдираемая живьем с поэта и философа, богослова и Учителя Мира Имамеддина Насими, перед смертью кричащего имя своей Родины – Страны Огней...
Пламя Заратустры забушует в сердцах людей, противостоявших не Вере, но насилию, с которым эта Вера насаждалась на Шелковом Пути... и становился шелк – багряным от пролитой крови, и полумесяц взойдет в этом багрянце знаменем новой Империи. И просуществует она шесть веков, и станет самой долгоживущей из всех империй в известной истории человечества...
Две религии одного Бога превращались в инструмент Власти и Насилия над свободой личности. Две религии уходили от Бога, чтобы служить... кому?..
Арабские кони понесутся по Востоку. Арабские кони понесут Власть...
Чтобы однажды – споткнуться. И этому тоже учат крестоые походы...
Глава VII – СУДЬБА СВЯТОЙ
Прачек было много. Их ценили, пожалуй, даже больше, чем монашек, пустившихся в путь вместе с воинством Христовым, направлявшимся в Иерусалим. Хотя бы потому, что монашек было всего трое на почти тысячу солдат и рыцарей, и прилично врачевать из них могла лишь одна. Да и та пользовала болеющих дворян и рыцарей, входивших в руководство походом. Прачки же были отрадой для всей армии, находящейся в пути уже второй месяц. Их кормили и оберегали. За них платили выкуп, когда однажды после дерзкой ночной атаки воинов пустыни целых двадцать белокурых, голубоглазых женщин стали добычей нападавших. Впрочем, трое из женщин не вернулись – сами, поговаривают, не захотели.
Шалунья Рыжая, как прозвали в армии крестоносцев веселую прачку родом из страны бриттов, побывала в том плену и рассказывала, что бедави не обижали их, хорошо кормили и даже хотели взять в жены, но шейх племени решил, что золото ему нынче нужнее, и приказал своим пустынникам не трогать пленниц. Однако за всеми не уследишь, и трое из женщин успели принять магометанство, чтобы стать женами тех, кто их пленил. А выдавать своих единоверцев у магометан не принято, так что этим троим шейх позволил остаться, прочих же вернул в лагерь крестоносцев, получив за них добрый выкуп золотом и заодно забрав жизни у десятка рыцарей, устроивших засаду в надежде обмануть бедави во время обмена заложниц на выкуп и забрать золото себе. Кочевники же потеряли всего двоих. По убитым в неудавшейся засаде рыцарям походный капеллан устроил богослужение, прочитав сиплым от вездесущей пыли голосом проповедь, в которой назвал их героями, павшими от предательских клинков неверных сарацин, и чья кровь будет отмщена! Отомстить поклялись все рыцари, в том числе и сенешаль из страны франков, который поначалу обозвал этих рыцарей «ворами и глупцами». Впрочем, поддавшись затем настоянию капеллана и прочих рыцарей, отказался вернуть тела двоих кочевников, что были убиты в той стычке, шейху... Тела обезглавили, головы насадили на пики и выставили посреди лагеря крестоносцев. Но к концу службы прилетела стрела с письмом на арабском, в котором шейх объявлял всех воинов в армии своими личными кровниками. Над письмом сначала повозмущались, затем посмеялись, ну а после расхватали вернувшихся прачек по шатрам – пировать в честь освобождения христианских женщин из ужасного магометанского плена.
Монашка Ордена Святой Магдалины дружила с Рыжей Шалуньей, если можно назвать дружбой те странные отношения, что возникли между невестой Христовой и прачкой воинства Христова. Рыжая британка таскала для монашки разные сласти из шатров рыцарей, что благодетельствовали ее своими ласками, та в ответ делилась с нею познаниями в области врачевания. Следует отдать должное дочери далекой Британии, та и сама немало понимала в знахарстве и различных травах, однако в пустыне, по которой они шли, трав никаких не водилось, те же, что прачка взяла с собой в путь, давно закончились. За два месяца похода воины болели часто, и рыжая британка потратила весь свой запас на раны и недуги простых солдат. Снадобья же, взятые в поход монашками, представляли собой медицину, официально одобренную Церковью, и запас их был достаточно велик. К тому же большинство рыцарей из благородных предпочитали мазям и прочим лекарствам чудодейственную силу «лечебных» церковных реликвий, коими Орден снабдил монашек перед походом. Чудесные же останки блаженных и святых, хранившиеся в богатых раках, кои прикладывались к ранам и увечьям благородных недужных, имели не менее чудесное свойство не заканчиваться.
Британка искренне удивлялась столь чудесному способу лечения, так что монашке часто приходилось терпеливо разъяснять ей, в чем именно проявляется лечебная сила, скажем, вот этой раки, хранящей клок волос святого Ионы Арамейского.
–Иона выжил в водах, в коих ему уготовили смерть злые сарацины, и потому волосы его имеют чудесное свойство исцелять тех, кто мог бы утопнуть...
–Но где тут, в пустыне, утонуть-то можно? Разве что в пыли! – Британка спрашивала с серьезным выражением лица, но зеленые глаза ее как будто смеялись над словами монашки, раскладывающей перед ней раки с реликвиями. Однако монашка не впервые сталкивалась с неверием простолюдинов, привыкших лечиться придорожными травами да отварами деревенских знахарей, и потому тут же нашлась с ответом:
–Их также можно использовать при водянке и при лечении волдырей, заполняющихся водой при ожогах, от которых здесь, в пустыне, часто страдают наши отважные воины. Волдыри появляются от натертостей, причиняемых постоянным ношением доспехов, а также от немилосердного солнца этих земель...
–А кочевники тут делают то же, что и бабы в нашей деревне, чтобы от солнечных ожогов спастись. Только у нас используют прокисшее коровье молоко, тут же – верблюжье или конское. Это я во время плена видела.
–А разве солнце в Британии такое же жаркое, как здесь? – удивилась монашка.
–Так я не с самой Британии, а с Вельша. Там у нас и небо солнечнее, и трава зеленее, да и мужики, я тебе скажу... Ладно, прости, святая сестра, не буду тебя смущать. И прокисшим молоком у нас бабы мажутся, чтобы кожа была белее. Так оно ведь покрасивше! И во время праздника Бельтайн, когда ночью молодушки с парнями в лесных рощицах сходятся, такая кожа аж светится в лунном свете... – Шалунья Рыжая чувственно вздохнула, видимо, вспомнив праздники Бельтайн в своем далеком, зеленом Вельше, где водятся эльфы и лепреконы, у которых можно заполучить тайну клада... да и просто самые лучшие в мире мужчины, из которых в тысячной армии крестоносцев – пара десятков лучников, да и те на свою соотечественницу косятся с необъяснимым страхом и предпочитают держаться от нее подальше.
Монашка знала историю своей подруги, рассказанную ею давно, еще когда прачка и монашка впервые встретились в константинопольском порту, где отряд вельшских лучников, тогда еще числом в тридцать бойцов, был определен плыть в Святую Землю на том же корабле, что и она. Шалунью Рыжую тогда было не узнать – уж очень она была забитой, худой, волосы космами, и от своих не отходила, словно не отпускали те ее. А уж потом, когда больше половины их заразились лихорадкой во время морского путешествия, да и померли, так, что пришлось их тела выбросить прямо в море, не предав земле, словно переродилась Рыжая. Ушла от своих, да и не разговаривала даже с ними, а те и вовсе обходили ее стороной. Рассказала монашке, словно исповедуясь, вельшская прачка, всю свою историю там же, на корабле, и с тех пор тайна этой странной исповеди сблизила их. Монашка Ордена Святой Магдалины помнила звездную ночь на борту караки, шедшей в Святую Землю, когда тихий, но исполненный неизвестной силы, голос вельшки рассказывал свою историю: «... с креста меня снял любимый мой. Еще в ночь Бельтайн мы поняли, что суждены друг другу. Любила я его так, что ради него и науку нашу родовую бросить готова была. У нас ведь все знахарками были – и мать моя, и бабушка, и ее бабушка... Все в деревне знали это, боялись, но уважали, потому как тайны наши нас охраняли, но и жителям деревни нашей много пользы приносили. А уж как роды принимать, что у людей, что у коров – только женщины нашей семьи всегда нужны были. Вот и ценили нас в деревне, и церковникам не выдавали никогда, потому как знали – проклянем, так быть беде. Однако пришел к нам церковник из франков, что прибыл вместе с Ричардом, королем проклятым, который франков больше своих британцев любит. Из Лондона послали его к нам в Вельш, сопровождать Джона, брата короля, да искоренять язычество в землях вельшских. Святоша этот увидел меня после Бельтайна, видать, глаз положил, да и позвал к себе – приходи, говорит, дочь моя, на исповедь, буду тебе грехи твои языческие отпущать. Я, глупая, и пришла, а он как начал руки свои распускать, под подол мне залезть хотел... Не сказали ему, видать, про особенность женщин рода нашего – ежели взять любую против воли, проклятье застигнет испохабника. Только в ночь Бельтайн выбираем мы возлюбленного нашего, и можем понести от него, и родить дочку, чтобы род знахаок продолжался, и удача всегда будет тому, кто будет избран любимым нами, только не сможет он никогда ни одну женщину боле полюбить, а всегда тоской по нам, женщинам рода знахарок вельшских, исходить будет...»
Рыжая говорила и расчесывала волосы, и с каждым движением дешевого гребня волосы ее словно огнем наполнялись под светом чужих звезд восточного неба, такого далекого от неба ее родных островов. И огнем обжигала языческая ересь в словах ее, когда рассказывала она про судьбу свою, приведшую ее на один из кораблей, несущих на своем борту крестоносцев в Иерусалим: «Не далась я ему, монаху этому похабному, сбежала из церкви его прямо в лес, и туда, на холм, к кругу каменному, и всю ночь там провела. А на следующий день захворал монах. Не то чтобы страшное что с ним для монаха приключилось, однако, говорят, пытался он девку одну из деревни нашей опохабить, да и девка, вроде бы, не особо противилась, да не вышло у него ничего. И с другой не вышло – размяк его колышек, из дубового дрына ремнем кожаным стал и обратно в дуб превращаться не желал уж никак. Прознал он от деревенских про особенность рода нашего, да и написал письмо самому лорду Джону, упреждая его: мол, в деревне, что ему подвластна, ведьма живет и служителей Господа колдовством изводит. А лорд Джон и сам в деревню нашу наведался, с отрядом рыцарей своих. Деревню пожег, а меня как увидел, в глаза посмотрел... да и утонул в них. Бывает такое с мужчинами, когда они в глаза женщин рода нашего смотрят пристально. Не делать бы им этого, так разве кто из них женщину послушает? Глупые они, мужчины... Вот и лорд Джон так попался, что велел рыцарям меня в его покои тащить. Я его честно обо всем предупредила, так он мне тогда и говорит: «Как я есть твой лорд, имею право прима нокты, первой ночи на тебя, однако хочу, чтобы сама ты мне отдалась, потому как красива ты, и желаю я тебя в фаворитках своих иметь». А я смотрю на него, и противен он мне так, что невмоготу. Нет, говорю, милостивый лорд, не могу я, потому как ты и деревню мою пожег почем зря, да и не нравишься ты мне попросту...
Осерчал лорд Джон, велел священникам меня судить да ведьмой объявить, и на кресте сжечь. А суженый мне Бельтайном жив остался – на охоте был в день, когда лордовы рыцари деревню жгли. С дружками своими, такими же лучниками-охотниками, прямо в день казни, напал на крепость да и вызволил меня... Как сейчас помню – подносит палач к хворостинам, что у подножия креста сложили, факел... Подносит, да не доносит – стрела из лука вельшского, что длиной своей выше роста человеческого и потому стреляет далеко, в затылок ему впивается. А дальше – охранников, одного за другим, стрелы протыкают, и падают они, а суженый мой с дружками своими, все в зеленых плащах лесных охотников, из толпы вырываются, да ко мне бегут... Лорда Джона двумя стрелами через плащ горностаевый к трону его пригвоздили, однако ж убивать не стали, потому как не хотел любимый мой рук своих кровью дворянской пачкать, рыцарей против себя настраивать... И зря! Всё равно объявили его да дружков-охотников разбойниками, так что пришлось суженому моему со мной да дружками бежать... Во Франкию бежали мы с ним, и было нас он да я, да десять дружков его. По пути прибились к нам еще двадцать, вот те, самые что ни есть отчаянные разбойники, что торговый люд на больших трактах грабили. Эти от гнева Ричарда бежали, потому как охотились за ними шерифы королевские... В городе Кале отряд собирался, чтобы оттуда на кораблях в Константинополь плыть, а уж там соединиться с братом королевским, сенешалем, и уже с ним в поход крестовый идти. Мы в отряд тот и записались, мужики – лучниками, как и многие из наших вельшских, что из островов британских решили в крестовый поход за добычей отправляться, а меня в прачки определили».
На глазах у монашки менялась прачка. Бледная кожа наливалась здоровой, матовой белизной, а грязь словно отшелушивалась от рук, покрытых до того струпьями и язвами. По щекам, сверкая, бежали слезы, смывая грязь, пока только неровными дорожками с лица, скрытого тьмой ночи да окруженного ореолом уже огнем сияющих рыжих волос. Голос же всё крепчал, продолжая рассказывать удивительную историю этой странной прачки:
«... А однажды ночью главарь тех разбойников тайно в комнату пришел, которую мы с суженым моим в таверне снимали. Жили-то мы в одной комнате, да только любить меня не смел он, знал, что только одна ночь в году нам дана, Бельтайнова, когда проклятье не коснется его. Потому и терпели оба, хотя страсть как любить хотели друг дружку. А этот в комнате прятался, дождался, когда уснули мы, суженого моего прирезал, а меня силой взял. Сказала я ему про проклятье, да только он не поверил – эти двадцать разбойников из англичан были, не из вельшцев наших. Сначала не поверил, а как во второй раз меня взять захотел – так и не вышло ничего у него. Ох, и озлился он, вызвал своих разбойничков, что снаружи его дожидались, да велел им спящих дружков суженого моего разбудить и, мечи приставив, привести в комнату. Там приказал им меня по очереди похабить, а те отказались. Тогда связали они вельшцев да и сами
поочередно меня похабили. Не знаю, случилось чего, но только остальных проклятие это не коснулось, только того, кто первым меня взял. И тогда, когда кровь из меня потекла от насилий ихних, сила во мне черная проснулась, и сказала я, что прокляты они все, и не дойдет до Святой Земли ни один из них, но помрут в муках, и будет им казаться, что горят они в огне, прежде чем жизнь покинет их, но даже после смерти тела их в землю не лягут. За то же, что вельшцы мои даже под угрозою меня похабить отказались, будет им удача, и ждет их смерть честная, в бою, а до того запрещаю им руку поднимать на мучителей моих. Потому как недостойны они легкой смерти от железа честного. Англичане только посмеялись, и с тех пор так и повелось – шли мы в Землю Святую, и каждую ночь насиловали меня разбойнички, а вельшцы мои как бы в стороне от всего этого стояли. А я как будто каждую ночь от них силы брала, да и училась потихоньку силой своей управлять. Потому как женщина я, и хочется мне любви мужской не раз в году, по праздникам Бельтайн, но чаще, и на этих вот смертниках и училась... Они поначалу и не замечали, что хиреют после каждой ночи, а я... я силу в себе копила. Ждала, когда сказанное мной исполнится. Знала, уверена была – непременно будет это, и вот... Сегодня в воду все двадцать ушли, и последние тринадцать дней и ночей горели они огнем и жаром внутри тел своих... А вся сила, что была в них, теперь – моя!»
Совсем другая женщина сидела теперь перед монашкой. Закончив говорить, Рыжая воистину преобразилась. Зеленые глаза ее сияли светом, ничуть не меньшим, чем яркие, крупные звезды в небе над плывущим по Средиземному морю кораблем. Волосы огненным потоком опускались на гордо расправленные плечи красивой молодой женщины, так не похожей на то забитое создание, что с гребнем в руке еще час назад подошло к монашке с просьбой исповедать ее.
–Отпустишь ли ты мои грехи? – спросила женщина и испытующе посмотрела прямо в глаза смутившейся монашке. Уж слишком чувственным был взгляд, слишком много в нем было жара, который иногда беспокоил и ее, давшую обет безбрачия монашку Ордена Святой Магдалины. Но ответила она на вопрос скромно и с достоинством, причитающимся ей по сану:
–Я не могу принять твою исповедь, да и грехи твои отпустить не могу, ведь судя по всему, ты и некрещеная вовсе... То есть... ты ведь... не христианка?
–Это иудеи константинопольские так обычно отвечают – вопросом на вопрос, – вдруг засмеявшись, сказала вельшка. Затем успокаивающим движением взяла монашку за руку. – Да и не нужно мне никакого отпущения грехов. Ты права, я не христианка и исповедь мне не нужна... Просто... я должна была кому-то всё рассказать. А ты мне нравишься. Ладно, пойду я спать. Завтра будет хороший день! – Рыжая резко встала и ушла на корму.
А на следующий день по всему кораблю раздавался ее смех, она шутила и заигрывала с солдатами, ночами же... Ночами она смеялась по-другому. И смех этот вносил смятение в душу монашки из Ордена Святой Магдалины... Лишь вспоминая, КЕМ была ее святая, монашка истово молиась о прощении за то, что осмелилась судить. Ко дню, когда корабль наконец причалил на пристани Алеппо, за зеленоглазой ведьмой твердо закрепилось прозвище, данное ей солдатами, – Шалунья Рыжая.
Уже здесь, в пустыне, среди солдат стала популярной песня, неизвестно кем сочиненная, но несложные и откровенно вульгарные слова которой вызывали у рыжей прачки смех всякий раз, как она ее слышала у походных костров:
- Шалунья рыжая ножкой топнет,
- Шалунья рыжая в ладоши хлопнет,
- Шалунью лорд в покои не дождется —
- Ее сегодня миленький уж топчет.
- Шалунья рыжая над лордом посмеется,
- И лордов клин, как веточка согнется.
- Шалунья рыжая – солдатская подруга.
- Солдатам дарит ласку без испуга.
- Шалунья рыжая ножкой топнет,
- Шалунья рыжая в ладоши хлопнет,
- С солдатом в пляс ночной пойдет без страха,
- А лорд богатый по шалунье сохнет.
Песню пели хором, а кое-кто из вельшцев даже подыгрывал на простеньком подобии гамба-виолы. И пускалась в пляс вокруг ночных костров Шалунья Рыжая, выбирая себе солдатика, с которым в пустыню подальше уйдет и вернется лишь под утро, с сияющими глазами, еще больше полная жизни и радости. И лишь монашка, после той памятной ночи на корабле внимательно присматривавшаяся к рыжей прачке, замечала, что если не в первой, то уж во второй из частых стычек с воинами пустыни, в числе погибших непременно оказывался и тот солдатик, что уходил с зеленоглазой в ночь. Когда подобное случилось уже с третьим по счету «миленьким» Шалуньи Рыжей, монашка не выдержала, подошла рассмотреть рану, от которой погиб молодой, полный силы кнехт-германец. Ничего странного не заметила – обычная уже для этого похода смерть от косого удара тяжелого меча с раздвоенным у конца лезвием – зульфукаром, как их называли кочевники. Разве что... Удар пришелся в ключицу, туда, где должен быть наплечник, что мог бы ослабить смертоносную силу клинка... возможно, сохранить солдату жизнь. Однако наплечник почему-то болтался у самого предплечья – лопнул ремень, удерживавший эту часть доспеха пехотинца на должном месте, и ничто не удержало сталь, разрубившую воина от ключицы до самой середины грудной клетки...
Чьи-то грубые пальцы ловко и споро развязали запутавшиеся ремни, убрав из поля зрения монашки эту целую, а потому, еще, может быть, полезную для других солдат часть доспеха... Монашка почувствовала на себе пристальный взгляд и, подняв глаза, встретилась с зеленым огнем в зрачках рыжей вельшки. Пристально смотрела Шалунья Рыжая на монашку, так, что той стало не по себе... затем вдруг, так же внезапно, как и тогда на корабле, прачка пожала плечами, опустила глаза и стремительным шагом удалилась куда-то в глубь, лагеря, растревоженного очередной молниеносной атакой пустынных бедави, что унесла жизнь ее вчерашнего любовника.
Вечером рыжая прачка подошла к монашке, получавшей свою долю варева из походного котла, и, дождавшись, пока та наполнит глиняную миску и отойдет в сторону для нехитрой вечерней трапезы, последовала за ней.
–Ты того... только не думай, что это я их... того... – отчего-то смущаясь, начала она разговор.
–Я ничего не думаю. Ибо не хочется мне верить, что Диавол через тебя творит свои козни и сеет смерть среди воинства Христова... – торопливо перебила прачку монашка и вдруг поняла, что сама злится на себя за эти трусливые слова.
–Ты имя лукавого к ночи не поминай! – вдруг очень серьезно сказала рыжая и схватила монашку за плечо, удерживая от попытки уйти. – Ты не бойся меня. Я тут колдовством не маюсь, а то, что помирают солдаты, – так на то воля Божья или судьба солдатская, уж как вам верить удобнее...
–Верить удобнее? – Вся злость монашки вдруг взорвалась, вулканом гневных слов выплескиваясь на рыжую хохотунью. – Удобнее, говоришь? Да кому же вера такая удобна, чтобы ради нее из сторон родных да в пустыни чужих палестин пускаться? Вера – она не бывает удобной. Она либо есть, либо нет ее, как у тебя вот. Ничего у тебя нет, ни души, ни веры! Что ты делаешь тут, среди воинов, что за веру свою на землю эту пришли и страдают денно и нощно в пустыне чужой?..
Испугалась Рыжая. Как будто ударила монашка ее. Рукой прикрылась и заговорила, оправдываясь словно:
–Так я того... я просто жить хочу... А там, среди церквей ваших, нет мне жизни. Сожгут ведь... ни за что... Не за мои, но свои грехи – меня сожгут...
Монашка ясно почувствовала страх Рыжей, поняла, что та боится ее... И с пониманием этим как-то странно снизошло на нее спокойствие, и она даже позволила себе покровительственно сказать:
–Я тебя ни в ведьмовстве не обвиню, ни на костер не пошлю...
Рыжая настороженно посмотрела на монашку:
–Почему не пошлешь?
–Потому как тяжело тут с деревом для костров, а на лепешках верблюжьих тебя поджаривать уж больно хлопотно будет! – сказала и впервые за всё это путешествие рассмеялась, причем собственной же шутке, монашка Ордена Святой Магдалины. Изумленная, смотрела Шалунья Рыжая на смеющуюся монахиню, а спустя миг и сама засмеялась звонко и заразительно, и так смеялись две женщины из далеких земель в темнеющей, чужой пустыне. Пустыня же слушала, вечно меняющимся узором песков узнавая... запоминая... влюбляясь в этот смех.
Так началась эта странная, не понятная никому во всем воинстве, следующем по пустыне в Иерусалим, дружба между монашкой Ордена Святой Магдалины и Шалуньей Рыжей, прачкой при армии крестоносцев. Дружба эта стала чем-то очень важным для обеих – монашка с нетерпением ждала каждого прихода прачки, Шалунья же порой могла пропустить даже встречу с очередным кавалером ради еще одной беседы с той, к кому она испытывала настоящее уважение. Кстати, единственной здесь, в отряде из тысячи с лишним душ, к кому она это чувство испытывала.
–Ты ведь больше не боишься того, что я предам тебя как ведьму? – спустя месяц после той ночи монашка вдруг поинтересовалась у своей подруги. Рыжеволосая задумалась, слегка прищурив глаза, зелень которых, казалось, за последнее время несколько выцвела от палящего солнца пустыни и вечной пыли вокруг. Затем ответила:
–Нет, наверное. Я об этом почему-то больше не думаю. Да, тебе, наверное, будет интересно узнать... Один из моих любовников до сих пор жив.
–Это который? – Монашка с интересом обернулась к прачке, отставив в сторону раку с мощами очередного святого.
Шалунья Рыжая прикусила губу, словно решая, открыться ли подруге. Но той явно не терпелось:
–Сказамши «альфа», глаголь и «бету»! – поторопила монашка, процитировав присказку настоятельницы монастыря Святой Магдалины в Риме. Однако прачка лишь удивленно и непонимающе посмотрела на нее.
–В смысле, начавши, говори до конца! – уже несколько раздражаясь, пояснила суть монашка, в который раз напомнив себе, что говорить надобно проще, иначе ее и так немногие среди окружающих понимали. Прачка на этот раз всё поняла и, кивнув, продолжила:
–Только обещай, что никому не скажешь об этом! Это – французский сенешаль, что возглавляет нашу армию. Говорят, он старший брат самого иерусалимского короля...
–Он и правда его старший, но в семье у них самый старший – другой король... Французский... – задумавшись, проговорила монахиня.
–Так ты обещаешь, что никому не скажешь?
–Может, тебе еще поклясться именем моей святой? Так для тебя же наши святые ничего не значат!
–Зато для тебя значат. Твоя святая значит что-нибудь для тебя? Ну вот, клянись ею!
–Не могу... я просто дам тебе слово. Я лишь раз клялась ее именем – если спасет меня, разделить ее судьбу...
–И как, спасла? А что за судьба была у твоей святой?
–Согласно писаниям, она была блудницей, которую Христос спас от суда и убиения камнями, отвратил от греха и наставил на путь истинный.
Рыжая Шалунья захохотала и долго не могла остановиться... Монашка же становилась всё суровей, так что прачка, разглядев сквозь слезы, выступившие от смеха, выражение лица у той, смеяться перестала и примирительно сказала:
–Мне в самом деле понравилась твоя святая. Может, это моя суьба – стать однажды святой, а не твоя?
Монашка улыбнулась честолюбию своей подруги:
–Для этого тебе следовало бы, для начала, хотя бы принять крещение и войти в лоно Матери Церкви.
–Человек, единожды из лона матери выйдя, в любое другое лоно войти может лишь по-другому. И право это уже есть только у мужчин... – хлопнув себя по животу, со смехом сказала рыжеволосая. Она с предвкушением ожидала еще одной из серии непрерывных попыток монахини убедить ее отказаться от веры в духов, в которых верили ее предки, в Великую Матерь, которой поклонялись женщины в роду ведьм Бельтайна, и принять христианство. Попытки эти ее забавляли, особенно же ей нравилось в споре с монашкой описывать удовольствия, которых из-за своей веры лишилась эта молодая и красивая женщина, приняв постриг. – Лучше уж ты поверь в Великую Матерь, сотворившую мир и всё в нем, и отдай свое лоно мужчинам, чтобы почувствовать их любовь. Знаешь, как на самом деле наши солдатики уже давно поглядывают на тебя? Не на сестер твоих из Ордена – одна слишком старая, а вторая плоская, что доска, и нос у ней, как клюв вороний. Говорят, пусть ей капеллан наш радость райскую дарует – уж больно подходят они друг дружке. А тебе природой такое тело дано, что грех ему не рожать жизнь новую... Хотя... ты же сама просила у своей святой ее судьбы... Может, она еще будет у тебя – судьба блудницы?..
На этот раз рыжая прачка зашла слишком далеко. Впрочем, поняла она это уже поздно, услышав тихое, шипящее из плотно сжатых губ еще минуту назад, казалось, спокойной подруги:
–Уходи! Сейчас же! Вон!
Страх, позабытый за прошедший месяц, вновь захлестнул Рыжую Шалунью. Она выбежала из шатра монахини и какое-то время бесцельно бродила по лагерю, пока ее не нашел один из молодых оруженосцев, сопровождавших французского сенешаля:
–Mademoiselle, Его Высочество желают, чтобы я привел вас к ним в шатер! – многозначительным шепотом, важно выпучив глаза, проговорил он, приблизив свое юное, лишь слегка обрамленное пушком лицо к ней. Спокойствие и уверенность вернулись к прачке, уже третью неделю с постоянством, достойным фаворитки, посещавшей ложе родного брата двух королей. Она пристально посмотрела на юного франка, заставив того смутиться и опустить взгляд, вздернула бровь и повелительно, словно сама была королевских кровей, бросила ему:
–Веди!
По пути к шатру сенешаля она заметила, что лагерь спешно собирается, словно призванный выступить в поход. Поинтересовалась у своего провожатого:
–Разве теперь будем двигаться и ночью?
Оруженосец поспешно ответил, желая угодить обладательнице этих чарующих зеленых глаз, от которых его давно уже мучили греховные сны:
–Разведывательный отряд заметил впереди лагерь кочевников, этих пустынных дьяволов, в прошлый раз убивших наших рыцарей. Сенешаль считает, что нам нужна хоть какая-то победа после случившегося, и велел срочно собраться всем бойцам, чтобы напасть на этот отряд и уничтожить его. Обоз с продовольствием, прачками, ранеными и лекарями останется тут, мы вернемся за ним позже. Его Высочество пожелал вас видеть прямо перед выступлением...
Его Высочество отпустил свою фаворитку уже через час – к этому времени практически все боеспособные люди в его небольшой армии, чуть более восьмисот человек, были готовы атаковать находившийся за грядой дюн, как доложила разведка, лагерь кочевников. Сенешаль, опасаясь засады, велел выступить даже пехоте. Согласно его стратегии, именно пехота должна была первой атаковать сам лагерь, кавалерия же – не позволить кочевникам уйти в пустыню.
Уже далеко за спиной, скрытый высокими дюнами, остался свой собственный лагерь с обозом, ранеными, прачками, капелланом с его тремя монашками и отрядом охраны в четыре десятка лучников с британских островов. Сенешаль, заняв со своими оруженосцами вершину одного из холмов, наблюдал, как германские кнехты и генуэзские пикинеры, числом в пять с половиной сотен, плотным строем спускаются к лагерю кочевников, выставив перед собой пики. Какими бы великолепными наездниками не были пустынные дьяволы, против пехоты пикинеров никакой кавалерии не устоять – эту науку сенешаль, прочитавший перед походом множество трактатов о военном искусстве и великих полководцах, усвоил твердо.
Твердым был шаг пехоты. Твердым, но медленным. Солнце успело наполовину скрыться за холмами, когда германцы и генуэзцы, твердо соблюдая наказ не нарушать строй, спустились с холма и двинулись к лагерю. Солнце полностью ушло за холмы – вечер и ночь быстро сменяют друг друга в пустыне, и уже при свете звезд строй, ощерившийся пиками и копьями, вошел в лагерь. Бессмысленно ткнул остриями в войлочные стены кочевничьих шатров... чтобы солдаты поняли – лагерь пуст!
Еще с полчаса сенешаль грозил разведчикам карами небесными и земными, а те смиренно оправдывались – мол, сами видели, и женщин, и детей, игравших между шатрами, да и вы поглядите, Ваше Высочество, даже костры под котлами в лагере потухнуть не успели... Еще мгновение после всего потерянного времени, чтобы в голову сенешалю пришел очевидный ответ – ЗАСАДА! И еще час, выстроившись в оборону вокруг холма с Его Высочеством, рыцари и пехота ждали нападения. Не дождались... И тогда лишь сенешаль понял... Без слов, развернув коня, пришпорил и погнал испанского скакуна, бережно привезенного с собой, поднимая пыль пустыни, обратно, в сторону СВОЕГО лагеря... Понимание сенешаля как будто без слов дошло до всех – рыцари скакали, пехота же бежала, нарушив всякий строй, обратно, туда, где уже догорали в ночи пустыни шатры и повозки... (Без привычного «хурраа», молча летели всадники, закутанные в черную ткань и на скаку бросали факелы в светлую от покрывавшей пыли ткань шатров крестоносцев... Шатер, где оставались монахини, вспыхнул, из него успела выскочить молодая монашка, в полном монашеском облачении... Другая, старшая из троих, уже ложилась спать и потому была в одной ночной сорочке... не желая выскакивать наружу в одном белье, пыталась одеться, но пылающий шатер обрушился на нее, и чем больше она металась, тем сильнее закутывалась в горящую, плотную ткань... сгорая вместе с ней на глазах своей растерявшейся от увиденного сестры по Ордену.) Они бежали туда, где лежали, изрубленные кривыми зульфукарами, британские лучники (вельшцы и бритты дорого продали свои жизни – за сотню шагов от лагеря слетели со своих коней ровно два десятка кочевников, встретивших свою смерть от их стрел, и еще два десятка всадников потеряли своих коней, потому что промахиваться эти лучники не умели, ни в бегущего оленя... ни в скачущего во весь опор на них врага! Но слишком много их было – больше ста сыновей пустынного племени Фатих-и-аскер атаковали сегодня неверных, пришедших в землю их отцов, и мстя за предательски, из засады, убитых двоих во время обмена прачек на золото)... Поднимая пыль в черный ночной воздух пустыни, они бежали к своим раненым, которые уже были добиты до смерти (один из германских кнехтов, раненный в ногу и лежавший в повозке, умудрился бросить нож в спину проскакавшего мимо бедавина... бросить – и попасть... И тогда все прочие, словно по приказу, развернули коней и молча, внимательно, не пропуская ни одного еще живого, начали добивать раненых)... Бежали, чтобы, добравшись, в ужасе остановиться у разорванного в клочья шатра с крестом – походной часовни, где лежали капеллан и худосочная монашка... лежали друг на друге, и обоих вместе с ковром, устилавшим пол шатра, к каменистой пустыне прибили длинным, черным копьем, каким пользовались кочевники. (Шейх не велел трогать священников и Дом Бога, но лошадь этого бедави с копьем зацепила копытом один из кольев шатра, канат, и попросту сорвала ткань, открыв взору своего всадника совокупляющиеся тела... Кочевник знал, что христианским священникам запрещена плотская любовь... и, решив, что перед ним воин, оскверняющий собственный храм, подскакал и со всей силы вогнал копье в спину мужчины). Не было видно ни одной прачки – шейх особо наказал не убивать, но забрать всех женщин, чтобы потом попытаться вновь продать их, ибо он уже понял, как важны для этого оинства его блудницы... Одну же, зеленоглазую, четвертый сын шейха еще в прошлый раз заприметил и решил оставить себе наложницей, потому сам подлетел к ней на своем быстроногом жеребце, схватил за роскошные волосы цвета огня, немного поволок, прежде чем она потеряла сознание, и, перекинув через луку седла, ускакал обратно во тьму пустыни... Каждый бедави рядом с ним скакал с такой же ношей – забрали всех женщин, кроме одной. В полном монашеском одеянии стояла она – инокиня из Ордена Святой Магдалины, держа в руке крест. Слез на ее лице не было. Они успели высохнуть, прежде, чем воины Христовы успели дойти до нее. Дойти, чтобы помочь исполнить клятву, данную когда-то: разделить судьбу своей святой...
Короткое рондо (вне времени)
Мама! Сквозь пыль чужих дорог, пепел чужих костров, под крышами чужих домов, сквозь разбитые витражи чужих церквей светишь только ты путеводной звездой, что не даст потерять дорогу к дому родному... В горах, где орлы – как дома, в пустынях, что родина лишь скорпионам, в долинах, где сегодняшнее плодородие – залог завтрашнего грабежа, сквозь облака насквозь пропахшего дымом неба – две звезды твоих глаз, Мама...
Мама! Никто из детей твоих не просил тебя об этой жертве, но во имя жизни ты приносишь ее каждый раз, чтобы однажды услышать, как позовут тебя – Мама! Кровью и болью своей платишь ты за это имя, страданием бессонных ночей, слезами усталых глаз искупаешь вину каждого своего ребенка... Мама!
Убийца и праведник, воин и монах, блудница и девственница – все равны в глазах твоих, Мама! Король и шут, палач и жертва – все виновны пред тобой, Мама! И с каждым смертным грехом заслуживают они еще одно твое прощение, только позвав тебя по имени – Мама!..
Истории не нужны имена. Ни убийца, ни праведник, ни воин, ни монах, и даже король в постели блудницы, и шут в объятьях девственницы не заслужили имени – если в истории так и не осталось имени твоего – Мама!
Разбитый и собранный, убитый и воскрешенный, обрезанный и крещеный, Он пронесет с собой имя твое, чтобы тихо, одними губами, распятый на кресте истории, со спиной в шрамах от орлов... римских ли знамен, гор ли Аламута... прошептать – Мама!..
И тем искупятся грехи человеческие... Ибо нет ребенка, что не пронесет этой любви в сердце своем – сквозь пыль чужих дорог, пепел чужих костров, разоряя кров своего и чужого дома, разбивая витражи всех домов божьих, летая орлом и разделяя яд со скорпионами... Этой любовью жив Человек. Любовью к тебе. Прости же детей своих, Мама!
Глава VIII – ЯД СКОРПИОНА (КАРАВАН В ИЕРУСАЛИМ)
Ловить скорпиона, собственно, было не так уж и трудно. Гораздо труднее было добывать его яд. Но и с этим они справились. Муаллим требовал научиться пользоваться каждым даром Всевышнего и превращать эти дары в оружие на пути джихада. Сейд, вместе с тринадцатью первыми учениками Муаллима, отправился в пустыню добывать яд скорпиона. Задание было простым. Углубиться в пустыню. Поймать как можно больше скорпионов и набрать яд в тринадцать небольших флаконов из багдадского стекла, в которых обычно женщины хранят благовония. Чтобы наполнить один флакон, требуется поймать триста скорпионов. А еще было задано ни с кем не встречаться, не разговаривать. Избегать оазисов. Не просить ни у кого пищи и воды. Выжить. Вернуться. Просто.
Пустыня ждала его – Сейд это понял сразу, как только увидел пески родной пустыни, взял их полную горсть, просыпал сквозь пальцы и снова взял... вдохнул воздух... Он был дома. В этих песках была его кровь. Она была везде... как и кровь мамы... Сейд был дома. И никто не мог его понять лучше, чем эта пустыня, этот воздух, этот мелкий песок, смешанный с камнями. Песок рассказывал, и Сейд слушал. Он научился слышать пустыню – лучше, чем когда был ребенком и жил здесь. Наверное, потому что тогда он еще не подарил песку свою кровь?
Песок рассказывал, что когда-то тут было море. Мелкие камни соглашались, подтверждая своей покатостью шепот песка, и обещали сами однажды стать песком – когда придет их время. Песок говорил, что пустыня любит его, и Сейд верил. Он не искал скорпионов – пустыня сама приводила их к Сейду, и ему оставалось только делать свое дело. Убивать этих детей песка, которых пустыня дарила ему как жертву за любовь. Сейд благодарно принимал дар, читая «Аль Фатиха» по каждому убитому скорпиону. И пусть другие скажут, что это святотатственно – Сейд, как суфий, верил в то, что если Всевышний есмь во всем, что существует, то и «Фатиху» правоверный воистину читает не по ушедшему из жизни человеку, но по той частице Создателя, что возвращается к Нему, покидая погибшую плоть. А значит, эта частица уходит и из погибающего скорпиона. «Аль Фатиха» и «Эль Ихлас» – первая и последняя суры Кур’ан-И-Керим’а не покидали его уст, шепотом вторя песням песка... становясь частью вечного рондо пустыни.
Тринадцать воинов-гашишшинов, выкормышей Орлиного Гнезда в Аламуте, разошлись по пустыне, и Сейд был рад, что может побыть у себя дома. Пустыня могла убить их всех, но Сейд сказал пескам, что они – его гости, и пески вспомнили обычай бедавинов – гостеприимство свято! У него нет условий, есть лишь залог – честь пустынного федаина, принимающего в шатре своем странника волей Всевышнего. Вся пустыня была шатром Сейда, и он был гостеприимным хозяином в мире песка и бесконечного неба.
Вспоминая горы Аламута, Сейд чувствовал, что он и есть мост между двумя такими разными мирами, и, улыбаясь, читал пескам строки:
–Во мне вместятся оба мира...
И читал бескрайнему небу над пустыней:
–Но я и в мире не вмещусь...
Я суть, я – не имею места...
Ласково обращался к убитому ради капли яда скорпиону:
–И в бытие я не вмещусь.
Смотрел пронзительным орлиным взглядом на горизонт, словно пытаясь проникнуть за пределы и пространства, и времени, а губы шептали:
–Всё то, что было, есть и будет...
Нагишом ложился в ласковые объятия песка ранним утром, когда пустыня только начинает прогреваться первыми лучами восходящего солнца, и тихо признавался:
–Всё воплощается во мне.
Кричал в сердце пустынной бури, сдиравшей плоть с костей, но щадившей своего сына:
–Не спрашивай, иди за мною!
Качая головой, отвечал на немой вопрос в глазах прочих товарищей, переждавших бурю в скальных пещерах и удивлявшихся тому, что Сейд выжил:
–Я в объясненье не вмещусь.
Все тринадцать вернулись в Аламут. И все, не сговариваясь, признавали главенство Сейда после этих дней, проведенных в пустыне. Муаллим, выслушав рассказы учеников о походе, лишь промолвил коротко:
–Среди нас зреет айдын – просветленный. Мир ему. В этом – свидетельство верности учения и залог лучшего будущего.
После чего вызвал Сейда к себе и велел готовиться в дорогу. Муаллим собирался покинуть Аламут – впервые за последние пять лет. Муаллим собирался в Иерусалим, выполнять данное Железному Копту обещание. Муаллим собирался убить магистра тамплиеров.
Дорога в Иерусалим – второй раз за прошедшие полтора года – для самого Сейда не представляла ничего интересного. Он всё также не видел (или правильнее сказать – не замечал? – Сейд не знал этого) женщин. Хотя... нет, все он замечал и запоминал, но – не ВИДЕЛ! Потому что по-настоящему ВИДЕТЬ, а значит – ЧУВСТВОВАТЬ, он мог только тогда, когда смотрел глазами орла. А в такое состояние он за свою короткую жизнь входил лишь трижды. Первый раз – когда убил орла и стал орлом. Второй – в башне у Железного Копта, когда приходил в Иерусалим, чтобы убить праведников-имамов. И в третий раз – совсем недавно – в пустыне, когда ВИДЕЛ песок. Торопить четвертый раз он не спешил. Потому что боялся он этих ощущений ничуть не меньше, чем желал испытать их снова. Он чувствовал, что в этом состоянии он не смоет убивать. Какой же он тогда гашишшин – воин на пути джихада? К тому же состояние это, судя по всему, приходило само, и вызвать его по желанию не получится... Впрочем, Сейд и не пробовал. То, что предстояло сделать, требовало полной его сосредоточенности. Учитель взял с собой именно его. Только его. А значит, и рассчитывать мог только на него. На Сейда, своего лучшего ученика, воина-гашишшина, а не юного орла, чувствующего свою связь со всей вселенной, и потому неспособного причинить бессмысленного с точки зрения птицы вреда. Потому что там, в пустыне, вновь став орлом, Сейд понял – Всевышний и война несовместимы. Убивая же человека, человек лишь отдаляется от Аллаха... Как этого не понимает Учитель?.. Всё, хватит! Орел – не человек. Сейд же – воин и мститель, он – человек, и часть войны человека с человеком... И он идет в Иерусалим, чтобы убивать! Он идет вместе со своим Учителем. Вместе с человеком, который называет его сыном!..
Учитель не часто использовал это обращение к Сейду. Когда они были еще в Аламуте, в Орлином Гнезде, он называл его так только тогда, когда они оставались одни. По пути ж в Иерусалим – несколько чаще, чем раньше. Словно проверяя и еще больше привязывая к себе... Учитель вообще вел себя по дороге очень странно. Довольно часто возжигал кальян, заправленный гашишем. По ночам, когда караван, к которому они присоединились, назвавшись купцами, останавливался на отдых, что-то писал своим тайным языком на маленьких свитках из очень дорогого пергамента. Такого, на котором обычно хафизы пишут суры из Кур’ан-И-Керим’а. В одну из таких ночей Муаллим подозвал к себе Сейда и сказал:
–Что бы со мной ни случилось, сынок, ты должен будешь доставить эти свитки в Гнездо... Школа должна жить! Что бы с нами со всеми ни случилось...
Сейд просто кивнул в ответ. Говорить с Муаллимом после путешествия в пустыню ему отчего-то стало очень непросто, а порой – даже неприятно. Он всё чаще ловил себя на том, что перестает верить в смысл того, что они делают. Но вера была единственным, что имело смысл в его жизни. Единственным, как он считал, что делает его человеком. И потому он крепко ухватился за нее, эту разрушающуюся, рассыпающуюся, подобно пескам пустыни, веру, пытаясь удержать каждую крупицу, не дать ускользнуть сквозь щели сомнения, оставив руки убийцы (а ведь он уже – убийца!) пустыми. Потому что тогда эти руки перестанут быть руками человека, и превратятся... во что они превратятся? В когти орла? Или же в оружие, просто оружие, как нож, кинжал, меч, бессмысленный сам по себе, если их не направляет сердце, полное веры, как учил Муаллим? Это пугало еще больше. Сейд очень хотел оставаться человеком.
По пути они часто встречали тех, кто перестал быть человеком. Трупы, совсем новые или же совсем разложившиеся, в изобилии устилали караванный путь. После смерти семи имамов в Иерусалиме противостояние между бедави и христианами стало нарастать. Кланы пустынных бедави атаковали каждый второй христианский караван, христиане же и раньше не брезговали нападениями на караваны мусульманских торговцев... Чтобы спокойно торговать, мусульманские общины, еще проживавшие в христианских городах, хоть и значительно сократившись в числе, платили сумасшедшие деньги наемникам-христианам за охрану в пути. Что, впрочем, вовсе не означало уверенности в безопасной дороге – очень часто такая охрана сама грабила своего же нанимателя. Всё это привело к тому, что цены на базарах Иерусалимского Королевства невероятно выросли, торговля шла на спад, жители роптали и покидали города... Король же иерусалимский был умен и твердо верил словам из Экклезиаста, поучавшим, что «сила государя – в многочисленности народа его...», и потому требовал от своих воинов еще строже наказывать грабителей и обеспечивать безопасность торговых путей. Однако наемники были до денег жадны, жалованье же казна королевства платила невысокое, и потому зачастую те, кто должен был охранять торговцев, сами становились грабителями. Король понимал и это, но платить больше своим солдатам не мог – с ослаблением торговли казна оскудевала, Рим же, в свою очередь, всё чаще проявлял недовольство тем, что подати в виде «даров от короля Иерусалима» в Латеран идут всё реже... а порой и вовсе не доходят. Оставался единственный выход – война! Война с Египтом из некогда каприза короля и его брата превратилась в насущную необходимость. Лев Пустыни же был всё еще жив, а благодаря провалу союза с мусульманскими общинами (и да заберет геенна души убийц этих имамов! – кричал каждый вечер прокаженный король) обретал всё большую власть и поддержку.
Единственной поддержкой короля в этой сложной ситуации оставался Орден тамплиеров. Вернее сказать, магистр ордена, человек, прозванный Сабельником, бывший наемник, авантюрист и великолепный, непобедимый воин и генерал, волею случая возглавивший Восточное Крыло самого сильного из рыцарских орденов христианского мира. Своей воинственностью он вызывал недовольство уже и у самих тамплиеров. Храмовники Западного Крыла Ордена считали, что Тампль свою задачу на Священной Земле выполнил, закрепившись и взяв под свою охрану главные христианские святыни. У Ордена назревали серьезные разногласия с Римом, пути Тампля предполагали усиление власти Ордена в самой Европе за счет контроля богатств Востока. Верхушка Западного Крыла уже неоднократно предлагала Де Сабри претворить в жизнь их план, встав на защиту караванов всех без исключения торговцев, как христианских, так и мусульманских, и даже – иудеев! Согласно измышлениям верховных рыцарей Запада, Тампль на Востоке должен был в кратчайшее время стать самой надежной силой, к которой за защитой обращались бы все. Предполагалось также, чтобы представители Ордена выписывали торговцам «кредитные письма», которые заменили бы собой золотые деньги на всем пространстве влияния Ордена. В результате торговцы бы доверяли (были бы вынуждены доверять!) свои настоящие деньги и ценности Ордену взамен за безопасные в пути, но удобные при расчете «кредитные письма», и со временем Тампль контролировал бы богатства торговцев всех вероисповеданий и народов!
Однако эти дерзкие по размаху, но сложные для понимания солдатом, коим был Де Сабри, планы, магистру Восточного Крыла не могли понравиться. Веруя в силу своего меча и собственную солдатскую удачу, бывший генерал наемников мечтал сразиться со Львом Пустыни, разбить его в сражении, завоевать богатый Египет и, быть может (если дать достаточно денег Риму) стать помазанником Божьим и королем... возможно – того же Египта! А для этого надо пока что поддерживать в его воинственных мечтах прокаженного королька и сдерживать слишком ретивых воинов Ордена, так и рвущихся выйти в бой и с кланами бедави, и с разбойниками, что из числа христиан, грабивших торговые пути.
Совсем недавно, за день до выхода каравана в путь, до Муаллима донесли интересные новости, которыми он счел нужным поделиться со своим учеником. Рассказывали, что из Европы прибыл посланник Западного Крыла Ордена, приведший с собой несколько кораблей, полных воинов-тамплиеров. О человеке этом было известно, что он всё время носил с собой лютню, умело обращался со странным, узким клинком и умел говорить по-арабски так, как говорят в Иберии мусульмане Гранады. Помимо лютни и кораблей со свежими силами для тамплиеров в Иерусалиме посланник привез рекомендации, звучавшие скорее как приказ и призывавшие магистра Восточного Крыла приступить к воплощению в жизнь планов Тампля в Европе. Поговаривают, Сабельник был в бешенстве, однако не стал вступать в открытое противостояние с посланником, ко всему прочему прозывавшемуся еще и Первым Мечом Тампля. А такие прозвища храмовники, к которым Муаллим относился с определенным уважением, просто так не дают! И всё же хитрый солдат удачи Де Сабри нашел выход. Как рассказывали осведомители Муаллима, магистр Восточного Крыла собрал отряд из тех рыцарей, что наиболее рьяно противостояли ему и требовали скорее навести порядок на торговых путях. Поставив во главе отряда новоприбывшего посланника, он отправил его к одному из пустынных оазисов с заданием разобраться с бандой разбойников из бедави, якобы уничтоживших уже пять христианских караванов. Но та, куда этот отряд пришел, оказалась почему-то не разбойничья шайка, а одно из крупных соединений самого Салах-ад-Дина, Льва Пустыни. Причем войска, численностью превосходившие отряд тамплиеров более чем в десять раз, располагались в оазисе уже давно, и на самом деле никаких караванных путей там не проходило. Тамплиеры вступили в бой и погибли. Правда, другой осведомитель джаллада-джаани, явившийся от некоего Акына-Сказочника, рассказал, что погибли не все тамплиеры. Нескольких рыцарей, среди которых есть и человек с лютней, говорящий по-арабски, подобно маврам Гранады, взяли в плен. Того же, с лютней, держит при себе сам Лев Пустыни и даже допускает для бесед в свой шатер.
Де Сабри, однако, кричит на весь Иерусалим, что тамплиеров заманил в ловушку Лев Пустыни, грозится самолично вырвать этому самому Льву зубы и требует от Западного Крыла Ордена еще воинов-храмовников для предстоящей в союзе с иерусалимским королем войны против Египта и его грозного правителя-айюбида. Недавно между Учителем и Сейдом произошел разговор. Один из немногих разговоров за последнее время, что доставил Сейду пусть необъяснимое, но определенное удовольствие, вернул частичку веры в их дело, но при этом немало встревожил. Муаллим сказал:
–Жажда власти и денег подобна яду скорпиона, что сначала парализует мышцы, лишая тело подвижности, и лишь затем приносит смерть, которая ко времени своего прихода воспринимается умирающим как благословение! Яд скорпиона проник в тело Ордена Храмовников, единственной силы в христианском мире, что не жаждет этой войны ради денег, но ведет свой джихад подобно нам, во имя веры и, добившись своего, может остановиться и созидать. Ты – мой лучший ловец скорпионов, и мы идем с тобой изъять ядовитое жало из здорового тела, ибо даже среди последователей Исы, мир Ему, есть те, с кем нам иногда по пути. Но еще важнее – другое. Еще очень давно я узнал из своих видений, что Сабельник заключил союз с шайтаном! Союз против веры собственной и против Праведника Веры! Так он достиг тех вершин, на которых нынче находится. Так он до сих пор умудрялся избежать смерти от моего кинжала. И потому он со своей хитростью и поддержкой Нечистого может оказаться неуязвимым для честного меча Льва Пустыни! С твоей помощью, мой ловец скорпионов, и твоей удачей Сейда я надеюсь победить его!..
Учитель закашлялся, выпустив густой клуб дыма, и вновь присосался к серебряному мундштуку своего кальяна. «Учитель стареет!» – изумленно подумал Сейд, но, не став углубляться в это, воспользовался паузой и задал вопрос на тему, неожиданно взволновавшую его сейчас:
–Но... Учитель! С чего вы решили, что сам шайтан пошел на союз с этим человеком? Разве Всевышний допустил бы такое?
–«И просил Нечистый у Повелителя Миров дать ему время, и сказал Всевышний: «Ты из тех, кому дано время!» Примерно так сказано в Книге, и я не хафиз, чтобы утверждать это точно, но смысл ясен... вернее, ясно то, что замыслы Всевышнего не всегда могут быть ясны нашему разумению... Что же касается шайтана..., – Муаллим хитро прищурился и странно улыбнулся своему Ученику, показывая длинным узловатым пальцем на свой кальян. – Шайтан сам иногда обращается ко мне через дым из этой штуковины!
Муаллим сказал это коротко, хрипло, рассмеялся и закрыл глаза, дав понять, что разговор окончен.
Сейд был встревожен состоянием Учителя. Встревожен гораздо сильнее, нежели постоянным, длившимся всю дорогу ожиданием предательства. Караван был в пути уже месяц. Скоро они должны были достигнуть Иерусалима. Но еще когда они выходили в путь, Учитель поручил Сейду присматривать за капитаном отряда охраны. Караван, к которому они присоединились, состоял в основном из торговцев мусульман, но были и иудеи с христианами. Купцы рассчитывали получить большую прибыль от продажи своих товаров в Иерусалиме, изнывавшем от нехватки самых необходимых вещей. Для безопасности в пути и защиты от разбойников всех вероисповеданий был собран отряд из опытных воинов, также разной веры. Капитан для них был нанят отдельно. Он должен был брать на себя командование лишь в случае нападения на караван, в остальное же время охранники подчинялись караванбаши, старому молчаливому арабу, водившему караваны в Иерусалим вот уже тридцать с лишним лет. Караванбаши не стал спорить с новшеством, признав его разумным: если солдаты охраны и капитан не знают друг друга давно, риск от того, что они договорятся и ограбят собственных заказчиков становился значительно меньше. Однако Муаллим, лишь только взглянул на капитана, сразу же сказал Сейду:
–Будь внимателен к этому человеку. Он из кочевников-туркменов и верит только в силу своего клинка, да в своего Тенгри. А еще у него слишком много дорогих украшений, да и оружие слишком дорогое для обычного наемника. В нем чувствуется властность. И он легко подчинит себе всех солдат, какой бы веры они не были, потому что любой солдат-наемник – на самом деле убийца. Тот же, кто убивает ради золота, всегда отравлен жаждой наживы. В каждом из них течет яд скорпиона, но настоящий скорпион здесь – капитан. Он наверняка договорится с большинством из солдат и попытается ограбить караван. И никто, кроме нас, не сможет ему помешать. Но мы не должны себя выдавать. Ты знаешь, что нужно делать, когда почувствуешь опасность...
Сейд знал. Но разговор с Учителем смутил его, он немного утратил собранность и ослабил внимание, которое в течение всего этого пути было направлено на капитана. И потому происшедшее в эту ночь воспринял как свою собственную ошибку. Хорошо, что ошибся не он один... И если ошибка Сейда заключалась в его невнимательности, из-за чего, собственно, капитану и удалось устроить небольшой переполох во время ночной стоянки, то ошибка капитана была гораздо большей. Хотя бы потому, что ему она стоила жизни. Он так и не учел того, что иудеи крайне редко предают своих соплеменников. Особенно если речь идет о членах семьи. Двое же братьев-мечников, входивших в отряд охраны, оказались родными племянниками одного из купцов, идущих с караваном. Когда туркмен только начал договариваться с прочими наемниками о том, чтобы ограбить их нанимателей по пути, они дали согласие... только для того, чтобы предать.
Караван не сразу становился на ночлег. Некоторое время после захода солнца караванбаши вел свой караван по звездам. Но ближе к полуночи, когда в пустыне начинало холодать, он молча останавливал своего верблюда, похоже, такого же старого, как и он сам. По его примеру прочие караванщики начинали разгружаться и становились лагерем для ночлега и отдыха. После ужина все, кроме охраны, ложились спать. Ближе к заре просыпались, собирали лагерь и вновь выходили в дорогу. Для нападения на купцов капитан охраны выбрал час после ужина, когда усталость людей должна была стать его союзником, наемники же, которые в пути в основном отдыхали, были полны сил.
В ту ночь, после встревожившего его разум и смутившего душу разговора с Учителем, который состоялся как раз во время ужина, Сейд направился в свою палатку. Спать он не хотел, но и не хотел никого видеть, и потому сидел, углубившись в размышления о том, что же происходит с Муаллимом. Вдруг снаружи послышался приглушенный крик. Выскочив из своей палатки, Сейд увидел, как рослый франк-наемник, сжимает своими мощными ручищами не менее мощную шею толстого купца из сирийских армян. Своего, между прочим, нанимателя. Жирный коротышка оказался необычайно живуч. Он пытался разжать руки душителя и даже пнуть того в пах. Всю дорогу веселый и разговорчивый армянин подшучивал над иудеями, спрашивая их, как же они могут выходить в дорогу по субботам. Он советовал им в этот день оставаться на месте, а потом догонять караван. Из Сирии он вез шелк. В Триполи он не смог его продать, потому нанял своего франка и присоединился к каравану, идущему в Иерусалим. Огромному потомку галлов надоела эта возня, и он отпустил шею своей жертвы, резко оттолкнув того от себя, выхватил громадный двуручный меч, закрепленный за спиной, и попытался зарубить купца. Тот, однако, довольно вертко крутился по земле, пока не оказался на пути капитана стражников, быстрым шагом направлявшегося в сторону прикинувшегося спящим Муаллима. Споткнушись об армянина, капитан вынул из ножен саблю и ткнул оказавшегося прямо у него под ногами толстяка куда-то в область ключицы. Тот дернулся и затих.
В этот миг из одного из шатров вышли трое германцев – в прошлом крестоносцев, пришедших в эти земли со своим королем, но позже променявших плащи воинов Христовых на мечи солдат удачи. За собой они волоком тащили двух венецианцев – отца и сына, везущих в Иерусалим груз драгоценного цветного стекла для украшения христианских храмов. Они швырнули своих жертв под ноги капитану, и тот, выдернув свой клинок из плоти армянина, двумя точными движениями перерубил обоим венецианцам шеи.
Тут со стороны, где рядом друг с другом располагались шатры иудеев и мусульман, появились братья-мечники в сопровождении еще троих наемных воинов-бедави. Один из братьев громко, по-арабски сказал капитану:
–Мы со своими покончили!
Капитан удовлетворенно кивнул:
–Со всеми так быстро и тихо? Хорошая работа! – и с недовольством обернулся к франку и германцам. – А вы пока ничем своей доли не заслужили! Разберитесь хотя бы с этими! – Он указал на Муаллима и оказавшегося рядом с ним Сейда.
Учитель казался спящим, но Сейд понял приказ, отданный одним лишь движением губ, словно человек причмокивал во сне: «Не вмешивайся!» Когда здоровенный франк только приблизился к нему, Учитель покачнулся, словно заснувший сидя человек, теряющий равновесие, и упал прямо под ноги громиле. Франк как будто споткнулся, и никто, кроме Сейда, не заметил, что это руки учителя, молниеносно коснувшиеся коленных чашек нападавшего, стали причиной падения гиганта. Тот рухнул в пыль, ударившись затылком о твердую землю иерусалимской пустыни. Послышался треск, словно лопнул спелый арбуз... и черная, блестящая лужа мгновенно образовалась вокруг головы упавшего. Германцы уже приближались к лежавшему на земле Муаллиму, размахивая кистенями, но тут со стороны иудейских шатров раздался детский плач. Одна из купеческих семей путешествовала с грудным ребенком, и шум снаружи, видимо, потревожил сон младенца. Капитан настороженно взглянул на братьев-мечников:
–Там кто-то остался жив?
Братья переглянулись, один из них неуверенно ответил:
–Женщину и ребенка оставили... Можно будет в рабство продать...
Возможно, только сейчас кочевник вспомнил о преданности иудеев своим соплеменникам, а может, неубедительным показался голос и сам вид говорившего, однако рука его вновь потянулась к мечу, и тогда другой брат с криком «ялла!» обнажил свой клинок и бросился на капитана. Крик предназначался пустынным бедави – те, обнажив оружие, в свою очередь, насели на германцев. «Иудеи и арабы договорились между собой!» – подумал Сейд, ничуть, однако, не удивившись. Дети Ибрагима и Давуда, братья по крови, они часто вступали между собой в тайные союзы, с тех пор как крестоносцы явились сюда.
Капитан умело отбивался от менее искусных, чем он, братьев, и даже довольно опасно ранил одного из них в бок, но тут вмешался Учитель. Искусно разыгрывая из себя только проснувшегося от шума человека, он встал и, качаясь, словно пьяный, двинулся на капитана. Тот попытался отмахнуться от идущего прямо на него полусонного купца мечом, как иной отмахивается рукой от мухи. Муаллим шарахнулся от просвистевшего у самого уха клинка в сторону одного из братьев, того, что был ранен, падая, повалил его, но при этом умудрился задеть ногой капитана в живот. Тот согнулся вдвое от резкой боли, пронзившей всё его нутро... и уже не выпрямился обратно – меч другого брата опустился на открывшуюся бритую шею туркмена, отделив голову от тела.
Сейд решил тоже вмешаться – германцы встали в оборонительный треугольник и успешно отражали атаки наседавших на них бедави. Схватка могла длиться как угодно долго, пока кто-либо не совершит ошибки, германцы же ее явно совершать не собирались, показывая слаженность действий – результат долгого обучения и сражений в едином пехотном строю не на одном поле битвы. Сейд схватил висевший над еще тлеющим костром котелок и, размахнувшись, бросил его прямо в центр германской тройки. Горячее варево выплеснулось на голову одному из них, брызнуло на щеку второму. Первый на время ослеп, второй же от неожиданности схватился рукой за обожженное место, на миг опустив клинок. Третий просто отвлекся, но этого оказалось достаточно. Строй был нарушен, и кривые сабли бедави сначала вонзились в горло того, кто вовсе не пострадал от котелка, брошенного Сейдом, а затем одновременно пробили сердце одному и раскроили залитый варевом череп последнему германцу.
–Маашаллах, сыновья мои! – послышалась тихая похвала. Обернувшись, бедави увидели караванбаши, который тихо появился некоторое время назад и бесстрастно наблюдал, как два его родных сына сражаются с гяурами-неверными, предавшими еще и тех, кто их нанял и дал им берекет – хлеб насущный и честный. Ничего не выражающим взглядом он посмотрел сначала на сыновей, родство с которыми он тщательно скрывал с самого начала путешествия, затем на братьев-иудеев, один из которых бережно перевязывал раненый бок другому и только потом обратил свой взгляд на стоящих рядом Сейда и Муаллима:
–Воистину, Всевышний направлял ваши действия этой ночью во благо всем нам! Возблагодарим же Творца всего сущего!
–Шюкраллах! – тихо, в один голос сказали Сейд и Учитель.
Послышался тихий стон. Это подал голос купец-армянин, лежавший доселе на земле. Он даже попытался встать. Караванбаши подошел, наклонился к нему, осмотрел рану и удивленно цокнул языком:
–Жив. И жить будет. Клинок пробил кожу и жир у основания шеи, но не задел ни кости, ни вен. Удачлив, воистину!
–Это хорошо, что он жив, – негромко сказал Муаллим. – Нехорошо было, если бы в Иерусалим пришел караван без единого христианина. Это вызвало бы подозрения, что мы объединились, чтобы убить и ограбить их в пути, и тамплиеры наверняка заинтересовались бы... А нам их интерес не нужен.
Караванбаши на этот раз очень внимательно посмотрел на Учителя, подумал, медленно кивнул:
–Ты прав, туджар-торговец, в этом тоже есть керамет – высший замысел Всевышнего. Он сохранил жизнь этому гяуру, чтобы правоверные не пострадали. Мы вылечим его еще до прихода в Иерусалим.
Караванбаши кивнул воинам-бедави, и те, без слов понимая приказы отца, подняли стонущего армянина и понесли в шатер. Муаллим же повернулся к Сейду и, подмигнув, тихо сказал:
–А еще хорошо, что нам с тобой не пришлось никого убивать сегодня... Почти!
И тихо хихикнув, Муаллим ушел в палатку, оставив Сейда с вновь вернувшимися мыслями о возможном безумии Учителя.
Короткое рондо (во времени)
Безумие наполняло город. Иерусалим ждал чего-то. Впрочем, город этот всё время чего-то ждал, и это ожидание составляло смысл жизни в нем каждого, кто здесь обитал. Король ждал возможности исполнения своих замыслов... и смерти. Евреи ждали Мешиаха, мусульмане – Льва Пустыни и Праведника Веры, и только большинство христиан, уставших от состояния вечной войны, ждали и жаждали лишь одного – мира. И это состояние постоянного ожидания не могло не привести к тому, что люди здесь начинали сходить с ума. Каждый третий мнил себя пророком, каждый второй – спасителем, каждый первый ненавидел вторых и третьих, обещавших ему то, чем он и так был сыт по самое горло, хуже, чем пылью пустыни, постоянно забивавшей все отверстия и пустоты в этом городе, – надежду. Надежда на лучшую жизнь уже не заполняла всё возрастающую пустоту в умах и душах – слишком призрачной она была, слишком часто обманывала веривших в нее. И на ее место приходило безумие, наполнявшее город плотнее и надежнее, чем рваные лоскуты несбывшихся надежд.
Сердце безумия билось в королевском дворце, в груди прокаженного короля Иерусалима. Воспаленный жаждой власти и амбициями мозг безумия разражался мелкими внутренними кровоизлияниями в покоях Магистра Восточного Крыла Ордена Тамплиеров, скрывая свои болячки под огненно-рыжей шевелюрой могучего и хитроумного Сабельника. Из этих двух очагов безумие протягивало щупальца в каждый дом, скручивая мысли обыватлей в тугие жгуты ожидания... ожидания без надежды. Город ждал и жаждал чьей-нибудь смерти. Смерти, которая будет настолько значимой и такой страшной, что перекроет страх за себя самого и свою маленькую, обывательскую, но такую важную для каждого жизнь.
Глава IX – ЯД СКОРПИОНА (РУКИ СМЕРТИ)
Смерть вошла в город через Восточные Ворота и разделилась. Одна рука смерти нырнула в пещеры у самой Голгофы и растворилась в катакомбах, чьи хитросплетения были известны лишь первохристианам, обретавшимся там и скрывавшимся от крестоносцев и их власти. Вторая рука смерти прошла до самой центральной площади, где находилась Башня Палача, известного в городе под прозвищем Железный Копт. Рука постучала в дверцу, зашла внутрь, да так и осталась там до самой ночи. Караванбаши не успел даже понять, куда вдруг исчезли двое странных спутников – старый и молодой купцы-мусульмане. Даже товар, навьюченный на двух не самой плохой стати коней, не забрали. Караванбаши верил в то, что он честный человек, и потому забрал коней с вьюками в караван-сарай, решив, что если за три дня владельцы не объявятся, можно будет забрать товар купцов себе... естественно, передав треть его стоимости в мечеть в качестве зекят.
Уже после заката, когда караванбаши совершил свой вечерний намаз вместе с сыновьями, в дверь его покоев в караван-сарае постучал человек с письмом от старика-купца, что исчез при въезде в город. В письме, учтиво составленном на литературном арабском языке, коим владеть мог лишь алим или же хафиз, обращались к караванбаши с просьбой передать весь груз доставителю письма. Помимо письма человек передал караванбаши увесистый кошель с золотыми монетами – остаток платы за услуги караванщика. Старик, искренне считавший себя честным человеком, обрадовался, что не успел сломать печати на вьюках исчезнувшего купца, как собирался сделать это после намаза, и может без угрозы опорочить свое имя, вернул их владельцу.
Заполучив коней с вьюками, человек вывел их из города и повел в сторону Голгофы, ту ее часть, что выходила за пределы Иерусалима. Здесь вьюки были приняты стариком, вынырнувшим, подобно песчаной крысе, из неведомо какой щели в горе. Отослав доставителя, старик поволок вьюки в одну из пещер у подножия. Прошло довольно много времени, прежде чем он снова появился, но вьюков при нем уже не было. Зато он во множестве рассыпал по земле серый порошок, время от времени низко наклоняясь к поверхности горы и осторожно выкладывая на землю, то там, то тут, маленькие кожаные мешочки...
В это время в Башне Палача вторая рука смерти, явившейся в Иерусалим вместе с караваном, размышляла. Для того, кто был избран дланью, несущей смерть, этот человек вообще слишком часто и много размышлял. Рука не должна думать. Рука должна делать. Об этом он тоже размышлял, глядя на руки Железного Копта, королевского палача, того, что волею судьбы должен был послужить сегодня смерти одного из двоих, кому считал себя обязанным жизнью, – Учителя и Хозяина. Именно так – Хозяином – он называл Сабельника. Его, а не короля, которому служил официально. Сабельник был его истинным Хозяином, владыкой его жизни – так он решил для себя много лет назад, когда поступал на службу тогда еще к капитану наемников, позже ставшему Магистром Восточного Крыла Ордена Тамплиеров. Однако Учителя он почитал отцом, ибо отца своего не знал. Джаллад-Джаани же выкупил мальчика-христианина у работорговцев-йезидов в Каире и сделал своим учеником, когда служил еще дяде Праведника Веры, Льва Пустыни... Обучил Искусству... И подарил свободу, уходя из Египта в Малую Азию. Всё это время Железный Копт танцевал свой неуклюжий танец между верностью и предательством каждому из двоих. Мудрость Муаллима поддерживала его, когда он думал, что сорвется, ибо Джалладу-Джаани нужен был цельный человек. Грубость и невежество застилали разум Сабельника, и потому позволяя Египтянину оставаться честным, служа обеим сторонам и не срываясь в предательство ни одной из них. Но сегодня один из двоих умрет. Копт знал это. Знал он и то, что Учитель умнее Хозяина. А значит он, скорее всего, победит. Делало ли это знание Копта предателем?
Об этом думали оба. Молча. Двое учеников Джаллада-Джаани, ставшего и для Сейда, и для Железного Копта Учителем и Отцом, они думали об одном и том же, не догадываясь об этом. Думали по-разному. Сейда больше занимала мысль о том, какое решение примет Железный Копт, сделает ли всё так, как велел Муаллим, или же ему придется убить королевского палача, как было приказано в случае, если он заметит малейший признак предательства. Сейд передал Железному Копту все слова Учителя... Всего три слова: «Жду на Голгофе». Египтянин выслушал, кивнул. Помолчал, ожидая, что Сейд удалится из башни. Но юный гашишшин и не думал никуда уходить. Наоборот, он прежде дождался, чтобы палач отправил из пыточной своего ученика – юному сыну адайского племени, оказавшемуся волею судьбы так далеко от родных степей Сары Арка, что близ Хазара, уже исполнилось девятнадцать лет. По меркам своего племени он уже считался взрослым мужчиной. Однако, по обычаям того же племени, сколько бы ему не исполнилось лет, своего старшего, мастера и учителя, он слушался так, словно всё еще оставался малым ребенком. Этот сын кочевников-туркменов был источником счастья для своего учителя – Палача... потому что, как тот и мечтал, из него рос выдающийся врач. Целитель от Бога – называют таких люди... По первому же знаку Копта высокий, узкоглазый юноша тихо покинул помещение пыточной, даже не взглянув в лицо вошедшему посланцу Аламута.
Сейд же, передав слова Муаллима, отошел в глубь пыточной и встал в нишу, в тень. Место это не просматривалось ниоткуда и было идеальным для наблюдения. Если не знать, что там кто-то стоит... Но Копт знал. Он прошел вслед за Сейдом. Встал перед ним. В нише было темно, черные глаза Сейда не отражали света. Египтянин словно смотрел в черное пятно, которое было вместо лица у юного ученика величайшего убийцы.
–Ты останешься здесь?
–Муаллим приказал остаться с тобой.
Египтянин всё понял. Учитель хорошо знал его. Сегодня танец по лезвию ножа, где с обеих сторон – пропасть предательства, должен закончиться. Сегодня он должен предать кого-то из двоих. И Учитель решил подстраховаться. Он оставил здесь своего ученика. Железный Копт помнил силу этого мальчика, когда в прошлый свой приход тот, даже потеряв сознание и будучи не в себе, чуть не убил его. Теперь, и это заметно, юный убийца стал сильнее. Он – словно сама Смерть, воплощенная в этом совсем еще ребенке, чьи глаза не отражают света, а на лице только начал проступать юношеский пушок. Редкий, как у многих детей пустыни... Копт беззвучно рассмеялся. А ведь он действительно сомневался – может, и не придется никого предавать? Может, Хозяин и Учитель встретятся сегодня, и это будет их бой, и пусть Господь на небесах решает, кому остаться живым после этой встречи, а он, обязанный каждому из них, лишь сделает то, что от него хотели оба?! Ведь чего хотел Учитель? Встречи с Сабельником? И он ее получает! А чего хотел Де Сабри? Встречи с Первым Гашишшином? Копт помогает этой встрече состояться! Каждая из сторон получает от него то, чего хочет. Но! Теперь, только теперь, так близко почувствовав грядущую смерть от недоверия Учителя, он понял, что предает. Знание о том, каков Учитель в действии, дает уверенность в исходе этой встречи. Уверенность в том, что Сабельник умрет. И если Копт не попытается помешать гибели Хозяина – он, значит, будет не тем человеком, которого воспитал и обучил Великий Джаллад-Джаани... Его Учитель!.. Его отец!.. Верность себе самому – то, что делает тебя человеком, говорил Учитель. «Я – человек! – гордо вскинул голову Железный Копт. – Учитель знает, что я сохраню верность. А значит, он уважает меня. Но за предательство отца и учителя полагается смерть. Я мог бы убить себя сам после того, как предал бы обоих, но... возможно, Учитель знал, что я могу не понять... И этот мальчик с лицом Юной Смерти – его послание мне? Напоминание и высшая награда, дабы я не изменил самому себе, предав лишь одну из сторон, и не впал в грех самоубийства, преав обе стороны?.. Только бы его ученик не пришел раньше времени... и не опоздал...»
Сейд не мог прочитать мыслей Египтянина и потому совсем не понял, почему тот вдруг сказал:
–Передашь Учителю мою благодарность за то, что ты здесь...
Сейд кивнул. Раз тот так хочет... Наверное, Железный Копт пребывал в сомнениях. Наверное, присутствие Сейда удержит Египтянина от того, чтобы предать Муаллима, и за это он благодарит того, кто обучил и воспитал их обоих? Наверное...
В дверь постучали. Королевский палач бросился открывать – так мог стучать только Сабельник. По-хозяйски, требовательно. Король сюда не являлся. Прочие же стучались робко... или по-особому, как Муаллим и его посланники. И только Де Сабри стучал в дверь своего палача так, как мог бы стучать в двери запертого кабака с требованием впустить Магистра Храмовников для далеких от храмовничества забав. Сабельник был плохим монахом, и весь Иерусалим знал это. Вот и сейчас, он ввалился в пыточную в сопровождении своего личного телохранителя, тоже из бывших наемников, настоящего головореза, и... бывшей монашки, которую, как поговаривали, по пути в Иерусалим изнасиловали солдаты и превратили в шлюху. Магистр ее подобрал и сделал своей постоянной подругой. Говорят, она хорошо умела врачевать и была полезна Магистру не только как женщина, но и как личный лекарь. Хитер Хозяин, и любит жить... любит жизнь... Которую у него сегодня отнимет Учитель!.. А он, Железный Копт, попытается этому помешать. Но... Сначала сделает всё, как велел Учитель.
Сейд вжался в холодный камень башенной кладки и замер. И только левая рука его чуть согнулась в локте, наведя скрытый в рукаве арбалет с отравленной стрелой прямо в затылок Египтянина. Если он скажет не те слова...
Сабельник со своей свитой не стал проходить вглубь пыточной. Здесь было слишком темно и душно, к тому же Де Сабри вообще не любил закрытые помещения. Они давили на него – сказывался опыт заживо похороненного... Когда-то в юности, когда он воевал с англичанами на стороне короля Франции, под Кале, его сильно ранили. Потерявшего сознание мечника похоронили наспех, в неглубокой яме, лишь слегка закидав сверху землей. Потому-то, очнувшись, он и смог выбраться, напугав могильщиков, коими оказались собственные соратники. Но страх!.. Нет, ужас человека, проснувшегося в полной темноте, при полном отсутствии воздуха, да к тому же на грудь давит сырая земля, так, что и вдохнуть не можешь ничего... Ужас сменился тогда яростью, и он зарубил мечом троих своих соратников, а заодно командира, королевского рыцаря, из-за чего потом и был вынужден бежать из королевской армии, и стать наемником. Страх и ужас, переходящие в ярость, – эти чувства изменили всю его жизнь. Эти чувства были самыми отвратительными и постыдными для него в его жизни и грозили вернуться каждый раз, когда он оказывался в закрытых местах. Потому-то он и не любил дворцов, домов и, когда мог, предпочитал спать в шатрах, которые по его приказу разбивали прямо во дворах домов, где он останавливался. Но если дворец короля и храмы он еще как-то выносил из-за их высоких потолков и обилия света, то вечно темную пыточную ненавидел.
–Говори! Да быстрее, у тебя тут душно! – Магистр коротко приказал, потирая рукой внезапно вспотевшую шею. Сабельник был пьян, и пьян с утра. Прокаженный король вызвал его к себе ни свет ни заря, причем не в просторную приемную залу, но в свои покои, тесные и узкие, пропахшие потом и снадобьями... Его Величество шепотом бредил о необходимости скорей начать войну и требовал, чтобы Де Сабри что-нибудь придумал. Сбежать было невозможно. Вынести всё это можно было только благодаря великолепному вину, которого у короля было вдоволь. Вот он и напился. Потом пришел к себе в шатер, куда вызвал «свою монашку», так он ее называл... Но ничего не успел с ней сделать. Верный, как собака, и исполнительный до полной глупости личный телохранитель, между прочим – бретонец, прошедший с ним всю дорогу от Франции и до Иерусалима, от наемника до вершины в Ордене, напомнил своему Хозяину о том, что сегодня Египтянин обещал сказать, как найти убийцу имамов, Первого Гашишшина, этого дьявола, сумевшего свести на нет идеальный план короля и затруднившего начало войны против Салах-ад-Дина... Ярость и желание смерти одной из самых опасных личностей в стане врага были сильнее желания плоти, к тому же Магистр даже не успел раздеться. «Свою монашку» он всегда успеет... может, прямо здесь, в пыточной у Египтянина?.. А вдруг это поможет преодолеть страх, который начинал душить каждый раз, когда он оказывался в темном помещении?.. И, бросив ей короткий приказ «Пойдешь со мной!», Де Сабри рванулся прочь из шатра, спеша в башню королевского палача. И теперь, когда он очутился здесь, все мысли о женщине напрочь вылетели из головы... Хотелось только быстрее уйти отсюда... И вина у Копта не бывает, как назло!..
Как назло, враг пришел с женщиной. С женщиной, которую он УВИДЕЛ! Сейд не замечал женщин, даже когда старался. А старался намеренно – чтобы познать и справиться с тем необъяснимым, что с ним происходит всякий раз, как он ВИДИТ женщину. Не получалось. Сознание отказывалось видеть их. Как будто смутные тени, они проносились мимо взгляда, голоса их были словно шепот ветра, слова почти не слышались, улавливался лишь смысл... То чувство, что возникло в последний раз, именно тут, у Железного Копта, когда здесь была Женщина, которой отрезали грудь... Это чувство... Вот, опять... Рука, направлявшая арбалет, задрожала, прицел сбился... Глаза не слушали приказаний разума, не видели затылка Египтянина, куда полагалось направлять полет отравленной стрелы из арбалета в рукаве... Глаза смотрели на лицо – нежное, с большими глазами, цвет которых был непонятен в неверном свете факелов... Лицо было обрамлено обтягивающим головным убором христианской монашки...
Она уже не считала себя невестой Христовой, но ее нынешний Хозяин, рыжеволосый Магистр, продолжал ее так называть и требовал, чтобы она всегда являлась к нему в одеянии монашки. Так он ее и брал, овладевал в своем шатре, срывая рясу, но всегда оставляя что-нибудь, указывающее, КЕМ она была... А ей уже было всё равно. Ей казалось, что ее нет и уже никогда не будет. Она дышала, ела, справляла нужду и ждала... ждала, чтобы ею овладели. Это чувство – чувство жертвы, вещи, собственности мужчины, смешивающееся с неописуемым и, несомненно, греховным удовольствием плоти, было единственным, что составляло смысл ее нынешней жизни. После того происшествия в лагере крестоносцев, когда ею впервые насильно овладели пьяные солдаты, она отдавалась мужчинам, не видя их лиц, не замечая, кто именно берет ее... Она верила, что душа ее умерла, ее забрал Дьявол и теперь платит этим греховным наслаждением плоти за то, что отнял. У мужчин – нет лица, она их больше не видит. Все они – Дьявол, забравший ее душу и берущий плоть. Она даже не осознавала порой, где она... Но вдруг!.. Ей словно показалось... лицо... мальчик... нет, уже – юноша!.. Темный, как те воины пустыни... их лица она помнит – она тогда еще была другой... у нее была душа... они проскакали мимо нее, не тронули, хотя перебили всех мужчин... Да, было нападение на обозный лагерь крестоносцев. Убили всех мужчин и забрали всех женщин, кроме нее. Ту, рыжеволосую, что смеялась над ее клятвой разделить судьбу святой, – тоже забрали. Потом вернулись солдаты из впереди идущего отряда. Нашли трупы убитых, вино и ее – всё остальное, включая тела своих убитых, воины пустыни унесли с собой. Вечером того же дня христианские воины, напившись вина, оставшегося от перебитого обоза, поспорили между собой. Они не верили, что Христова невеста могла остаться чистой после нападения грязных магометан. К тому же те наверняка развлеклись с ней! Надо бы проверить?! Почему бы и нет, если она уже порченная этими бедави, к тому же эти нехристи увели с собой всех прачек... и выкупить их обратно золота уже не осталось... Что же теперь, христианские солдаты будут страдать без женской ласки?.. Ее никто не слушал... и у нее забрали душу... Она перестала видеть мужские лица... А сейчас – увидела? Нет! Показалось... Она обнаружила, что находится в каком-то странном месте. Хозяин –большой человек с громким голосом и вечным запахом вина – рядом. Оказывается, у него есть лицо! Большое, тяжелое лицо с обвисшими щеками, рыжая борода и рыжие волосы, как темный огонь на голове... Может, это и есть Дьявол?.. Но кто открыл ей глаза? Кто показал ей лицо мужчины? То лицо в кромешной темноте, в самой глубине зала... Может, это был ангел? Наверное... Сколько она ни всматривалась, она никак не могла его вновь увидеть...
С того мгновения, когда дверь открылась, и до того, как королевский палач заговорил, в клепсидре, что стояла в одной из ниш в глубине пыточной, просочилось всего семь капель...
Копт облизывал внезапно пересохшие губы. Сначала – то, что поручил Учитель:
–Он передал, что будет ждать вас, Хозяин, в полночь, на Голгофе...
Де Сабри взревел:
–Он передал, что будет ЖДАТЬ меня? МЕНЯ?! Он бросает мне вызов?..
Стены пыточной давили на воспаленный мозг безумия Иерусалима. Давили невыносимо. Ужас обретал лики призраков прошлого, один из них даже, кажется, мелькнул в глубине тьмы, что царила в помещении, мелькнул и исчез, усилив страх... Ужас переплавлялся в ярость.
«Сейчас!.. – подумал Железный Копт, ученик Джаллада-Джаани, вспомнив о другом ученике своего Учителя и того, кого считал себе отцом. – Сейчас я скажу больше – и он убьет меня!»
–Я убью тебя! – Рев Сабельника раздавался уже из-за приоткрытой двери, которая продолжала качаться на хорошо смазанных петлях после стремительного выхода Магистра и его сопровождающих. Ярость искала выход и обращала гнев против того, кто, наконец-то, осмелился бросить ему открытый вызов. Ярость вела Де Сабри прочь от Башни Палача, заставляла бежать, чтобы приготовиться и принять бой. Всё остальное было не важно.
«Уже – неважно! – со странным облегчением подумал Египтянин. Сильные руки безвольными плетьми повисли вдоль грузного тела. – Я пытался. И я не успел. Я – пытался!.. Я – хотел... просто не успел... Я буду жить!»
«Он будет жить», – думал Сейд, опуская руку с арбалетом. Наваждение прошло только тогда, когда женщина вышла. Он не был уверен, что выстрел удался бы, попал бы в цель... Но знал, что всё равно выстрелит, если только Египтянин скажет хоть одно лишнее слово... Не сказал. Возможно, именно поэтому Муаллим и приказал ему оставаться всю ночь с Железным Коптом, пока он сам не придет за ним или не пришлет весть. Значит, Учитель был прав, как всегда. Верность нуждается в страхе, чтобы быть. Человек нуждается в страхе, чтобы жить...
–Человек не нуждается в страхе, чтобы жить. Он нуждается в любви, мой мудрый друг! – говорил один всадник другому. Оба путника въезжали в город через Северные Врата. Время было вечернее, солнце уже садилось, но они успели до закрытия ворот.
Уставшие за день от жары стражники даже не стали обращать на них особого внимания. Разве что – на лошадей, на которых запыленные, явно не самые богатые, а потому не интересные для стражников путники въехали в город... Один сидел на вороном, другой – на сером жеребце. Кони были не простые – одни из лучших жеребцов из тех, что имелись у Льва Пустыни, лично им пожалованные удивительному франку, бывшему почетным пленником у самого Салах-ад-Дина, того, кого весь христианский мир мнил своим злейшим врагом и кого за несколько дней назвал своим другом посланник Западного Крыла Ордена Тамплиеров. Франк восседал на вороном жеребце, серого же оседлал тот, кого многие знали под прозвищем Акын-Сказочник. Приближенный советник, шпион и тот, кому Лев Пустыни поручал особо щепетильные задания, он сам вызвался сопровождать тамплиера, пообещавшего Льву Пустыни вернуть мир в эти истерзанные войной земли.
Праведник Веры – поверил. Он поверил искренности и разумным доводам, которые этот странный человек привел, убеждая Льва Пустыни в мирных планах Ордена Тамплиеров. Он убедил великого правителя и полководца в том, что только Орден может остановить беду, не дать случиться новому крестовому походу, положить конец бредовым мечтаниям прокаженного короля о войне с Египтом. Не последнее значение Праведник придавал и тому, что франк был близко знаком с исламом. История о том, как он был пленником гранадского эмира и стал тому чуть ли не названым сыном, произвела впечатление на Айюбида, ценившего благородство превыше всего. Правда, франк не рассказал о том, что принял ислам, а затем заново крестился – подобных людей в исламском мире почитали низкими, трусами, недостойными уважения. Здесь же, на Святой Земле, этой щепетильной правды никто и не мог знать...
Салах-ад-Дин был мудр. Он представлял себе силу и влияние Ордена Тамплиеров и понимал, что ему нужен союзник, если он хочет мира. Кроме того, ему очень хотелось ВЕРИТЬ! Праведник Веры хотел верить в то, что христиане и мусульмане могут жить в мире и что джихад не может, не должен продолжаться вечно. А еще он понимал, что, отпуская посланника Западного Крыла Ордена, он выигрывает значительно больше, чем теряет. К тому же у него оставались заложники – прочие пленные рыцари-тамплиеры были у него в руках в качестве залога верности франка своим словам. А в словах его было следующее: франк вернется в Иерусалим, обвинит Сабельника в предательстве, сместит его и возглавит Восточное Крыло Ордена. После чего принудит короля Иерусалима отказаться от планов войны с Египтом и убедит заключить мир с Салах-ад-Дином. После этого Лев Пустыни отпустит своих пленников-христиан в качестве жеста своей доброй воли и использует свое влияние, чтобы воинственные кланы мусульман-бедави перестали терзать христианские караваны торговцев и паломников. Возродится торговля. Вернется мир!..
Такие мечты лелеял каждый житель Святой Земли. Эти планы должны были сделать Орден самой богатой и могущественной силой на Востоке, а значит – и на Западе. Этот путь вел Тампль к вершине власти – власти более действенной и могучей, чем власть Рима, прогнившая, и вызывающая только страх и ненависть. Власти, основанной на стремлении людей жить в мире, жить в богатстве и не бояться за свое будущее. И лишь прощаясь с франком-тамплиером, Лев Пустыни обронил такие слова: «И да не отравит наши мечты яд скорпиона в сердце властолюбцев!» Тамплиер всё понял и молча склонил голову, соглашаясь с мудростью Праведника Веры. И только Акын-Сказочник, настолько поднаторевший во всем, касавшемся сказок и мечтаний, что с трудом верил в них сам, криво ухмыльнулся и, что-то напевая на никому не понятном языке кипчаков, двинул своего серого жеребца в пустыню. В путь на Иерусалим. В дорогу Сказочник верил больше, чем в цели, ради которых люди выходят в путь.