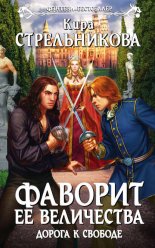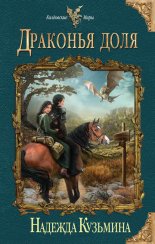Сейд. Джихад крещеного убийцы Улдуз Аждар

–Я... я уже – мертв, Учитель! – Огромный Египтянин выглядел явно смущенным. Старик строго посмотрел на него, и бывший палач и дознавальщик короля Иерусалима, тот, кого называли Железным Коптом, снова почувствовал себя маленьким мальчиком, выкупленным из рабства великим джалладом-джаани, взятым в ученики и проходящим еще один строгий урок приобщения к Матери Истины – Боли. И ругается точно так же, как тогда, когда маленький мальчик путал названия трав или забывал трактаты, которые следовало учить наизусть.
–Глупости говоришь! Ты – жив! И нет более ценного дара, чем жизнь, и только на пути своего джихада ты можешь растратить этот дар, но не на пути глупой мести. Шайтан всё чаще туманит мой разум, но вы, дети мои, не пережили и половины того, что открыло путь Нечистому в мои мысли и чувства. Сейчас он далек от меня... это потому что ты рядом, мой Сейд. Но сейчас вы уйдете. Идите дорогой своего джихада и не будьте глупыми деревянными фигурками в игре тех, кто считает себя умнее вас. Вы – джаллад и джаани по воспитанию, данному мной... и вы – последователи учения Исы, мир Ему! Так идите же... а мне еще предстоит исполнить мой джихад и исправить мои ошибки...
–Тебе... не потребуется наша помощь, Муаллим? – Сейд верил Учителю и спросил, уже догадываясь, какой будет ответ.
–Мне есть кому помочь, Орленок! Ты ведь не убил... этого... хотя мог... – Старик показал рукой на лежащего без сознания гашишшина в серой маске. – И других, тех, что попадались тебе по пути, значит, ты оглушал, обездвиживал, но не убивал... Ты стал настоящим христианином, мой мальчик. Пути моего джихада противны путям твоей веры. Так что тайно спустись в лагерь, забери свою монашку и уходи. Иди к туркам, и дальше – туда, где сердце твоей веры. Иди в Рим! А ты, Копт, следуй с ним. Этот орленок не хочет пачкать когти кровью, но кто-то должен быть рядом... теперь вы двое – джаллад-джаани... И распутница-монашка – с вами... Воистину, Аллах умеет смешить Историю!.. Кха-хр-ра...
Глаза старца вновь поволокло белизной безумия, и он долго то ли кашлял, то ли смеялся, пока Железный Копт и Сейд покидали Орлиное Гнездо. И лишь выждав столько времени, за какое сердце спящего человека совершает три раза по сто ударов, он прекратил свой смех. Ловко перекатился через спину к нише в стене, извлек из нее несколько фонарей из далекого Чина и кусочки слюды, на которых было изображение бородатого лица, смутно напоминающего его собственное. Принялся вкладывать слюду в торцы фонарей и уже почти закончил, когда гашишшин, обездвиженный Сейдом в его покоях, очнулся и, бесшумно вскочив на ноги, поклонился Муаллиму. Старец, не отрываясь от своего занятия, пробормотал:
–Иди, посмотри кто там живой остался... помоги остальным... Сегодня ночью я встречаюсь с Салах-ад-Дином... и мы покидаем Гнездо...
Утром монашка исчезла. Ни Железный Копт, ни Сейд не вернулись в лагерь, и степная домбра звучала весь день в руках Акына особенно раздражающе. Старый кипчак был словно чем-то обеспокоен и даже на совещании в шатре у Салах-ад-Дина был на удивление тих, не шутил и не подначивал вождей кланов бедави своими язвительными замечаниями.
Когда же стемнело, произошли воистину удивительные события. Спустя много столетий, потомки жителей этих мест, хранящие веру своих отцов-исмаилитов, будут с восторгом рассказывать легенду о том, как Старец горы Аламут явил чудо, появляясь одновременно в разных местах вдоль расположения лагеря войск Салах-ад-Дина, осаждавшего крепость гашишшинов. Во всяком случае, солдатам виделись лица Старца одновременно на нескольких скалах. Потомки будут рассказывать о том, что Салах-ад-Дин встретился со Старцем, и он словно плыл по воздуху, после чего бесстрашный Лев Пустыни, безо всяких объяснений своим военачальникам, приказал наутро снять лагерь и прекратил осаду. Чего не будут рассказывать потомки – так это того, что по воздуху Старец плыл на плечах двоих гашишшинов, закутанных в черные одежды, не видимые в ночи, но тот, кого называли Праведником Веры, говорил со Старцем достаточно близко, чтобы различить их. Вернее, говорил не он, но сам старый джаллад-джаани, и говорил недолго. Но Лев Пустыни после разговора выглядел очень расстроенным, хотя и обронил своему федаину: «Мы здесь то, за чем пришли, – получили!» И еще не будут рассказывать потомки о том, что, уходя, лагерь Салах-ад-Дина оставил непохороненным труп старого кипчака, так и окоченевшего на ночном холоде с домброй в рукх. Под левой лопаткой его прочно сидел кинжал гашишшина с личной меткой джаллада-джаани. Кинжал, прервавший затянувшуюся и раздражающую игру Акына-предателя.
AD LIBITUM – ГАЛАНТНЫЕ ДАМЫ
«Воистину, любезная матушка моя, Вы были правы, считая, что служба в рядах воинства Божьего на Святой Земле окажется для меня источником неоценимого опыта, а также откроет новые, неожиданные пути к почестям, славе и богатству, к коим должно стремится каждому благородному шевалье, в чьих жилах течет французская кровь! За то время, что провел я в пустынях Синайских, в самом Иерусалиме, под началом благороднейшего из мужей, покойного ныне сенешаля, а также волею Судьбы и под покровительством Господа нашего Христа проведя немало месяцев в почетном плену у благороднейшего из сарацин, коего здесь именуют Львом Пустыни, я не только познал множество нового, укрепил свой дух, веру и рыцарские качества, но и стал свидетелем и участником событий, кои, несомненно, окажут свое влияние на судьбы королевств и откроют роду Де Бурдейль дорогу и к почестям, и к славе, и к богатству.
К слову о богатстве – за это время мною уже обретено золота, каменьев и ценностей различных довольно, чтобы обеспечить Вас и себя безбедным существованием при дворе в Париже на долгие годы. Всё это добыто мною не грабежом и разбоем, что стало привычным источником наживы для многих рыцарей в этой жестокой войне, но праведною службой и исполнением повелений господина моего сенешаля, чью последнюю волю я исполняю и поныне. И, воистину, видится мне влияние длани Господней на то обстоятельство, что за продолжение этой службы уже умершему моему господину, платят мне те, кто повинны в смерти его, враги и сарацины, а именно – сам Лев Пустыни, тот, кого именуют также Саладином, что по-сарацински значит «праведный из магометан». Ибо за то, чтобы исполнить последнее приказание Его Высочества, герцога Бретани и господина моего сенешаля, уплатил мне сей благородный сарацин много золота, а также тканей дорогих, шелковых, подарил породистого скакуна лучших статей из своих конюшен, присовокупив к вышеописанному поручительские письма к торговым домам иудеев, находящихся в больших городах на всем пути до Константинополя, и кои без проволочек можно обращать в золото и товары различной ценности.
Все блага эти достались мне, поелику сопровождаю я в земли Франции некую галантную даму, зачавшую и родившую дитя от самого принца Франции и господина моего сенешаля. Как Вы, матушка, несомненно поймете, ибо дама Вы благоразумная, это дитя мужеского пола также находится под моей опекой, и по праву своей крови является возможным соискателем трона французского, что при определенных раскладах сил и политических партий при дворе способно сослужить роду Де Бурдейлей хорошую службу. Упоминая галантность матери этого дитяти, не могу не отметить, что помимо выдающейся красоты и воли, поистине она – одна из самых живых по своей натуре женщин, что я встречал в своей жизни... после Вас, конечно же! Она отличается от прочих дам, сопровождавших наше воинство, умом, обходительностью и даже некоторой изысканностью манер, что позволяет мне предполагать невероятный успех, ожидающий ее как при дворе, так и во всем парижском обществе. И при Вашей, матушка, смекалке и галантной натуре, да под Вашим покровительством, думаю, этот успех будет обращен на пользу семейству Де Бурдейль, кое и в годы оные, верую я, будет увековечено и прославлено благодаря галантным дамам, но ныне существует лишь в лице Вас, при скромном участии Вашего любящего сына, преданного Вам и королевской семье, шевалье Де Бурдейля.
Post Scriptum. Бесконечно радуюсь я тому, что Вы, матушка, не в пример многим прочим дамам высшего света, не брезговали грамотой и за прочтением письма моего не обратитесь ни к кому, но, будучи, как я писал выше, дамой благоразумной, письмо сие сожжете. Надеюсь также, что покровительство и дружба некоего высокородного герцога, не слишком пользовавшегося благосклонностью Его Величества короля, но не обделенного благосклонностью Вашей и желавшего укрепить свое положение в Париже, всё еще не оставили Вас. И, если сочтете возможным, хотел бы просить Вас обратиться к нему за помощью в охране моих подопечных, лишь прибудем мы на земли Франции, ибо верных ему рыцарей у него достаточно, как и денег, и думается мне, он оценит возможность оказать покровительство одному из возможных наследников Короны. Бесконечно уповаю на Вашу галантность и благоразумие. Поручаю письмо это торговцу-иудею, что спешно следует из Иерусалима в Испанию и непременно пройдет через земли Франции, по своим делам заглянув в Париж и поклявшись не только мне, но и самому Саладину в том, что письмо это будет доставлено Вам лично в руки. Я же выйду в путь через месяц, как только в Александрии соберется караван паломников, возвращающихся в Европу из Святой Земли...»
V. АРПЕДЖИО – ОРЕЛ ДВУГЛАВЫЙ
Двуглавый орел на знамени правителя как будто танцевал под звуки флейты и тамбурина в руках смуглых музыкантов-семитов, сопровождавших Повелителя Двух Морей с гостями в этой прогулке по Аланийской бухте. Одна голова орла была повернута вроде как в правильную сторону, к морю Белому, которое уже de factum находилось под контролем повелителя турков-сельджуков, вторую же игривый ветер, изгибая стяг, колыхавшийся над триремой, всё клонил в сторону мягкого розового средиземноморского заката, к морю Греческому, куда корабли «Опоры ислама» в землях Малой Азии уже добрались, однако еще сталкивались порой с незначительным сопротивлением флотилии византийцев. Видимо, ветер был в курсе тайных чаяний этого умного и решительного человека, гордившегося собой... вполне заслуженно.
Башня, сложенная из красного кирпича, была построена им, как и верфи, начинавшиеся сразу за этой башней, как и сама аланийская крепость, к которой вела широкая фортификация, змеей восходящая на вершину горы... Да и сам город был переименован после завоевания в его честь в Алайе, ибо назывался ранее Калонорос и входил тогда в Киликийское царство. Минареты небольшой суннитской мечети внутри крепости возвышались над всем городом, ставшим оплотом власти сельджуков над Средиземным морем, утверждая – Всевышний опекает эту власть. Возможно, думал гость правителя, смуглый человек с глазами, подобными плодам оливы, именно им суждено стать истинным оплотом ислама в будущем, перехватив зеленое знамя из рук бедави, чей халифат явно не справился с крестоносцами... не защитил эхли-муслим от варваров, извративших учение Исы. Турки – когда-то кочевники, как и бедави, становятся настоящими хозяевами землям, что попадают под их власть. Нет, они берут эту власть – мечом, как и должно брать ее, но затем... Затем они начинают строить! Строят дороги и крепости, верфи и корабли, настоящее регулярное войско, не из наемников, но из самой нации, превращающей ее в одну большую армию... Ремесло, земледелие и торговля предоставляются всем прочим, христианам и иудеям, армянам и исавритам, грекам и многим другим племенам, коих множество на берегах Белого моря, как они именуют Средиземное море у своих... теперь уже – СВОИХ – берегов. Военная наука и кораблестроение, исследования в области баллистики и медицины – достояние только эхли-муслим, турков и тех из арабов, что принесли им учение Пророка, да славится имя Его, и остались с ними... Сюда крестоносцы даже не смеют сунуть свой нос – знают, что нет флота, способного противостоять сельджукскому, и не успеют они даже приблизиться к бухте, как либо будут потоплены, либо захвачены воинами, рассекающими море на необычных судах... Кстати, также изобретенных этим вот человеком, заслуженно занимающим место правителя этих могучих людей... их гостеприимного хозяина...
Христианин с внешностью бедави и христианка в одеяниях монашки Ордена Святой Магдалины, которых сопровождал огромный молчаливый египтянин, – более необычных гостей даже он сам не мог бы представить. Но вот они – монашка, чей взгляд пуст и наполняется странной нежностью только тогда, когда она украдкой глядит на молодого бедави... Египтянин, намертво сцепивший пальцы огромных рук, плечи туго стянуты железными браслетами, карие глаза полны ночной тьмы, и закатное солнце бликом цвета засохшей крови метит коричневый, гладко бритый череп... Все трое – вместе, и в то же время каждый сам по себе... И словно отдельно не только от своих спутников, но и от всего мира – тот, кто назвался Сейдом, однако носит на теле христианский крест.
Он сидит у кормы, глядя на крепость, и глаза его – словно не человеческие, но птичьи... Такой взгляд должен был бы быть у орлов, но орлов Правитель Двух Морей никогда не видел, разве что на собственном знамени, которое для него придумал и нарисовал воин-черкес, прибившийся к его армии после союза с племенем огузов, чьи поселения в Торосских горах появились издавна, со времен, когда на далеком Кавказе многие из них были вынуждены бежать от кипчакских орд с другого берега Хазара... а вот беркутов охотничьих... да, вполне сопоставимо! Гость был похож на усталого беркута. То, что он назвался христианином, несколько смущало султана сельджуков – уж слишком хорошо он разбирался во всех обычаях и законах, которым следуют эхли-муслим, идущие путем Сунны Пророка, да славится имя Его... А то, что он путешествовал с монашкой... к тому же из Ордена, который назывался именем святой, некогда бывшей распутной женщиной, согласно их же христианской Книге... Всё это ввергало султана сельджуков в изумление, и потому он желал знать... Желал знать как можно больше о тех, в ком видел своих врагов. И понимал, что более всего он сможет узнать, если эти двое будут доверять ему. Египтянина сельджукский владыка в расчет не принимал, считая его слугой, нанятым, скорее всего, для охраны. Хотя на богатых путешественников они не очень и похожи... Слишком много тайн окружают этих троих!
Их привели к нему стражи из морского дозора – после очередного дежурства на морской границе его империи с Искендерией, где сейчас заправляли крестоносцы. Дозорные моряки-сельджуки обнаружили утлую лодчонку, плывшую прочь от христианских вод на Востоке к христианским водам на Западе. «Долго же им предстояло плыть!» – усмехнулся в душе султан. Двумя морями управляют сельджуки, Белым и Черным, и даже император Константинополя не может ничего поделать после того, как потерял большую часть своего флота в битве, прошедшей прямо на глазах у хваленого крестоносного рыцарства, что воздвигли свою крепость у руин древнего Фаселиса. С тех пор ни один христианский отряд уж не смеет появляться в землях, где правят турки-сельджуки. Через Атталею не пройдут – там проходы через Торосские горы держат племена огузов и черкесов. В центральной Анатолии тоже нет им пути – уже ставшие оседлыми, бывшие кочевники-сельджуки твердо держатся за свои земли. Ну а с Востока – через Малую Армению – споткнутся, да и обломают зубы об Аланийскую крепость, оплот его власти над всем Белым морем... Из Искендеруна выплыло суденышко и сразу же попало в жестокий прибрежный шторм, перенесший его в воды, которые бороздили лишь пираты из племени киликийцев да исавритов, ну и корабли империи сельджуков, этих самых пиратов нещадно топившие за урон торговле. Ибо велел султан сельджуков торговцев, идущих морем, не трогать, но брать с них дань и сопровождать охраной до самого до Босфора... А уж там пусть себе разбираются с чиновниками византийскими, что похуже пиратов грабить их будут с позволения своего же правителя. Поумнели купцы, многие уж и не плывут дальше, а товар весь в Алании да Атталее на рынках сельджукских оставляют. Богатеют города султана, налоги золотом в казну текут, позволяя еще больше укреплять армию и флот, и недалек тот день, когда падут перед турками стены града Константинова...
Мечты! Чтобы они сбылись – он должен знать о враге всё! Но что он знает о христианах? Пророк, да славится имя Его, назвал их эхли-Китаб, народом Книги, но пришли они в эти земли и вели себя на них подобно варварам, что и книг-то никогда не видели! Это сейчас джемаат, следующий путем Пророка, наконец, стал объединяться и успешно противостоять им, но еще живы в памяти времена, когда эти дикари пожирали мусульманских детей... Месть должна свершиться! Там, в Палестине, Салах-ад-Дин, здесь, в Малой Азии и Анатолии – он, султан сельджуков. Две длани ислама, и если Льва Пустыни, с его стремлением к миру и дипломатией, можно назвать рукой, держащей щит, то турки держат меч, разящий беспощадно! Эх, пришел бы к власти там, в Палестине, тот, в ком течет кровь турка! Арабы, египтяне – роскошь сделала их слабыми, неспособными к решительным действиям. Только кочевники, чья неугомонная кровь кипит в его собственных жилах, могут навсегда положить конец бесчинствам христиан на Востоке. И ведь есть же мамлюки, средь которых много воинов из кипчакских племен... Кто-нибудь, когда-нибудь свергнет ослабевших от роскоши и интриг семитов, возьмет в руки власть и огнем праведным выжжет язву крестоносную, от Иерусалима и до самого моря... Хоть и велел Пророк, да славится имя Его, быть терпимыми к народам Книги... да только не до терпения уже!
Терпение правителя было на исходе. Гости молчали. Они и так уже сказали ему всё, что считали нужным, не рассказав ничего, чего бы он уже не знал без них. Многое было ему известно от своих соглядатаев, что-то – из переписки с Праведником Веры... кстати, он ведь предупреждал его о возможном появлении бедави в сопровождении монашки и просил не чинить препятствий, но помогать, как и тем двоим... франкскому рыцарю и рыжеволосой женщине с ребенком, которых спасли его морские дозоры с захваченного пиратами судна, что шло на Запад. О Египтянине, правда, Лев Пустыни не писал ничего. Зато упоминался он в послании от другого человека, чьей дружбой сельджукский правитель дорожил и к услугам его иногда даже прибегал. Старец с горы Аламут прислал гашишшина с письмом. В письме почтительно излагалась просьба помочь тому, кого именуют Сейдом, и спутникам его – монашке и Египтянину. Причин старец не назвал. Зато назвал себя должником султана. А это дорогого стоило!
Два значительнейших и уважаемых человека обратились к нему с просьбой. Просьбу Льва Пустыни насчет франка и рыжеволосой женщины с ребенком он исполнил легко, велев доставить их в Атталею, где останавливались некоторые христианские купеческие суда, и посадить на корабль венецианских негоциантов, везущих шелк через его воды в Европу. С венецианцами султан дело имел давно, и дела эти были весьма выгодны обеим сторонам. Потому и взяли венецианцы тех двоих на борт судна, да еще и поблагодарили за оказанную честь. Обещались в целости и сохранности довезти «гостей Повелителя Двух Морей» до берегов франкских земель. В том, что венецианцы сильно постараются исполнить свое обещание, султан не сомневался. Для большей уверенности велел предоставить боевую трирему сопровождения до Греческого моря.
Теперь вот эти трое. Говорят, что идут в Рим. Просят посадить на корабль до Венеции. Или до Неаполя. Это монашка просит. Ни бедавин, ни египтянин, судя по всему, в Европе никогда не были и во всем, что касается дороги, полагаются на нее. А корабля, идущего на Апеннины, ждать теперь придется долго. Есть корабли венецианцев, что плывут дальше на Восток, чтобы сбыть свой товар в Искендеруне и богатом Каире... Пока доплывут туда, пока поплывут обратно... Так что быть этим троим гостями у султана самое меньшее месяца два. Может, за то время и расскажут что-нибудь важное, объясняющее, что же в них такого, из-за чего и Лев Пустыни, и отец всех убийц-гашишшинов наделяют их своим покровительством.
Ну а пока остается лишь ждать. Может, проговорятся... или действиями своими выдадут что-нибудь, что поможет понять... Султан запутался! Две головы у орла на знамени – две правды в искусстве управления государством! Правда первая – четверостишие-рубаи:
- У знамени страны две стороны.
- На лицевой победы сведены
- В узор один. На задней – швы и грех.
- Швы незашитых ран и смертный грех войны.
Правда вторая – как касыда о вине вины всех виноватых:
- Пусть кубок пуст – харам испит до дна.
- В нем пустота – правителя вина.
- Вином султаны тешут дно души,
- Пока их армия чужую жизнь крушит.
- От власти опьянела голова,
- Но трезвым сердцем видишь, что одна
- Есть правда, хоть для разных двух голов,
- Не видящих одних и тех же снов.
- Лишь стали блеск и свет войны костров.
- И даже в тишине своих дворцов
- Покой правитель может не обресть —
- Ведь в них живут Измена, Ложь и Лесть.
- То три сестры – гарем любого трона.
- В тиши дворцов правитель глушит стоны
- Своей души – и пьет харам до дна.
- У Власти – недешевая цена.
Цену власти Повелитель Двух Морей знал хорошо. В спокойствие же и тишину своих дворцовых покоев султан и вовсе не верил. Верил в войну и в ганимед – прибыль от войны, что заставляет аскеров -солдат и саркардаров -полководцев хранить верность своему повелителю. Верил в Кур’ан-и-Керим – потому что надо во что-то верить, даже если ничем не доказано. Но больше всего верил в свой разум. Эль-джабр и геометрия – вот истинные проявления Всевышнего на земле, и свидетельством тому – чертежи его кораблей, что быстрее и могущественнее вражеских! Во дворцах же – люди, чьи мысли не получается подчинить эль-джабру и чье поведение не расчертишь геометрией... Как не хочется возвращаться во дворец...
«Одна голова – на Восток! Другая – на Запад! А я где? В гузке орлиной?» – Черкес, когда-то нарисовавший знамя Повелителя Двух Морей, был подобен некормленому барсу. Не внешне, нет – судя по тому, что в свой доспех он уже не влезал, кормился он более чем отменно. Но дух его был голоден! Не по власти – не любят горцы власть, но любят уважение. Причем уважение показное. А вот этого-то султан и не спешит делать. Не показывает уважения, коего заслужил он, сын огузов, что когда-то сражались и пали у себя в горах. Он же – бежал. Чувствует – тонко, видит – красиво, рисует – как зяргяр -ювелир, что в соседних родному селу Губачах кинжалы узором по серебряной рукояти травит... А вот перерубить кинжалом горло ненавистнику – невмоготу. Страшно! Не за врага – за себя! Потому и бежал от кровников, от позора родового, горы родные покинул, приближенным султана стал, знамя ему придумал... И что теперь?
Нежен стан черкесской наложницы из гарема султана, черен волос до талии осиной... Да только раскидывается этот волос по постели султана, и стан ее обнимают руки того, кто правит двумя морями. И смеются две головы орла, нарисованного руками того, кто любит черкеску – единственную звезду с небес родных гор, купленную на невольничьем рынке под Трапезундом и подаренную в гарем султана им же самим... смеются в два клюва над тем, кого под гузкой своей держат, со всей его честью горца. Продал он эту честь смолоду – когда от кровников бежал. Ныне ли решаться на еще большую смелость?.. Еще большее предательство?..
Нет грязнее того, кто бесчестье совершив, от страха в честь возвратиться хочет – так говорят тюрки-огузы на далеком Кавказе. Страшно звучит, но еще страшнее думать, как обнимает черкеску этот... Мужчина!.. Ядом в сердце, желчью в печени, кровью в глазах, пожелтевших от бессонных ночей... Она – с другим! И страха уж нет, только – ненависть! Пусть только вернется во дворец...
История повторяет себя! Даже красится одинаково. Губы – в цвет крови. Кровью должно быть смыто бесчестье черкеса при дворе Повелителя Двух Морей... Глаза – в цвет желтой бессонницы. Ибо не спят ревнивцы. Одежды – в черный траур ночи и белый траур дня – ведь ночью черной всё в черни скроется, и светом белым ослепит после...
И только железо презренное – кандалами на запястье... Сжали вмиг, когда уже неизбежно было – и полет кинжала, чья рукоять – травленное узором с двуглавым орлом серебро... Как в далеких Губачах... Но откуда взялся тот, кто принял клинок – смесь стали и серебра – в плоть плеча своего? Под самым горлом того, кто сегодня будет спать с черкеской?..
Почему так холодно? На улице весь день было жарко – фонтаны во дворе не справлялись, холодную воду под камни пустили, чтобы остудить помещения к приходу Повелителя... А сейчас – холодно... Как будто жизнь теплой струей утекает из под лопатки, пробитой железом в руке этого лысого... как его? Копт? Хорошо, что всё закончилось...
Черкеска ночью в покои не придет, сказал евнух-смотритель гарема. Утопилась в бассейне хамама... За что? Неужели из-за той отвратительной, некрасивой сцены, устроенной ее соотечественником, этим низким предателем? И за что? Он прибыл к султану еще пятнадцать лет назад и быстро стал одним из приближенных. Султан обласкал его подарками и сделал своим царедворцем, хотя воин из него был никакой. Зато знамя нарисовал великолепное! И черкеску сам же в дар привел своему султану. Так что же случилось? Почему он пытался убить его сегодня, перед самым вечерним намазом, причем на глазах у гостей...
А ведь удивительными людьми оказались эти трое таинственных христиан! Тот, что с глазами, подобными оливам, быстрый как молния, бросился вперед и принял кинжал, летевший прямо в горло султану, себе в плечо. Другой, громадный египтянин, гибко, словно большая кошка, прыгнул к черкесу, на ходу, не останавливаясь, вытащил ханжар из ножен стражника, который даже пошевелиться не успел, а ведь лучшие из лучших в дворцовой охране служат!.. Пока стражник успел что-то понять, ханжар уже был под лопаткой черкеса-изменника, а монашка молчаливо и спокойно накладывала тугую повязку на плечо своего спутника, после чего быстрым движением извлекла кинжал и принялась обрабатывать рану... Посмотрела на султана, по-своему истолковала его изумленный взгляд и на довольно сносном арабском, но очень тихим голосом, пояснила:
–Плечо надо сначала перетянуть, чтобы кровью из раны ковры не испачкать. Да и на случай, если кинжал отравлен был, остановить ток крови в руке желательно...
Султан лишь кивнул в ответ на эти слова. «Ей далеко не впервой лечить раны от оружия», – подумалось ему. Тихий хрип, предвестивший кончину изменника-черкеса, заставил его забыть об удивительных гостях и, наконец, посмотреть на того, кто пытался его только что убить. Обмякшее, грузное тело светловолосого придворного покоилось в могучих руках Египтянина, державшего его, как ребенка, но лицом вниз, спиной же, пробитой ханжаром – вверх. «Наверное, тоже чтобы ковер не испачкать?! – подумал Султан. – Смерть, должно быть, ремесло этих людей!»
Вечерний намаз очистил мысли, вернул спокойствие сердцу. После намаза султан велел подать благодарственный ужин для своих гостей и спасителей, а также раздать городской бедноте мясо трех сотен баранов, забитых еще утром для гарнизона дворцовой стражи. Саркардары сами заявили, что будут неделю держать строгий пост-орудж, и есть лишь хлеб, и пить только воду, ведь не вмешайся гости-христиане, жизнь своего султана они защитить не смогли бы. «Пусть посидят на хлебе и воде, разжирели совсем!» – думал султан, видя, какими глазами отвыкшие от поста стражники смотрят на суфру — скатерть с яствами, накрытую в честь гостей. Ягненок, запеченный целиком в печи-тандыре, жаренная в масле нежнейшая рыба-чупра, крупные маринованные маслины-зейтун, хайдари- йогурт с зеленью и чесноком, йапрак сарма- рис со специями, завернутый в молодые виноградные листья и тушенный в оливковом масле. И холодный шербет с лимоном и шафраном – ибо подаватьхарам в этот вечер, когда волею Аллаха султан смог избежать почти неминуемой смерти, было бы кощунством! Сам султан от мяса воздержался, лишь не смог устоять перед рыбой, но ел мало, решив и сам с завтрашнего дня держать пост в благодарность за спасение. Зато много говорил:
–Вы словно одно целое. Рука защищающая! – Султан указал на Сейда, который молча и сосредоточенно разделывался с чашей маслин. Затем перевел взгляд на Египтянина, устрашающе быстро поглощавшего нежное мясо печеного ягненка – Рука карающая! И – сердце исцеляющее!
Последние слова султана были обращены к монашке, которая пробовала все блюда понемногу и сейчас ымакивала краюхой хлеба остатки йогурта-хайдари со дна керамической плошки-кясе. «Эти трое долгое время голодали!» – вдруг с изумлением понял султан.
–Что же вы на самом деле ищете? Зачем меч, щит и сердце вместе вышли в путь? Я говорю, как поэт, потому что люблю поэзию, хотя мне и далеко до великих мастеров словесности... Но если бы Всевышний одарил меня талантом, я бы спросил так:
Куда направлена рука, что держит острый меч?
И от какого же врага щит должен оберечь?
И сердце, нежности полно, чего должно стеречь?
Аккуратно вытащив косточку маслины и положив ее на край пустого блюда, Сейд медленно поднял голову, и глаза его словно смотрели в пустоту. Из губ же полились стихи:
- Не меч и нож несет рука, что силою полна.
- В руке той ярость, что острей дамасского клинка.
- В младенцах – мудрость стариков, виной тому —
- война.
- Убийцы мир хотят вернуть. Ведь жизни нить тонка.
- И сердце, нежности полно, войной иссушено.
- И снова верить и любить пытается оно.
- Быть может, на пути домой найти ей суждено
- Награду за судьбу святой, что прожита давно?
- Лишь щит не ищет ничего, он в трещинах и слаб.
- Ведь клятвы смерти не чинить он стал навеки раб.
- Пусть панцирь крепок, но едой стать обречен, как краб
- Для хищных рыб. В бою всегда щит пьет вины шар’аб.
- В победе слава – для меча, копья или кинжала.
- Ведь поразить наверняка способно только жало.
- Но если пораженья дух вдруг сердце защемит —
- В погибели вину несет один лишь только щит.
- И вот отправились они в свой путь, в Великий Град.
- Туда приводят все пути. И нет пути назад.
- Волшебник злой во граде том, он вызвал дух войны.
- Виновный в тысячах смертей – не ведает вины.
- И причаститься чрез шар’аб, и выпить свой харам,
- Чтобы войну остановить, обязан тот имам.
- И сердце, и рука с щитом, и яростный клинок
- Затем в дороге, чтоб свершить священный свой зарок.
- И пусть поможет в этом им Единый Сущий Бог!
Султан выглядел сраженным. Поэзия была, возможно, единственным, после аль-джабра, что по-настоящему трогало его. Впрочем, в отличие от математики, любовь Повелителя Двух Морей к изящной словесности не была общеизвестна – не любил великий правитель, когда его подозревали в мягкости, а уж в неспокойные времена этого и подавно следовало избегать. Но предательство черкеса... чудесное спасение... и вот – эти стихи! Спокойствие султана вновь было потрясено, но теперь это потрясение переходило в восторг, и чувство это не замедлило излиться в синя’дяфтяр -«импровизации, идущей из груди»:
- Я видел беркута полет —
- Прекрасен он и строг.
- Он в смертоносности своей
- Красу явить мне смог.
- Но мигом позже я узрел,
- Как беркут – розой стал,
- И пел, подобно соловью,
- И Красоту являл.
Султан замолчал, словно захлебнувшись от чувств, наполнявших его сердце. Монашка смотрела на него широко открытыми, полными удивления глазами. «Она очень красива!» – подумал султан, и ему стало очень приятно оттого, что эта женщина, судя по всему, понимающая по-арабски, смогла оценить его стихи. Признаться, султан иногда читал стихи некоторым своим женщинам, оставаясь с ними наедине, и знал, что не только его легендарная мужская сила, но и умение проникнуть в сердце женщин нежными словами стихов, стали причиной любви к нему со стороны всех женщин гарема... кроме той черкески. Потому что она так и не научилась арабскому языку – языку поэзии и математики! Воспоминание о ней внезапно омрачило султана. Волшебный миг наслаждения поэзией прошел. Султан поднялся со своего места и голосом строгим, даже несколько раздраженным, сказал:
–Я утомлен событиями дня и потому надеюсь, что вы не сочтете меня неучтивым за то, что я покину сюфру и вас. Наслаждайтесь, сколько желаете, слуги проведут вас в ваши покои, когда вы захотите. Завтра же я исполню вашу просьбу, и вы сможете продолжать свой путь. Мир вам!
Не дожидаясь ответных слов, султан повернулся и быстрым шагом покинул зал трапезы. Слуги и стража с трудом успевали за ним. Не оборачиваясь, Повелитель Двух Морей приказал семенящему за ним евнуху-смотрителю гарема:
–Пришли мне двух... нет, трех наложниц в мои покои! И проследи, чтобы среди них не оказалось ни одной, не говорящей на арабском языке.
Утром следующего дня личная трирема султана вышла в море, неся на своем борту Сейда, Железного Копта и бывшую монашку. Корабль направлялся в Атталею, где стояли два венецианских корабля, ожидавшие позволения Султана направиться в Искендерун. Не дождутся! Султан велел выкупить весь товар венецианцев по любой цене, которую те назовут, и передать им приказ – доставить путников в Венецию. Иначе могут забыть и про безопасные торговые пути через его воды, и о праве торговать в портах его Империи... Таким категоричным со своими давними торговыми партнерами Султан еще никогда не был, но... ведь не каждый день просишь за тех, кто спас тебе жизнь. К тому же у двуглавого орла есть право на свои капризы. Все-таки это он правит двумя морями!
AD LIBITUM – ДВА ЖЕНСКИХ МОНОЛОГА
Ты же не думаешь, мой маленький француз, что я доверю жизнь своего ребенка, своего маленького Принца Вельшского, этим заговорщикам? Ну да, я всё еще его только так и называю... Что-то никакое другое имя на ум и не приходит – принц по отцу, вельшец по матери... Мой маленький принц!.. Кстати, может быть, тебе стоит напомнить, что это еще и ребенок твоего возлюбленного господина, сенешаля, который так облагодетельствовал тебя, когда был жив? О, только не надо изображать, будто ты оскорблен. Впрочем, кажется, ты и в самом деле оскорблен. Ну да ладно, прости меня! Но ты должен меня понять, ведь я мать! И, в отличие от этих ваших французских галантных дам, воспитывалась в вельшской деревне, так что привыкла всё говорить прямо...
На самом деле я очень ценю всё, что ты сделал для нас. Поверь! С самого начала! Ты спас нам жизнь, там, когда нас собирались забить камнями... Ты провел нас через тот ад в Александрии, когда святые паломники топтали друг друга до смерти, лишь бы забраться на корабль, только потому, что какой-то идиот пустил слух, будто Саладин собрался осаждать город... С тобой мы добрались до Марселя, и вот там твоя любезная матушка своей торопливостью чуть не уничтожила всё, что ты сделал ранее. Дай мне, пожалуйста, тот кубок... И не глазей так по сторонам, словно тут каждый замышляет убить нас – пусть этот трактир не для богатых господ, но уж поверь, честных людей среди них найдется поболее, чем среди ваших благородий.
Напомню, что если бы я сама после своего побега не послала тебе ту записку, ты бы никогда не смог найти меня! Кстати, я тебя еще ни разу не благодарила за то, что ты научил меня читать и писать? Так примите мое гранмерси, доблестный шевалье, и перестаньте же, наконец, так пучить глаза на трактирщика – ему нравится моя грудь, и ни о чем другом он сейчас не думает, и уж поверь, кара для него наступит незамедлительно... Ага! Вот! Видел, как его супружница локтем в пузо двинула? Хотя и у нее грудь – дай боже каждой кормящей матери! Еще бы убрать лишнее сало в низах – такая красавица была бы... Кстати, французик, тебе нравятся толстушки? Нет, я ничего не имею в виду, просто меня ты наверняка считаешь слишком тощей, вот я и подумала... С чего это я подумала, что ты считаешь меня тощей? Да ты всю дорогу смотрел на меня, как на мадонну из этих ваших церквей... в смысле – и не смотрел вовсе... Вот я и подумала... Ладно, забудь. И скажи трактирщику, пусть принесут еще эля. У нас в Вельше считается, что эль очень полезен кормящим матерям...
Слушай, шевалье, пока ты ходил за элем, я заметила, как пристальносмотрел в мою сторону этот монах... да, вот тот, толстый, в засаленной рясе... Вот этих я как раз опасаюсь. Еще с Вельша... я же говорила тебе, что это они меня пытались сжечь? Так я и не удивилась, когда церковники приняли сторону регента-сифилитика. Ландсраад, Совет Лордов, после внезапной кончины короля отказался дать свою поддержку второму принцу и бывшему сенешалю. Владетельные лорды признали наследником сына Изольды от ее мужа, твоего господина и моего возлюбленного... Ха! Воистину, всё было бы смешно, если бы не было так печально! Смута началась, когда поползли слухи о смерти маленького принца, причем перед самым их выездом из Бретани в Париж! Бывший регент всё же решил, что сам хочет стать королем, сколотил партию из нескольких мелких дворян, заявив, что отменяет все привилегии Тампля, и пообещав передать этим самым шакалам добро Ордена Рыцарей Храма. Он даже умудрился предательством выманить Магистра и схватить его, чтобы потом прилюдно сжечь в Париже!.. И тут появляемся мы! Надо отдать должное твоей матушке – мысль о том, чтобы встретиться с вождями ландсраада и предложить моего сына в качестве козыря в игре против сифилитика, недурна. Принц наплевал на ландсраад, потому что, расправившись с Тамплем, он смог сговориться с церковниками и испанцами и решил для себя, что поддержка владетельных лордов ему ни к чему. Церковникам он пообещал земли лордов-противников, испанцам – чуть ли не Альпы целиком и поддержку против Альгамбры... Однако я не могу позволить ей это сделать – слишком велик риск, что внутри совета владетельных лордов начнутся разногласия, кто-то непременно захочет усомниться в принадлежности юного претендента на корону Франции... возможно предательство, и даже убийство моего сына, а на это я пойти не могу. Необходимо нечто, что сделает претензии моего сына на трон неоспоримыми! Только тогда он станет знаменем, вокруг которого соберется его собственная партия.
Что ты так смотришь, чудак? Удивлен, как хорошо я стала разбираться в политике? Спасибо твоей матушке, воистину галантной даме... ну и тебе, конечно... Впрочем, больше всего я благодарна Саладину за его беседы, когда он объяснял тебе и мне, чего требуется от этого ребенка и почему он хочет видеть его на троне Франции! О, да! Я очень хочу, чтобы мой мальчик прожил жизнь не ублюдка, но короля! Разве дурная мечта для матери, прислуживавшей прачкой вашим благородиям в той кровавой бойне, которую вы затеяли? Уж какая есть! Но без поддержки церкви в вашей стране ничего не сделать. Здешние церковники ослепли от жадности. Они не очень-то и управляют людьми. А вот поддержка из Рима да отряды отборных наемников от Папы в помощь принцу-сифилитику ввергнут страну в смуту и кровавую распрю, и закончиться это дело может гибелью всего французского рыцарства, сама же страна станет во всем подчиняться церковникам. Нужно идти в Рим и попытаться предложить Папе соглашение. Усиление власти Церкви без дорогостоящей войны с французскими лордами! Если он объявит моего сына законным наследником трона, освятит наш брак как состоявшийся в крестовом походе, а потому считающийся священным и законным, и наделит нового наследника благословением наместника этого... как его... Петра на земле!.. Что, хорошо я задумала? Хитро? Умно? То-то же... Но без тебя у меня ничего не получится. Одна с ребенком на руках я просто боюсь пускаться в путь. Лорды же ваши не станут слушаться женщины, тем паче не галантной, как ваши придворные дамы, и не благородного рода... Ты поможешь мне, мой шевалье?..
Не оглядывайтесь, и вовсе не обязательно говорить шепотом. В этой часовне капеллан – из бывших тамплиеров, и друг одного... очень хорошего человека... Когда-то он был шутом... не капеллан, но тот человек... простите, после смерти сына мои мысли часто путаются... Я понимаю, что должна быть собраннее... Вы знаете мое имя?.. Неужели он повторял его, даже будучи в объятиях другой женщины? Простите мне мою скорбь... Нас с вами сейчас объединяет память о нем... Впрочем, не только... Как вы можете быть уверены, что я – Изольда? Сомнения ваши мне понятны, но вы можете лишь довериться мне... и вашему спутнику... Я помню его, он был рядом с моим супругом, когда они выходили в поход...
Вы сильно изменились, шевалье! На моей памяти – неловкий юноша из провинции... откуда вы родом, не напомните? Ах да, Бурдейль... аббатство Брантом ныне, кажется... Когда вы пришли ко мне со своим безумным предложением, я, признаться, была изрядно смущена... Вы ведь знаете, когда мой сын умер... Я была уверена, что его убили... Это не могло быть болезнью! Какой-то неизвестный яд... В Бретани не водятся скорпионы! Впрочем, главный скорпион сидит ныне в Париже... и я подозреваю его в убийстве моего сына. И потому готова на всё, чтобы трон Карла Великого не достался столь недостойному потомку... В этом же младенце, что вы принесли с собой в исповедальню, течет кровь великого человека... моего возлюбленного супруга, коему посмертно я готова простить все измены, ибо и по сей день люблю память о нем... Простите мне мои слезы.
Можно, я возьму его? Что за чудесное ощущение! Как будто я снова держу на руках моего сыночка... Он ведь был всего лишь на два года старше, но этот ребенок почти такой же большой и развитый, как и мой... перед тем как его... Когда, вы говорите, он начал ходить? Так быстро?! Мой встал на ноженьки только в год с половиной – я родила его очень поздно... Признаться, он и верно был очень болезненный... Этот же чудесный младенец словно дышит здоровьем! Воистину, чудодейственна сила Святой Земли, где был зачат он и где покоится Гроб Господень! Вы видели его? А Голгофу?
Я верно понимаю, что место упокоения моего супруга неведомо никому из ныне живущих христиан? И это дитя – единственная память о нем... А еще – надежда Франции! Шевалье, я приняла решение согласиться с предложением, которое вы сделали мне вчера. Впрочем, вы, наверное, поняли это уже по тому, что я пришла на эту встречу. Но вы не знаете, что я провела в этой часовне всю ночь, в молитве перед Пречистой Девой и Господом нашим Иисусом, прежде чем решиться. Простите мне мое волнение.
Да, я сегодня же объявлю о том, что мой ребенок не умер, но находился на лечении у святых отшельников. Неведомая болезнь была побеждена к вящей славе Господа нашего, тайна же его пребывания у святых старцев была непременным условием излечения. И теперь я готова везти его в Париж, в его дворец, регент же за неверие свое и предательство должен быть низложен, дабы собрался новый регентский совет, куда войду я сама и верные королевству члены ландсраада. Моя бретонская гвардия многочисленна, сильна и предана мне. И под их защитой, а также под покровительством других знатных рыцарей Франции, этот ребенок будет в большей безопасности, нежели с вами... Я понимаю, моя дорогая, ведь я тоже мать, но согласитесь – воистину чудо Господне, что этот младенец смог не уязвленным многочисленными опасностями столь ужасного пути добраться сюда! Тем паче, что вам будет лучше всего вместе с шевалье отправиться в Рим! Я не могу оставить вас здесь, во всяком случае, сейчас. Должно пройти время, и вы сможете появиться при моем дворе... да, при дворе моего... нашего – сына... и будете приняты придворной дамой или еще кем-нибудь, и сможете видеть дитя так часто, как это будет возможно. Но, если вы действительно хотите видеть его королем, проявите смирение, подобно Пречистой Деве Марии, чей сын унаследовал Трон Небесный. К тому же наверняка вы будете полезны шевалье Де Бурдейлю в его походе!
Монсир, вы просто обязаны встретиться с Папой, и во что бы то ни стало убедить его не поддерживать парижского скорпиона! Франция истощена участием в крестовых походах, испанцы наседают вдоль всей границы, проведенной мечом Карла Великого, и нашему рыцарству не нужны еще и враги-наемники на нашей земле. Пусть присылают кардинала, который получит постоянное положение при дворе, и дайте обещание увеличить земли аббатств за счет имений, которые мы конфискуем у лордов, поддержавших регента. На большее мы не согласны. Если вы не добьетесь успеха, мы всё равно выстоим! Если не справятся мужчины – за меч возьмутся жены и девы со всей Франции, от Бретани и до Орлеана!.. Идите же, и да хранит Господь Францию!..
Что, вы хотите на прощание еще немного подержать его? Как вы его назвали, кстати? Удивительно, воистину! Очень похоже и созвучно... ведь теперь его будут звать так же, как и первого сына моего... нашего возлюбленного супруга... Давайте сюда, я возьму! Не плачь, мой маленький Валуа! Ты будешь королем Франции!..
VI. СТАККАТО – ОТЕЦ
–Отец наш небесный!.. – Монашка шептала молитву, припав к палубе корабля. Над ней проносились стрелы, сметавшие с палубы венецианских матросов, такие мощные были у сарацин луки и так близко подошла их галера, чтобы, воспользовавшись штилем, взять на абордаж груженное золотом негоциантов Венеции торговое судно.
Вослед стрелам появились и сами сарацины – совсем не похожие на бедави синайских пустынь, черные, как ночь, вооруженные огромными кривыми мечами... Каждый взмах ятагана уносил жизни хлипких италийцев, и только двое – маленький темноволосый да большой и лысый, были словно неуязвимы. Вокруг первого атаковавшие падали без сознания от точных и быстрых ударов его рук. Второй, вооруженный ятаганом, отобранным у кого-то из сарацин, разил насмерть, и уже более десятка чернокожих трупов устилали палубу вкруг него. И тогда капитан сарацинской галеры, самолично возглавивший абордаж венецианского судна, заметил бывшую монашку, схватил за ворот, легко поднял одной рукой, второй же приставил кривой морской нож к горлу и гортанно выкрикнул по-арабски:
–Сдайтесь с честью и будете жить. Иначе первой умрет она!
Ответа он не ждал, но надеялся, что сумеет отвлечь этих двоих, заставит совершить ошибку, и тогда кто-нибудь из его опытных бойцов сможет их достать... Каково же было его удивление, когда низкорослый ответил ему на языке Кур’ан-и-Керим:
–Поклянись своей верой и честью, что сохранишь ей жизнь и доставишь нас троих к эмиру, и мы пощадим твоих людей! Залогом же пусть будет твое почтение перед Старцем Горы!
Удивление смешивалось с восхищением перед отвагой и доблестью этих двоих. Капитан лучшего судна когда-то огромного, но ныне изрядно оскудевшего и потрепанного флота эмирата Гранады, он ценил честь и отвагу превыше всего, кроме своей веры. Кроме того, упоминание Старца, чьим врагом становиться не хотел бы никто в здравом уме, заставило сарацинского капитана осторожничать. Сложные нынче времена.
–Что делают эхли-муслим на борту корабля гяуров? И зачем тебе жизнь гяурской монашки? Да, и... с какой стати почтение к Старцу Горы должно распространяться на тебя?
–Мы – народ Книги, эхли-Китаб, последователи учения пророка Исы, мир Ему! Пророк Мухаммед, мир Ему, велел почитать и уважать народы Книги...
Капитан рассердился, нож у горла монашки слегка надрезал тонкую кожу:
–Не муслимы, но гяуры, называющие себя последователями Исы, мир Ему, начали эту неправедную войну против нас! Мы – воины Альгамбры, слуги Великого эмира, последние из некогда великого оплота муслимов в этих морях...
–Я знаю, кто вы, и уважаю вас, о последователи учения Мухаммеда, Мир Ему, но клянусь всеми песками от Мекки и до Медины, что если твой нож причинит еще больший вред моей спутнице, я этими руками разорву тебя на столько кусков, сколько баранов ты резал в своей жизни на гурбан, в Священную Жертву! А кровью твоей помечу свой лоб шатром-«шаныраком», в знак почтения к своему учителю! – Хриплый голос до сих пор молчавшего великана заставил капитана содрогнуться. Этот человек говорил на арабском так, как говорят жители далекого Мисра – Египта. Резать баранов на праздник жертвы «гурбан байрам» и раздавать мясо бедным капитан имел привычку после каждого удачного плавания, а удачным он считал каждое плавание, после которого возвращался домой, к женам и детям. Капитан поверил угрозе великана. Да и как не поверить, когда великан упомянул знак, коий гашишшины Аламута считали своим символом – греческая «Альфа», но без поперечной черты, покрывающая шатром-«шаныраком» все уголки мира, куда дотягивались руки Аламута. А руки у Аламута – длинные! Стоит ли ссориться с тем, кто называет «шанырак» гашишшинов знаком своего учителя? К тому же он понимал, что, доставив этих троих к эмиру, заслужит большей похвалы, нежели убив их здесь и при этом потеряв большую часть команды.
–Я не убиваю безоружных, детей, женщин и уважаю достойных и доблестных врагов. Клянусь своей честью, но не верой, ибо Пророк, мир Ему, запретил клясться Верой, Аллахом и Книгой... клянусь, что живыми и невредимыми доставлю вас троих к Великому эмиру Альгамбры, если и вы поклянетесь именем Исы, мир Ему, и своей честью, что не предпримете ничего во вред нам, не попытаетесь бежать и будете повиноваться мне, как капитану, пока мы в море!
–Иса, мир Ему, запретил и нам всуе упоминать Веру и имена святых, и потому честью своей клянусь тебе, что да будет так, как ты сказал, и в том беру я на себя ответ и за спутников своих! – ответил низкорослый. Громадный египтянин лишь согласно кивнул и перекрестился.
Монашка же продолжала тихо шептать, хотя руки капитана отпустили ее и убрали нож от горла:
–... да святится Имя Твое, и да придет царствие твое, и ныне, и присно, во веки веков! Аминь! Отец...
- Отец! Отец нам капитан, и море – наша мать!
- Домой! Стремимся мы к родному берегу пристать!
- Аллах! Лишь только Он, Всемилостивый, волен
- изменять
- Судьбу! Ему лишь на пути джихада жизнь ты можешь
- доверять!
Так пели гребцы и матросы на галере сарацин, направлявшихся домой. Пели под шум волн и размеренный бой барабана на корме. Пели, как молитву...
Целых три недели корабль, атаковавший венецианское торговое судно и захвативший Сейда и его спутников, шел к берегам Иберии. Если бы не нападение и плен, они уже были бы в Венеции – до нее оставались каких-то три дня пути! Если бы не безумный рейд иберийского капитана, намеренно рискнувшего своим кораблем и экипажем ради богатой добычи, и грабившего христианские торговые суда у самых берегов католической Италии. Альгамбре нужно золото! Война с Испанией разорила казну Великого Эмира, и верный капитан уже в который раз совершал рискованные, но успешные налеты, добывая средства на восстановление почти уничтоженного флота Альгамбры.
Сдавшись в почетный плен, Сейд, монашка и Египтянин были тут же переведены на корабль сарацин. Кроме них, пленников на корабле не было – последнего захваченного знатного заложника капитан давно обменял на золото, и если бы ему не попался еще и этот корабль, наверняка лег бы на курс к родным берегам. Что и велел сделать, как только последние мешки с золотом, полученные от удачной продажи всего венецианского товара султану сельджуков, были перенесены в трюмы его галеры. И потому настроение у капитана было отменным – он очень боялся, что если захваченное судно гружено штуками шелка или ларями с пряностями, которые могли не поместиться в и без того набитые награбленным добром трюмы его корабля, то частью захваченного придется пожертвовать, утопив вместе с торговым судном. Тяжелые золотые монеты с вычеканенным узором, напоминавшим двуглавого орла, уже попадались ему, и он знал, что Альгамбра может купить на них великолепные боевые корабли турков! Правда, такие же монеты обнаружились и у христианских пленников. Неужели и эти трое оказывали какие-то услуги сельджукам? Не венецианцы же им дали турецкое золото – они, как правило, предпочитали платить своей, более легковесной золотой монетой, в которую к тому же подмешивали изрядно меди и серебра. Немного подивившись, капитан велел пуститься в путь к родным берегам.
Удивительным было это морское путешествие. В первый же день пути случилось нечто, удивившее Сейда и ввергшее в изумление даже Железного Копта, который, казалось, вообще разучился удивляться в этой жизни чему-либо. Во время обыска сарацины велели раздеться всем, даже монашка осталась в одной длинной нижней рубашке. Но потом, когда пленникам вернули их вещи, она вдруг отказалась облачаться в монашеское деяние и попросила капитана дать ей другую одежду. Находившийся в состоянии благодушия, капитан велел своему помощнику достать из ларей с добычей несколько женских нарядов. Принесли целый сундук с шелковыми платьями, изукрашенными золотой и серебряной вышивкой, каменьями, каждый из которых в стране, к примеру, франков, можно было обменять на хорошую лошадь. Однако и от щедрого подарка монашка отказалась, выбрав себе удобные шаровары из тонкой шерстяной ткани и шафрановой окраски простое индийское сари из хлопка. Взяла лишь один шелковый платок, самый простой, которым повязала волосы. Оделась прямо на палубе, сняв и нижнюю рубашку. Она ввергла в изумление всех, начиная от матросов-сарацин, не привычных к виду обнаженного женского тела. Словно не замечая ни собственной наготы, ни сначала изумленных, а через миг уже жадных мужских взглядов вокруг, начала одеваться во всё новое. Одевшись, выпрямилась во весь рост, являя взору мужчин полную достоинства осанку и красивое лицо, на котором странным огнем, словно с вызовом, светились яркие даже при свете слепящего морского солнца глаза, пристально обводящие взглядом всех мужчин вокруг. Остановила взгляд на Сейде, и вызов этот стал особенно явным. После чего на ломаном арабском языке, тихим голосом, но очень уверенно заявила:
–Я – не монахиня!
Первым наступившую тишину нарушил капитан:
–Кто же ты, женщина?
Она отвечала, не отрывая взгляда от Сейда, который отвечал на этот взгляд... отвечал ли? Или утонул в нем, не замечая ничего вокруг?
–Я женщина... Женщина этого человека...
Капитан встрепенулся:
–Наложница?.. Рабыня?.. – и, уже обращаясь к Сейду: – Продай мне ее!
И тут наступила очередь Сейда удивлять. Он отвечал капитану, но взгляд его оставался прикованным к лицу, которое он ВИДЕЛ... Он снова видел Женщину!..
–Я не продаю свою невесту.
Раздосадованный капитан вначале замялся, но все же нашелся что ответить:
–Тогда... тогда, раз она твоя невеста, то ты должен следовать нашим обычаям и не можешь видеть ее до свадьбы. Она будет находиться в другой каюте, вы...
Громадный Египтянин в один прыжок оказался рядом с капитаном и сжал его горло рукой. Сейд же словно превратился в маленький вихрь, пронесшийся по палубе корабля, сметая за борт точными ударами ног и рук матросов, даже не успевавших обнажить оружие. Вихрь этот снова предстал в образе человека в боевой стойке, прикрывавшего собой... свою невесту?! Вокруг них уже собирались матросы с обнаженными клинками, некоторые натянули луки.
–Ос... остановитесь! – послышался хрип капитана. – Опустить оружие! Ты, великан, прекрати душить меня... дай договорить... я хотел сказать, что вы останетесь в моей каюте, со мной, и это будет лучшим залогом безопасности этой женщины.
Железный Копт посмотрел на Сейда. Тот дождался, пока матросы выполнят приказ своего капитана и опустят оружие. Затем кивнул, и Египтянин выпустил шею капитана из своей огромной ладони, обхватившей ее целиком. Освобожденный, сарацин потер горло и сипло рассмеялся:
–Научитесь терпению... научитесь слушать... христиане, кажется, вообще не умеют терпеть и слушать, а? Хе-хе... Или это следует отнести еще к федаинам Аламута, привыкшим слушать только своего Учителя?
Вдруг взгляд и голос его обрели твердость и серьезность:
–Я – человек чести, и собираюсь выполнить данную клятву. Ни один волос не упадет с вашей головы, и никто не посмеет прикоснуться к этой женщине! Но на этом корабле я – капитан, и жить вы здесь будете по нашим законам и обычаям! Я не допущу блуда и харама на моем корабле! Женщина будет жить в отдельной каюте, без мужчин, и должна будет прикрывать лицо и волосы платком, когда ей в каюту будут доставлять пищу. Вы же будете жить со мной, спать со мной, и если я нарушу клятву чести – можете перерезать мне горло во сне. Но будет так, как я сказал! А теперь – всем разойтись по своим местам! Идем домой!
Уже потом, во время совместной с пленниками трапезы в каюте, капитан со смехом сказал:
–Красивая женщина, воистину... Но если бы я не отдал себя вам в заложники на собственном же корабле, этот великан сломал бы мне шею... Хе!
Он говорил это, обращаясь к Сейду, и смеялся, но глаза его были серьезны, и потому было трудно понять, в самом ли деле он так шутит или же говорит правду.
Все три недели пути новообретенная невеста Сейда ни разу не вышла из своей каюты. Ни один мужчина, включая Сейда, Железного Копта и самого капитана, не видел ее лица. Это было поистине удивительное путешествие в обществе удивительного капитана, которого матросы называли не иначе, как отец...
–Отец! Я – твой отец! – Великий эмир Гранады стоял напротив Сейда, и слеза текла по складкам на его жестком, морщинистом лице. Сейд же не чувствовал ничего! Он не сомневался в правдивости слов эмира. Всё совпадало – и оазис, и имя матери, и шейха клана, что заключил временный брак-сыйгях между паломником, идущим в Мекку, и самой красивой девушкой клана бедави оазиса Шюкр Аб, Вода Благодарения. И никто в том оазисе не знал, кем же на самом деле был тот паломник. Самому же Великому Эмиру не было никакой нужды называть родным сыном пленного бродягу, к тому же христианина, приведенного к нему вместе со странной невестой в странном наряде, в обществе странного египтянина... если только это и в самом деле не было правдой.
Но у него уже был... отец?.. Отцы?.. Кем были для него на самом деле Старец Джаллад-Джаани и Шут-Магистр? Смог ли хоть кто-либо из них сделать то, на что притязает этот незнакомый человек – подарить ему жизнь? Каждый из них дал ему... что?.. Новую жизнь? Но, если подумать, было ли это НОВОЙ жизнью? И было ли жизнью вообще? Они были его учителями, но жизнь... тем более – новую жизнь!.. Нет! Уж скорее его отцом и матерью были орел и орлица. Отец, которого он убил своими руками, и мать, которая умерла из-за него... Они стали родителями его Духа, учителями его Души... как Скорпион и Пустыня, научившие его думать стихами и ощущать Мир...
Сейд попытался ощутить Мир и этого старого Человека в нем... И почувствовал... БОЛЬ! С этой болью пришло и понимание – перед ним его отец. Человек, подаривший ему жизнь. Неважно, где он был всё это время. И неважно, как велика пропасть незнания друг друга, преграды неизвестных им обоим событий и времен, делающих их чужими друг другу людьми. Они связаны чем-то гораздо большим, чем понятия о Любви, Чести, Семье... Потому что превыше всего этого – самое важное, что только есть во Вселенной, то, что убийца научился ценить и поклялся беречь – Жизнь. Смерть разрушает Любовь, что бы ни лгали поэты. Честь того, кто лишился жизни, предается Забвению теми, кто остался жить. Семьи разрушаются, когда приходят смерть и забвение, уносящие честь. И только Жизнь противостоит. Смерти. Разрушению. Забвению. И даром Жизни он обязан только этому человеку, которого совсем не знает. Но чувствует. И Сейд понял это и поразился впервые этому чувству – любит! Впервые из глаз, позабывших слезы, потекла влага, которую душа поэта, жившая в бывшем убийце, могла бы назвать именем родного оазиса – ШюкрАб, Вода Благодарения. Благодарности Создателю за то, что он нашел его. Капля этой воды не упала на ворс роскошного ковра, но смешалась с влагой на щеке старого эмира, к которой прижалась щека сына. Из губ вылетело шепотом-птицей, чтобы воспарить к небу и Создателю:
–Спасибо, Отец!
–Отец! Примите мою любовь и почтение... – Бывшая монашка, а ныне – жена по праву брака-сыйгях, тщательно подбирала слова на арабском, обращаясь к Великому эмиру Гранады. Несколько минут назад прямо в зале дивана дворца Альгамбры старший гази-судья объявил брак-сыйгях между бывшими убийцей и монашкой состоявшимся.
До этого жених и невеста виделись лишь один раз с тех пор, как решением капитана ее поместили в отдельную каюту на корабле. По прибытии к эмиру ее сразу же перевели в женскую половину дворца. Встреча состоялась по настоянию обоих – в дворцовом саду, куда невесту привели с закрытым покрывалом лицом. Он мог слышать лишь ее голос. Он ничего не спрашива. Говорила только она:
–Я повторяю путь своей святой. После надругательства надо мной я перестала быть монашкой и невестой Христовой. Связь с Сабельником была кощунством над моим саном, и я давно потеряла право на монашеское звание и одеяния, но лишь в тот день, когда думала, что на корабле нас всех убьют, по-настоящему поняла и почувствовала это. Но близость с Сабельником... она подарила мне Знание... Знание об истинной судьбе моей святой. Он ведь был Магистром Восточного Крыла Ордена Тамплиеров, хранившим сокровенное, тайное Знание. Когда однажды он выпытал из меня историю о моей клятве повторить судьбу моей святой, он долго смеялся и рассказал мне... Наверное, потому что сам ни во что не верил и находил всё это забавными баснями церкви да глупыми тайнами рыцарских орденов, которых считал больше монахами, нежели воинами.
Видимо, воспоминание о временах, проведенных с Де Сабри, оказалось слишком тяжелым для нее. Она ненадолго замолчала. Сейд тоже молчал. Не знал, что сказать. Считал удары сердца и пытался успокоить дыхание. Но никакие упражнения и навыки гашишшина сейчас не помогали. Сердце и плоть мужчины, подавленные и дремавшие до последних дней, проснулись, смущая ум, заставляя испытывать безумное смешение чувств от самого голоса и запаха ЭТОЙ женщины. Она же продолжала:
–Смеясь, Сабельник рассказывал мне о том, кем, как считает Орден, и о чем, по его утверждению, знают и в Риме, приходились друг другу Иисус, сын Марии, и потомок рода Давидова, оболганная и поруганная Мария Магдалина... Об этом наверняка знал и твой Учитель, ведь, принимая посох Магистра, он приобщался к этой Тайне. Орден должен был хранить не только реликвии истинного христианства, но и род королей франкских, ведущих свое начало от Иисуса и Марии Магдалины. Потому Западное Крыло и расположилось в Париже, а не где-нибудь еще. Я могу и должна стать супругой сына человеческого. И я... я люблю тебя... Всегда любила. С тех пор, как увидела твое лицо в темноте пыточной Железного Копта. Поняла же, когда кинжал того черкеса во дворце султана сельджуков пронзил твое плечо... Больше всего я боялась, что кинжал отравлен и я потеряю тебя. Когда же на нас напали в море, и я думала, что мы все умрем. Ты знаешь, у меня была подруга... та самая Шалунья Рыжая, которая часто говорила мне, что время уходит, и я могу опоздать...
Она снова замолчала, на совсем краткий миг, чтобы справиться со слезами, и продолжила:
–Когда над моей головой летели стрелы и каждая из них могла убить тебя, я поняла еще и то, что если мы останемся живы, то постараюсь сделать всё, чтобы ты понял... Я не надеялась, что ты ответишь так... назовешь меня своей невестой. Я просто вела себя как женщина. Наверное, впервые в жизни. Наверное, тогда ты впервые и увидел меня, как Женщину... Не надо ничего говорить. Мне кажется... я верю в это... что я научилась чувствовать твое сердце, твои мысли... Если я ошиблась, ты всегда можешь продолжить свой путь без меня, потому что я решила остаться здесь. Если же... если я права – скажи, пусть нас соединят браком-сыйгях. Мы ведь эхли-Китаб, народ Книги, и любой богослов, что наш, что магометанский, если настоять, согласится, что это возможно. Если сильно настоять... С богословами только так и надо! По-настоящему венчаться мы ведь пока не можем... я знаю, что здесь есть церковь и даже христианский священник, которому, как и некоторым христианам, эмир позволил жить в Гранаде. Но ты уйдешь по пути своего джихада, как ушел когда-то по своему пути Иисус... Я всё равно останусь здесь, потому что твоя дорога лежит в Рим, мне же там делать нечего. Я знаю, что эмир – твой отец. На женской половине все только об этом и говорят. И я, кажется, знаю, каким будет твое решение. Теперь здесь мой дом. И если ты назовешь меня своей женой, я смогу сказать, что у меня здесь есть еще и отец.
Отец вновь подарил Сейду жизнь. Два долгих месяца они провели во дворце у эмира. Каждую ночь принимал Сейд свою супругу в покоях и радовался жизни, которую обрел. Настоящей жизни. Но только облик Железного Копта, ежедневно сопровождавшего своего спутника, напоминал ему о цели их путешествия. Они вместе проводили занятия по искусству джаани, обучали лучших воинов эмира некоторым из своих знаний, принимали участие в диспутах поэтов и богословов, коих в Альгамбре при дворе Великого эмира обреталось множество. Впрочем, участие принимал только Сейд, Египтянин просто присутствовал молчаливой, огромной, мрачной тенью.
Через два месяца Железный Копт вдруг сказал:
–Если не пойдешь, я отправлюсь в путь один.
Сейд, почти не раздумывая, ответил:
–Через три дня отправляемся.
На первый день после этого короткого разговора эмир, услышав, что Сейд собрался идти в Рим, разразился волнительной и громкой речью, в которой поэтические образы и сравнения чередовались с отборнейшей базарной бранью:
–Воистину Аллах, да славится Он, наказывает меня за греховные мысли мои! Когда-то я, подобный согбенному от тяжести плодов древу, согнулся от бед, что сам же и взрастил, и горьки были плоды эти: погиб один сын, другой принял христианство и бежал вместе с женой в Рим, третьего убили младенцем... Казалось мне, род мой прервался, и подобен я стал древу иссохшему, что сломится от дуновения ветра... Политические замыслы мои рушились, кружево интриг расплеталось, как пряжа в руках бездарной и глупой хозяйки. И тогда я, осел безумный, чей мозг подобен трухлявому пню, а сердце – гниющему яблоку, мыслил, что мне нужен сын, но не для счастья в старости, а для того, чтобы он пошел в Рим и убил того, кого христиане называют Папой! И вот Всевышний посылает мне сына – обученного искусству убийцы, но отринувшего Смерть... И всё равно объявившего свой джихад и собравшегося идти в Рим на верную смерть! Что ты там будешь делать, о светоч сердца моего? Ведь там нет ТАКИХ христиан, как ты! Тебя там попросту убьют! Я больше не корю судьбу, я смирился с тем, что мой единственный потомок, которого судьба привела ко мне украсить мою старость, стал христианином... Я молю Аллаха лишь подарить мне внука, который, быть может, примет мою веру и возьмет в руки знамя эмирата, но, воистину, справедливо и жестоко карает Всевышний, обращая греховные мысли человека в страшную правду его жизни.
–Я пойду с Железным Коптом, отец. Я должен быть с ним рядом на этом пути. Даже если ты не отпустишь меня – я должен буду пойти. Это – мой джихад... Я только хотел получить твое благословение...
При этих словах старый человек, которого все знали как Великого эмира и еще никогда не видели сломленным, вдруг схватился за сердце и, побледнев, начал оседать на пол... Первым на крик Сейда явился Железный Копт, который без слов всё понял и, взяв казавшееся безжизненным тело эмира на руки, вопросительно посмотрел на Сейда. Тот уже повернулся и почти бежал в сторону женских покоев. Египтянин поспевал за ним, казалось, даже не ускоряя шага. Вслед за ними бежала толпа придворных лекарей.
У входа в женскую половину стражи-евнухи попытались было преградить им путь, но, разглядев Сейда, расступились перед ним, перед великаном-египтянином встать попросту не посмели. Отыгрались на толпе придворных, сделав суровые лица и выставив вперед копья, словно перед ними враги-испанцы. На голос Сейда уже спешила его молодая жена, перед которой Железный Копт бережно положил тело старого эмира. Стоило невестке лишь возложить руку к области сердца, как глаза старика открылись и он жалобным голосом, какого от него еще никто и никогда не слышал, проговорил:
–Скажи ему, дочка...
Бывшая монашка метнула на бывшего убийцу такой взгляд, что Сейд беспомощно посмотрел на Египтянина, потом опустил глаза и поспешил уйти. Железный Копт последовал за ним. В голове у Египтянина крутилась одна мысль: «Убью Папу... и никогда не женюсь!»
Уже вечером Великий Эмир снова был самим собой, провел вечерний совет-ди’ван со своими везирами-советниками, но ужинал в своих покоях, не дав Сейду даже возможности продолжить разговор.
На второй день после разговора Сейда и Египтянина, ранним утром, когда рассвет еще только собирается забрезжить на горизонте а муэдзины начинают просыпаться и принимать аб-дест, чтобы призвать правоверных к утреннему намазу, во дворец вошел посланник. Его не привели, не провели к Великому Эмиру в приемные покои или зал дивана, он именно что вошел. Сам, не спрашивая дозволения и не докладываясь никому. Впрочем, никто, кроме самого Великого Эмира, и не узнал о его прибытии. Посланник вошел в тайную приемную комнату Эмира через особое окно, которое выходило в сад. О существовании этого окна знали немногие, и находилось оно на высоте, недоступной обычному человеку. Но только не обученному в Орлином Гнезде! Посланник попал в приемную комнату неслышно, бесшумно прошел к дальней нише, где Эмир зачем-то держал свитки с докладами о хозяйственных расходах казны, которыми почти и не пользовался, если судить по покрывавшей их пыли. Задержался у ниши на миг, после чего вышел из комнаты тем же путем, что и вошел.
Сразу после утреннего намаза Великий Эмир прошел в тайную приемную комнату, огляделся. В пыльной груде свитков лежал один, такой же, но без следов пыли. Эмир извлек его, развернул, начал читать. Задумался. Это снова был тот Великий эмир, что вот уже три десятка лет успешно противостоял атакам христиан, защищая свой эмират от врагов. Мудрый правитель и бесстрашный полководец. Мудрый и бесстрашный еще раз пробежал глазами по письму, затем поднес его к горящему масляному светильнику. Держал в пальцах, обжигался, но дождался, пока огонь полностью сожрет свою пищу. Остатки бросил на керамическое блюдце и лично растер пепел в золу. Вытряхнул блюдце в окно, посмотрел, как зола исчезает облаком серой пыли, даже не долетев до зелени сада. Недовольно хмыкнул, заметив легкую примятость на траве под окном. Повернулся, вышел из комнаты, о чем-то размышляя. Остановился в зале ди’вана, стоял и думал, словно не замечая склонившегося перед ним в поклоне старого вазира. Сердито пробормотал: «Он и так решил идти – значит пойдет!..» и вдруг словно заметил человека перед собой. Коротко приказал: «Моего сына и Египтянина – ко мне в покои!», – после чего отвернулся и быстрым шагом покинул зал.
Сейд и Египтянин с поклоном вошли в покои эмира. Тот сидел на ковре, скрестив ноги, и держал перед собой Книгу. Коротким движением руки велел страже выйти. Кивком дал знать, чтобы сын и его спутник сели перед ним. Но Сейд остался стоять. Заговорил почтительно:
–Великий эмир...
–У вас в Орлином Гнезде вежливости не учили, так? Только убивать – так зачем убийце вежливость? Старших перебиваешь... Сядьте оба!
Приказ был дан тоном, которому повиновались всегда... и все. Сейд и Египтянин одновременно сели перед эмиром в точно такой же позе, как и он. Эмир заговорил, не поднимая глаз на сидящих против него:
–Убийца, посланный в Рим вашим Муаллимом, не справился. Скорее всего, был убит, даже не добравшись до Папы. Старец хочет, чтобы вы шли в Рим. Оба. Считает, что кроме вас, никто не достанет это чудовище. Завтра можете идти. Всё, что нужно, я приготовлю. Египтянин, можешь идти. Ты задержись... Поговори с женой... Мои евнухи и харем-баши подозревают, что... Впрочем, пусть она сама тебе скажет.
Взволнованный Сейд с нетерпением дождался кивка, позволяющего покинуть покои эмира, который за весь разговор так и не взглянул ему в лицо. Помчался в покои жены. Она ждала его... Обняла... Тихо сказала:
–Ты будешь отцом...
С отцом, казалось, попрощаться так и не удастся. Весь предыдущий день Сейд провел с женой. Железный Копт готовился в дорогу. К себе эмир сына так и не вызвал, зато еще один раз встретился с Египтянином наедине. О чем говорили – никто не знал. Наутро они вышли из дворца в сопровождении небольшой группы стражников. У входа во дворец их встретил капитан галеры, захватившей судно, на котором они плыли в Венецию. Улыбнулся:
–До италийских вод поплывете со мной. Идем на борт!
На пристани, у самого корабля, Сейд увидел старика. Тот стоял один, босой, в простой, длинной белой рубахе, чьи плечи, как и растрепанные седые волосы самого старика, были обильно испачканы пеплом. Вокруг старика, казалось, образовалась странная пустота. Со всех сторон, но поодаль, словно смущенные, стояли дворцовые стражники. Корабль Сейд узнал сразу. Та самая галера. Старика же... Только приблизившись, он вдруг понял... Прощание с женой всё еще держало в горячей хватке его сердце. Хватка эта словно стала ледяной. Старик поднял голову, и Сейд увидел полные слез глаза, подобные плодам оливы. Впервые вдруг подумал, что они такие же, как у него самого. Услышал хриплый голос:
–Прости меня!..
Бросился, обнял, прижал к себе, прошептал:
–Отец!..
AD LIBITUM – СТРОИТЕЛИ И ВОИНЫ
«Строителями, каменщиками, возводящими новый оплот истинно христианского мира, должно стать теперь нам, подхватив хоругвь Господа нашего Христа, что падает ныне из рук поверженного фарисеями Ордена Храмовников. Призываю Вас, милорд, присоединиться к нашему союзу, ибо известно мне, что в бытность свою настоятелем монастыря при Ла Рошели именно Вы оказали немалое содействие, спасая от мести скорпиона-узурпатора многих достойных рыцарей Тампля, успевших спастись из Парижа. Кроме того, осведомлена я и о Вашей причастности к особым тайнам Ордена Храмовников, поскольку сама, по воле покойного Магистра и с соизволения его, была приобщена к Сокровищу Знания Храма...» – Изольда обмакнула перо в чернильницу, но продолжать писать не спешила. Задумалась. Ей вспомнился день, когда к ней явились посланники от Магистра Западного Крыла. Она тогда еще не знала, что пока принимает их у себя в Бретани, слушает их, невольно содрогаясь от открывшейся ей ужасной и в то же время прекрасной тайны, в Париже происходит аутодафе, церемония, на которой посланники Рима торжественно отлучают от лона Матери-Церкви весь Орден Храмовников. И вот уже горят на кострах рыцари-тамплиеры из Верховной Ложи, осужденные на смерть тогда еще принцем-регентом, старшим братом ее покойного супруга, который уже начал свою кампанию с целью угодить Риму и Папе. С целью получить союзника. А заодно – обогатить казну. Свою казну – ведь он наверняка уже считает казну королевства своей собственностью! И первой жертвой для этого союза стал Орден Тамплиеров.
Магистр не просто подозревал – он знал, что должно произойти. Однако Восточное Крыло Ордена было обезглавлено и практически уничтожено. И Верховная Ложа решила, что всё происходящее есть знамение. Орден должен уйти, оставив свое наследие тем, кто попытается распорядиться сим драгоценным даром более разумно. Верховный Магистрат Западного Крыла состоял больше из монахов и политиков, и большинство из них единодушно пришли к мнению, что печальная судьба Тампля есть ни что иное, как заслуженная кара за грехи смертные, ибо, по мнению рыцарей, руки у Ордена за эти годы погрязли в крови. Сам же Орден, забыв о главных своих целях и задачах, увлекся властолюбием. Впрочем, не тщеславие и погоню за наживой Верховная Ложа считала причиной того, что Тампль ныне должен пасть. Нарушение заповеди «не убий», по мнению самого Магистра, лишило их права иметь отношение к Граалю. И потому рыцари Верховной Ложи сочли за верное решение погибнуть самим, но дать возможность уйти от преследований средним и нижним Ступеням. Тайну же было решено передать той, кто хранит Чашу, – матери последнего из наследников короны Франции. Ей, Изольде Бретонской. О чем и сообщил ей тамплиер-гонец. Это был уже почтенный, в летах, старец, в чьи задачи входила подготовка Хранительницы Чаши, как он ее окрестил. Однако тяжелое путешествие плохо сказалось на здоровье немощного храмовника, схватившего по пути из Парижа в Бретань крепкую простуду. Тамплиер успел ей рассказать всё, но через два дня после прибытия слег с жестоким кашлем, а через неделю отдал богу душу. Впрочем, каждый отпущенный ему день он проводил с Изольдой, объявив, что его беседы с ней и есть для него и цель оставшейся жизни, и исповедь умирающего христианина.
Следует признаться, что тогда все эти откровения испугали Изольду. Она оказалась в растерянности и не могла ни о чем думать, кроме как о своемсыне и его дальнейшей судьбе. Смерть единственного дитяти, казалось, лишила ее самого смысла существования, и появление шевалье Де Бурдейля с этой женщиной и ребенком... ребенком ее супруга! Граалем! Это ли не перст Божий? Тайна Ордена Храмовников обрела плоть и насущное значение. Она стала новым смыслом жизни для женщины, которую, как ей казалось, лишили всего. И если знамя Грааля поручено нести ей... она сделает это так, чтобы не повторить ошибок прошлого. Новый Орден – Ложа Избранных, чье призвание состоит не только в том, чтобы хранить саму Чашу с кровью Христовой, нет! Душа настоящего христианства, что превозносит Жизнь – против Смерти, терпимость – против ненависти и Любовь – против насилия, вот что должны были хранить тамплиеры и что самой Судьбой поручается теперь ей и тем, кто станет ее соратниками.
Уже летят по всей Франции письма. Тамплиеры всех Ступеней, выжившие после преследований, будут теми камнями, которые она положит в фундамент нового Храма. И другие, те, кто не принял постриг, не покинул свет, но силою духа и мысли может содействовать в великой Миссии – вот, кто войдут в ряды строителей Нового Мира! Среди них будет место не только тем, кто зовет себя христианином или же причисляет себя к таковым, ибо Учение Христа есть не ритуал, но Дух, несомый Словом и обретающий себе пристанище в Сердце! Возглавлять же Строителей должно лишь тем, кто ценит жизнь превыше власти и богатств всего мира – женщинам! Матерям! Ибо женщины творят Историю, рождая рыцарей и королей, поэтов и... и – шутов!
Изольда вздохнула. Она сильно уставала – помимо работы по созданию нового Ордена, нового двора, новой политики, она еще и сама занималась уходом за ребенком, опасаясь за его жизнь и не смея полностью доверить заботу о своем Граале никому. Но эта забота дарила ей и новую, не ведомую ранее радость истинного материнства. Юный Валуа был точным подобием отца – от матери-британки ему достался разве что взгляд, дерзкий и пронзительный, да величественная осанка, которой бывший герцог Бретонский никогда не мог похвастаться. Впрочем, он вообще никогда и ничем не хвастался...
Долой грусть! Ее ждет работа! Она должна строить новую опору – для своего Валуа, для Нового Мира! А значит – надо дописать письмо. Мать-регентша наследника трона Франции продолжила: «Сей союз есмь не орден воинов, ибо Хранителям Чаши не дозволено обагрять рук своих в крови кого бы то ни было, но Ложа истинных строителей и созидателей, кои по образу и подобию Творца и по воле Его начнут неустанный труд сопротивления: разрушению, войнам, кровопролитиям и бесчисленным мучениям рода человеческого.
И, поскольку угодно было Создателю, чтобы Чаша с Кровью Господней находилась в земле Франции, пусть будет отныне именоваться сия ложа – Ложей Франкских Каменщиков...»
–Пишите, сын мой: «И поелику мы есть божьи воины, недостойно убояться нам смерти во имя Господа нашего, коий есмь...»
–Я здесь сам всё распишу, святой отец, вы суть только мне изложите! – В голосе молодого секретаря проскользнула нотка раздражения. Торопился молодой человек, спешил домой, к возлюбленной супруге, вот и позволил себе вольность. Впрочем, вольности этот молодой человек себе позволял в последнее время и не такие – уж очень близок стал он Его Святейшеству, слишком много тайн внутренней и внешней политики Рима известно ему, и всерьез верит он теперь, что стал и в самом деле незаменимым человеком для наместника Петра на Земле!
Папа посмотрел на своего секретаря, задумался: «К жене торопишься, грязный сарацин! Ужо завела тебя твоя любовь к ней вдаль и от веры, и от дома своих, так теперь и от жизни отдаляет... Не понимаешь ты, что незаменимых у нас нет. Даже я заменим, и уж только потому, что хорошо это понимаю, и не позволил до сих пор курии заменить меня. Однако в том ты не ошибаешься, что именно в сию минуту мне тебя заменить некем. Потому что нужно дописать письма...» Папа заговорил сухим, словно выходящим из потрескавшегося старого дерева, голосом:
–Значит, считаешь, что церковный эпистолярит освоил? Суть тебе подавай, говоришь? А вот тебе суть, да покороче – пускай знают англичане, что трон Франции ныне свободен, и если проявит британский лев интерес к тому, чтобы взять под свою власть земли по ту сторону Ла Манша, церковь на то гневаться не будет, но благословит... победителя! Потому как без войны франки земли не отдадут, и значит, коли так, войне – быть.
–А как быть с юным отпрыском герцога Бретонского, оставшимся в живых после таинственной кончины своего... гм... болезненного дяди? Как его звали, дайте припомнить... ах да – Валуа! Сын сенешаля, погибшего на Святой Земле, крестоносца, героя! Его вдова, эта Изольда, сумела сколотить могущественную партию из дворянства, пользуется поддержкой рыцарства и уже наводит порядок во Франции...
Сухой голос старика еще больше пошел трещинами – Папа уже всерьез сердился на своего секретаря за то, что тот осмелился перебить его.
–Порядку этому конец быстро настанет, когда испанцы с моего особого благословения перейдут горы и вступят на франкские земли. А с севера пойдут викинги, которые только и ждут моего знака. И получат они его, когда англичане высадятся со своих кораблей на юге. Эта Изольда... слишком горда и властолюбива! Ты должен помнить письмо с ее предложениями, которое тебе передали посланцы...
–Да, юный рыцарь, из крестоносцев, и с ним странная женщина с волосами, подобными цвету огня. Вы еще отказались сами принять их, и тогда я написал письмо с их слов. Но не только с их слов, а также и от наших доносчиков из Франции нам известно, что за короткий срок под знамя Валуа собрались очень серьезные силы. Не совершаете ли вы ошибку, святой отец, рассчитывая на быструю победу? Франки сильны и могут очень долго продержаться...
–НЕ СМЕЙ ПЕРЕБИВАТЬ МЕНЯ! Да пусть хоть сто лет длится эта война, и сотню лет англичане и франки проливают свою кровь – мне всё равно! Маленькая победоносная война или вековая кровавая бойня, смысл один – последний оплот несущих в себе кровь... Впрочем, это тебе и не нужно. Словом, Франция должна быть уничтожена! Даже если мы не доживем до того дня! Так и напиши, чтобы этим британцам стало ясно – война угодна Церкви, а то, что угодно Церкви, угодно и Богу! Я ТАК СКАЗАЛ!
VII. КРЕЩЕНДО – МАРДИ-ГРА!
- Точкой!
- Как черной звездой по ясному небу.
- Болью —
- Сладострастием связи любовной меж смертью
- и жизнью.
- Маслом,
- Что течет по вселенской сковороде, прежде чем жарить
- блины.
- Горькой
- Граппой, налитой в кубок из глины необожженной,
- в руке крестьянина...
- Солью —
- Обильно посыпанной на кровоточащий бок поросенка,
- что пляшет на вертеле...
- Праздником
- Жирным, как поп приходской, кардинал иль святоша
- иной – этот день отмечают шуты...
Странные стихи показались шевалье Де Бурдейлю страшными. Вообще всё вокруг казалось страшным. А ведь это еще не сам праздник, а только подготовка к нему. Трубадуры и шуты забрали в свое распоряжение весь двор небольшой римской траттории и готовились к завтрашнему празднику. Гасконец и крестоносец, он вовсе не был ханжой, но в родной Франции этот праздник был... попроще, что ли? Не было той злобы, которую он замечал во всем Риме, словно город жаждал праздника... и ненавидел его. Потому что город был – разный. Рим был болен! Город хворал шутами, читающими крамольные или сумасшедшие стихи, и смертельно болел святошами и шпионами, бравшими на заметку как сочинителей подобных виршей, так и их слушателей. Говорят, после прошлогоднего Марди-Гра было арестовано более тысячи человек, из которых почти треть осудили как еретиков.
Шевалье стоял во дворе, ему уже вывели коня, он лишь ждал свою спутницу. И вот она появилась. Рыжие, как огонь, волосы, были убраны под сетку, вуаль скрывала лицо и зелень глаз, роскошное же платье, купленное в лавке веецианского торговца и самолично подогнанное британкой под свои выдающиеся формы, казалось, не скрывало, но рассказывало языком узоров, кружев и даже вышивки, облегающей линии тела, о том, КАКАЯ женщина носит его! Один из арлекинов, вот уже почти час упражнявшийся на высоких ходулях, то ли от усталости, то ли от внезапного появления столь соблазнительной особы, рухнул вниз, и возникла мгновенная суматоха. Пользуясь ею, шевалье вывел свою спутницу за ворота, где у входа во двор траттории их ожидал специально нанятый паланкин с носильщиками. Конюший при траттории вывел коня шевалье вслед, и как только британка уселась в паланкин, вскочил в седло сам и кивком головы велел носильщикам следовать за ним.
Рука шевалье в латной рукавице покоилась на крестовине боевого меча, плащ же был расшит крестом, коий полагался лишь тем, кто проливал кровь на Святой Земле. Образ воина и крестоносца, столь нарочито подчеркиваемый, был необходим вовсе не тщеславия ради, но для безопасности. Ибо Рим нынче был вовсе небезопасен. В первую очередь – из-за шпионов, которые неустанно трудились во благо Церкви, коей полагалось указом Римского Императора изымать в свою пользу весь конфискат у еретиков, уничтожаемых безжалостно к вящей славе, et cetera... А еще Рим был опасен наводнившими город бандами разбойников – терять им было нечего, наказывать их было некому. Ибо в основе своей состояли эти банды из бывших крестоносцев, что в изобилии возвращались нынче из Святой Земли, будучи прогнаны оттуда войсками Саладина. Судить крестоносца в нынешние времена не рискнул бы никакой префект. На «своих» же бывшие крестоносцы нападать не торопились – памятны были еще времена, когда всем вместе пришлось идти через Синайские Пустыни, пробиваясь до христианских земель, когда из-за каждого холма могли вылететь отряды бедави, стремящиеся отомстить да и просто ограбить или взять в рабство христиан из каравана беженцев, которым Саладин дозволил покинуть Иерусалим. Настоящие крестоносцы, бывшие в том страшном походе, шевалье Де Бурдейля помнили, и многие из них почитали молодого и отважного рыцаря, которому были обязаны жизнью. Не одно нападение кочевников удалось отбить благодаря именно его храбрости и хладнокровию, ибо мало было в том караване рыцарей, еще меньше – военачальников, солдаты же простые без мудрости полководцев и командиров, опытных в боях против бедави, были воистину беззащитны.
Однако были и те, кто лишь выдавал себя за бывших крестоносцев. Впрочем, таких шевалье не очень опасался, поскольку те сами не рисковали связываться с закаленными в войнах рыцарями. А вот сицилианцы... эти пришли в Рим недавно, воспользовавшись тем, что прежних, коренных римских воров и бандитто уничтожили крестоносцы, пользующиеся своей безнаказанностью. Настоящие головорезы, эти южане были хитрыми, умными, но при этом по-настоящему бесстрашными. Пока что они орудовали лишь в пригородах, и в самом Риме особо зверствовать не смели, тем паче при свете дня. И всё же, шевалье был осторожен.
Война закалила не только его тело, но и разум. Медленным шагом идя в авангарде своей небольшой процессии, шевалье Де Бурдейль замечал всё – и мелькнувшую, чтобы пропасть в переулке, фигуру в драном плаще с капюшоном – мелкий воришка или наводчик бандитто покрупнее, и другую фигуру в плаще с капюшоном – плащ богатый, хоть и внешне простой, а владелец и вовсе не таится, но с видом уверенным стоит на углу улочки, выходящей на проспетто. Шпион церковников! За почти что месяц пребывания в Риме французский шевалье научился хорошо отличать их от монахов, просто церковников или же просто шпионов. Он отличал их по наглости.
Он отличал ругань крикливых римлянок, доносившуюся с патио вокруг, различал бормотание нищего, сличал запахи стряпни, невольно, по солдатской привычке оценивать пищу по запаху полевой кухни, отмечая, в каком доме готовят богатый стол к завтрашнему празднику Марди-Гра, а в каком – постятся круглый год, хоть посту и полагается начинаться лишь после... Всё это рыцарь-крестоносец делал, даже не задумываясь, потому что думал он вовсе о другом.
Его миссия в Риме потерпела неудачу. Папа отказался принимать посланника матери наследника французского трона, дозволив лишь передать на словах предложение Изольды через своего секретаря, немного похожего на сарацина. Или испанца. Судя по выговору, всё же испанец. Святая Земля научила и выговоры распознавать четче, подумалось шевалье, и он грустно улыбнулся своим воспоминаниям, страшным, но незабываемым, о том времени. Однако сейчас думать следует о времени нынешнем, в котором есть задание Изольды. Пока что не выполненное. Папа даже не удосужился сообщить о своем отношении к этому предложению. Словно правительница Франции de factum даже не стоила его святейшего внимания! Британка считала, что подобное поведение уже указывает на ответ... ответ отрицательный. Однако шевалье должен был убедиться в том, что иной надежды нет.
Вчера, благодаря небольшой галантности Шалуньи Рыжей, отправившейся на исповедь не куда-нибудь, а прямо в Собор Святого Петра, и притащившей исповедника аж к ним в тратторию, ему удалось встретиться с одним из кардиналов, входящих в священную курию. У шевалье было золото – много золота, выданного ему Изольдой для расходов на эту миссию, и он почти всё, что было, предложил кардиналу за одну только встречу с Папой. Кардинал золото взять согласился, однако британка воспротивилась тому, чтобы отдать «Его Высокопреосвященству» всю сумму сразу, как тот требовал. Она даже отказала исповеднику-кардиналу в «невинном воистину услаждении плоти», пообещав «всё и сразу, золото и ласку»... но только после встречи с Папой! Помог и кувшин с вином – недорогое, купленное тут же в траттории и выданное Шалуньей Рыжей за «вино с солнечных виноградников нашей Шампани». Вино развязало язык «Его Высокопреосвященству». Правда, язык этот изрядно уже заплетался, когда кардинал, между очередной чашей и неудачной попыткой облобызать обнаженное плечо Шалуньи, рассказал о том, что Папа, в приступе недовольства своим секретарем-любимчиком, вызвал на него Кару Господню. «А знаете, ик... знаете, как наш Папа Кару вызывает? У него, ик... колечко на пальце... священное такое... дураки говорят – с мощами святыми, врезанными в камень на вершине кольца... а там, ик... иголочка такая... и камень – полый... я сам видел, как наш... всесвятейший... в камень тот мышьяк заправлял... А потом ласково так... ик!.. По-отечески ручку пожмет... и не больно вроде совсем... а Кара... вот она и случилась... и не проснется грешный наутро... Так вот дня уж как четыре тому назад... осерчал на секретаря... да и приласкал колечком...»
Выходило так, что секретарь тот отныне не сможет помешать почтенным посланцам франкской правительницы встретиться с Папой, да и вообще никому не сможет помешать, потому как мешать ему кому-нибудь теперь разве что на небесах. А вот новый секретарь Папы – родной племянник нашего кардинала, который и есмь истинный слуга Божий, чему свидетельством рвение его и исполнение таких обязанностей священнослужителя, как принятие исповеди у простых рабов Божьих, коими прочие святые отцы, вознесясь до вершин власти в Латеране, зачастую пренебрегают. О том, что соблазнительную иностранку его святейшество и член курии заприметил, когда она лишь вошла в собор, и настоящего отца-исповедника в прямом смысле слова за рясу вытолкал из исповедальни, в которую вошла та, что ввергла слугу Божьего в греховное желание, он говорить посланникам Изольды, конечно же, не стал. Зато сказал, что самому ему золото не нужно, но вот племянник-секретарь, хоть и родственник, однако мздоимец жестокий еще с самых «ик!.. Клянусь Господом!..» младых ногтей и без злата «... будь, ик... оно проклято!..» никогда и ничего даже для родного дяди не сделает. А самому дяде-кардиналу предложения Изольды очень даже по душе, и если бы Папа с ним согласился, то дядя-кардинал с превеликим удовольствием и к вящей славе Господней отправился бы во Францию, ко двору Валуа, дабы стать тем самым... кардиналом-посланцем Ватикана... тем паче, что он на всё готов, если будет знать, что при том дворе служит столь очаровательный ангел небесный... «ик!.. плечо ваше, о Белла Донна, прекраснее лилии... уж поверьте, мы, выходцы из местечка Мазарини... это под Падуей... мы знаем толк в доннах и лилиях...».
Шевалье лично доставил кардинала из славного местечка Мазарини в его римскую резиденцию, по пути раскроив ударом меча череп одному и прогнав двух других бандитто, пытавшихся напасть на них. Впрочем, пьяный вдрызг кардинал ничего этого не заметил, поскольку храпел в паланкине, так что домой его вносили спящего. Однако еще в траттории, прежде чем нализаться «этого белиссимо шампанского вина» до беспамятства, он пообещал, что завтра, сразу после вечерней службы, Папа примет шевалье. «Только донну с собой не приводите! Папа – старый греховодник, поверьте мне, но об этом – тс-с-с-с... Никому!.. ик!..»
«Донна» дождалась возвращения шевалье с проводов доблестного выходца из Мазарини, обработала небольшие царапины, полученные в стычке с римскими бандитто, и между первым и вторым act de amore заявила своему рыцарю, что одного его она в «это логово скорпионов» не отпустит. Зная упрямый нрав своей вельшской возлюбленной – а возлюбленными они стали уже в Риме, в первую же неделю пребывания здесь, – шевалье не стал с ней спорить. Он по-настоящему любил эту странную и невероятную женщину, которая удивительно напоминала ему мать, но была не менее удивительным образом чище, а главное, честнее ее. Он не просто доверял ей – он привык уже ей верить во всем. До сих пор она почти никогда не ошибалась. То, как она рассталась с сыном, доказывало, какой же на самом деле сильной женщиной она была. И всю ту нежность, что она не успела дать родному дитяти, теперь Шалунья Рыжая обращала на своего молодого рыцаря, которого иногда величала «мой монах Брантом», иногда же – «мой гасконец».
А началось всё в ночь, которую она называла Бельтайн. Тогда она сама явилась в его комнату, разделила с ним ложе, подарила свою любовь... А наутро заявила, что хочет креститься. Он еще очень удивился ее решению, но объяснение еще более запутало его. «Я по-прежнему не хочу иметь никакого отношения к тому, что вы называете церковью, мой милый Брантом, но если я хочу и дальше любить тебя, то мне необходимо кое-что усмирить в себе. От своих прабабок я слышала, что таинство крещения усмиряет нашу силу, укрощает ее, а порой и вовсе уничтожает. Но ради тебя... чтобы с тобой ничего не случилось... я должна!..» И она крестилась – в небольшой римской часовенке, прошла полностью обряд Таинства и даже надела простой деревянный нательный крестик. Впрочем, шевалье не замечал никаких перемен, разве что... ночами, когда они занимались любовью, она отчего-то радостно смеялась и часто-часто целовала его лицо, пришептывая: «С тобой ничего не случится! Мой суженый!..»
Обо всем этом думал шевалье, ведя свою процессию слуг, несших паланкин с его возлюбленной и, как он уже твердо решил вчера, будущей женой, вот только выполним задание Изольды! – в Латеранскую резиденцию Папы. Колокола собора на площади звенели к вечерне...
- Точкой опоры – коль потеряю я веру
- Станешь, любимая! Тем я восполню потерю.
- Болью ли сладкою – или лишь жизни химерой
- Станет мне страсть – только она наша мера...
Вирши брата Сейд прежде находил скучными. В них было слишком много чувственных иллюзий для бывшего суфия и слишком мало для молодожена, коим он стал лишь недавно во дворце их общего отца-эмира. К тому же брата своего он хоть и сумел полюбить – потому что другого у него и не было, а кого-то еще, кроме жены и отца, он очень хотел любить! – уважать по-настоящему еще не научился. Считал трусом. Потому что брат в своих стихах признавался – лишь из страха потерять любимую женщину он отринул свою веру, свою Родину и стал слугой того, кого боялся и ненавидел. Сейд считал, что любовь сломала в брате мужчину.
Он нашел его сразу, потому что знал, кого и где искать. Отец обо всем рассказал Египтянину, а тот уже в пути передал Сейду историю его сводного брата – предателя Веры, того, кто ради женщины отринул учение Пророка, мир Ему, и принял христианство, дабы оставаться с этой женщиной. То, что не женщина, но мужчина ради жены меняет Веру, для пустынного бедави, коим был воспитан Сейд, это было дико! Бедави может похитить христианку, и та, чтобы стать полноправной женой, не наложницей, может принять ислам, но НАОБОРОТ... Такого Сейду встречать еще не приходилось, и тут – собственный брат... пусть – у них лишь общий отец, но... Впрочем, Сейд был учеником Джаллада-Джаани и знал, что люди по-разному могут бояться. Страх – одна из движущих сил во Вселенной, страх Потери порой сильнее страха перед Смертью. И потому с братом нужно было встретиться. И использовать всё, что он знал, чтобы добраться до Папы. Потому что брат был секретарем Папы.
Рим показался Сейду чудесным. Грязным, зловонным и даже злым, но, несомненно, чудесным. Сейд умел отстраниться от зла и грязи, и потому смог УВИДЕТЬ Вечный Город таким, каким он был без налета скверны – воистину Вечным! Только в таком городе могли родиться Правосудие – говорили строгие колонны древней Республики! Только здесь Человек брал в руки Власть, не ради нее самой, но потому что жил Идеей государственности как высшим смыслом жизни – пели триумфальные арки цезарей. И только здесь могло существовать Искусство ради самого Искусства, Красота ради Красоты, без смысла и цели! Так говорил каждый камень в этом Вечном Городе. И в это верилось.
Он всё еще оставался лучшим учеником Старца, тем, кого сам Муаллим называл «айдын» – просветленный. Язык, на котором говорили италийцы, обретавшиеся в Вечном Городе, он выучил по пути – по книгам, взятым из библиотеки эмира, авторами большей части которых были стихотворцы. Латинский он учил еще при Магистре, в Иерусалиме. И умел объясняться на обоих языках так, словно с рождения говорил, подобно Пилату и Вергилию. Благодаря безупречному италийскому он сразу же стал жертвой внимания церковных шпионов. Из-за этого Железному Копту пришлось убить одного, слишком любопытного, другого же Сейд оглушил прямо в траттории римского пригорода. Правильный латинский оказался мечом обоюдоострым – вызывав подозрение шпионов церкви, у хозяина траттории он, напротив, стал причиной трепета к столь юному и при этом образованному странствующему послушнику. А шпиона старый римлянин и сам не любил и велел сицилийскому головорезу-охраннику утопить того в притоке Тибра.
Кстати, о сицилийцах. Еще на подступах к Риму случилась оказия, когда Сейд, не любивший нечестного боя и решивший немного размять мышцы, бросился в драку, где четверо воинов в драных кольчугах, отдаленно напоминавших ненавистных крестоносцев, пытались зарезать одного парня. Тот был без доспехов и вооружен лишь ножом, но достаточно ловок, чтобы не дать убить себя сразу. А уж с вмешательством Сейда убийства и вовсе не получилось – бывший гашишшин, словно маленький ураган, влетел в драку и точными ударами рук и ног лишил сознания всех четверых. Правда, пришлось потом обездвижить и пятого – парень попытался прирезать своих противников, оказавшихся в результате нежданного вмешательства беззащитными. Сейд не мог этого позволить. Парень воспринял это как урок чести и зауважал Сейда не только как своего спасителя, но и как человека поистине отважного и справедливого. Увязавшись с Сейдом и Коптом до самого Рима, он был поистине невыносим, поскольку то и дело хвалился своим сицилийским происхождением, сицилийской честью и сицилийской отвагой. Когда дело дошло до похвальбы сицилийской кухней, проголодавшийся Египтянин, который молчал всё время, наконец, выговорил одну фразу: «Лучше накорми!» Сказано было на таком отвратительном италийском, что даже Сейд не сразу понял, что же сказал его спутник. А вот сицилиец, напротив, понял сразу. Осклабился и заявил: «Уно моменто, синьоре!» Они уже входили в Рим и находились на какой-то просторной улице, где пропасть даже в толпе было сложно. Однако сицилиец умудрился исчезнуть так, словно его никогда и не было. Сейд укоризненно посмотрел на Копта. Тот пожал плечами. И вдруг парень снова появился, щерясь большим ртом, в котором не хватало большей части зубов, выбитых в честных схватках, и кивнул, приглашая следовать за ним.
Так Сейд и Египтянин оказались в сицилийской траттории «У дороги». Заведение и в самом деле находилось у самого начала Аппиевой Дороги и было сердцем сицилийских «familia», недавно начавших освоение теневого мира Вечного Города. Сами выходцы из Сицилии называли это место своим «мафиа» – местом спасения. Копту и бывшему гашишшину это было понятно – корень слова был арабским. Оказалось, что многие коренные обитатели острова носят в себе частичку арабской крови, и это родство путники почувствовали во всем. Даже Сейд, не самый большой любитель мяса, смог оценить нежное «omelette» из тестикул ягненка, запеченных на углях, Железный же Копт словно дорвался наконец до «настоящей мужской пищи» – он в одиночку слопал целого барашка, на десерт попробовав почки того же ягненка, которые съел «по-сицилийски», сырыми, лишь присыпав крупной солью. Сицилийы были в восторге от нового товарища, объявили его своим «бруддеро», Сейда же уважали за спасение парня, оказавшегося родным племянником их «патроно», но называли не иначе как «санта-пикколо». Сейд не обижался. Ему было всё равно. Он хотел, чтобы ему помогли найти брата.
Сицилианцы могли найти в Риме кого угодно и что угодно. Племянник патроно, не устававший хвастаться, как-то заявил: «Однажды мы сможем даже убивать кого угодно и когда угодно в этом городе... Когда справимся с крестоносцами, конечно!» Крестоносцев, как понял Сейд, в Риме не любил никто. В том числе и сами римляне. Несмотря на то, что в Египте ни одному крестоносцу так и не удалось побывать, с легкой руки сицилийцев, первыми употребивших это словечко по отношению к «святым воителям», их называли не иначе, как «фараонами» и относились соответственно – как и положено христианам относиться к фараонам после всех библейских историй. Сейд тоже не любил этих... «фараонов». Но связываться с ними не спешил. У него и Копта была своя цель, и добраться до этой цели мог помочь его сводный брат.
Брат жил в центре Рима, неподалеку от Латеранской Площади, вместе со своей женой, испанкой и католичкой, через которую сицилийцы и выследили папского секретаря. О чем сразу доложили «санта-пикколо». Тот сказал «грациа» – и исчез на несколько дней. Поскольку «большой бруддеро» не волновался, то и сицилийцы не стали проявлять удивления. Кто его знает, зачем двое честных бродяг пришли в Рим, причем один из них ищет папского секретаря, а найдя, вдруг исчезает?!
Несколько дней Сейд провел, наблюдая за братом. Гашишшины умеют быть невидимыми везде. Он проходил незамеченным даже в исповедальню маленькой часовни, где обычно молилась Деве Марии жена брата, мечтавшая стать матерью. Никак не получалось. После того как они уехали из Испании в Рим, супруг словно охладел к своей любимой жене. Еще там, дома, она понесла от него, но по пути на Апеннины случился выкидыш. Теперь у нее не получалось вновь забеременеть, любимый же муж, словно одержимый, занимался лишь своей таинственной работой да не менее секретными поручениями своего покровителя, самого Папы, и всё это сделало его настолько раздражительным и даже пугливым, что нежная, но внутренне сильная супруга порой удивлялась – куда же делся тот неистовый сарацин, сумевший похитить ее сердце, и ради ее любви покинувший отчий дом, и даже принявший христианство?! Может, какая коварная римлянка сумела соблазнить любимого, и стать ему милее жены?!
Неизвестный доселе брат жил, казалось, лишь своей работой. Он действительно каждое утро покидал дом лишь для работы. Выходя, кстати, довольно поздно, из папской резиденции, шел лишь домой. Никакой римлянки не обнаружилось. Впрочем, Сейд уже знал, что многие святые отцы принимали «путана» даже в стенах Священного Собора, и потому не отрицал возможности харама в личной жизни своего сводного брата. Он холодно, словно гашишшин на задании Старца, обдумывал каждое событие, каждую составляющую в жизни своего брата, пытаясь понять его как можно полнее. Даже как-то ночью, когда тот слишком надолго задержался у Папы, проник в его покои и читал его стихи, написанные, но так и не прочитанные для любимой жены. Не понравились! Когда сам влюблен – трудно понять любовь чужую. Даже если это твой брат. Но именно благодаря стихам пришло озарение – понять брата можно, лишь полюбив его.
Сейд честно пытался полюбить своего брата, но уважение к мужеству, воспитанное в пустынях бедави и закрепленное в Орлином Гнезде, оказывалось сильнее. Сейд презирал своего брата за его трусость. Запутавшись в собственных чувствах, он, наконец, вернулся в тратторию «У дороги», где, не выдержав напряжения прошедших дней, впервые в жизни напился вина. Молодой перебродивший сок италийского винограда вызвал в нем откровенность... Хорошо, что рядом был лишь Железный Копт, которому он всё говорил и говорил, пока не почувствовал, что уже засыпает. И тогда, уже сквозь сон, услышал хриплый голос молчавшего весь вечер Египтянина:
–Хотел бы я посмотреть на тебя, каким ты мог стать, если бы твой отец не принял тебя-христианина, и твою любимую-христианку.
Вино в крови превратилось в воду. Сон слетел, как сброшенное шерстяное одеяло, набитое клопами сомнений и мыслей предыдущих дней. А Железный Копт продолжал безжалостно:
–Тебе повезло, потому что за тебя всё сделал твой брат. Если бы твой отец уже не потерял одного сына, он никогда не принял бы тебя. Ты же смеешь осуждать его...
–Он сделал это из-за женщины! – Голос Сейда прозвучал неестественно высоко. Впервые в своей жизни он ощущал чувство, которое называлось «гнев».
–Когда мужчина что-то делает из-за женщины – это еще можно понять. А ты чего ради сменил свою веру? Из-за мужчины? Своего Магистра?
Сейд смотрел на Железного Копта с ненавистью и понимал, что очень хочет ударить того. Причем очень больно. Египтянин вдруг обнаружил себя необычайно разговорчивым. Потому что он на самом деле умел быть таким. Потому что его великий учитель Джаллад научил его тому, что слово порой бывает не меньшим инструментом в руках служителя Матери Истины, нежели самая острая сталь.
–Из-за чего ты предал веру своих отцов и стал христианином, гашишшин? Ради мужчины? Твою мать изнасиловали и убили христиане, ты помнишь об этом?
И тогда вдруг Сейд взорвался. В нем взорвался тот, кто никак не мог умереть все эти годы и жил, подобно гнойнику на душе, отравляя болью сознание, не позволяя чувствовать и понимать чувствующих. Тот, кто жил ненавистью. Взрыв был бесшумным... почти. Он отозвался шепотом из побелевших губ того, кто лишь недавно начал становиться человеком, но уже был убийцей. А еще в нем жила душа орла...
–Я сделал это ради моей матери!..
–А он – ради матери того, кто должен был у них родиться, но умер по пути сюда. Подумай, что бы ты сделал ради матери своего ребенка. – Железный Копт сказал эти слова настолько спокойно, что Сейду захотелось вообще ни о чем не думать. Потому что он оставил мать своего ребенка там, вдали, где идет война, и... захотелось спать.
–Ложись спать, – сказал Египтянин. И сам же подал пример.
Египтянин храпел громко. Но Сейд всё равно заснул. И видел во сне, как он бежит от всех, отринутый Муаллимом: «Ты предал Веру!», отвергнутый Магистром: «Увел монашку у Христа?! Шел бы ты к францисканцам... грязный араб!»... В руках своих он вдруг обнаружил ребенка... тот плакал... был голоден... его надо было отнести к орлам, но те могли склевать его мясо, потому что он уже разорил их гнездо. Он кричал, пытаясь позвать мать своего ребенка, но в ответ слышал глумливый голос Де Сабри: «Она уже подарила ему жизнь... а ты, отец, сможешь подарить ему защиту?» Появился Магистр, снова добрый и понимающий, и пронзил голос Сабельника своим удивительным, тонким и гибким клинком... Сейд споткнулся и чуть не уронил ребенка, но увидел, что того поймал Муаллим и протягивает ему: «Возьми, и береги его!» Впереди себя он увидел отца – старый эмир стоял с распущенными волосами, посыпанными пеплом, как тогда, у пристани, и протягивал руки, а за его спиной стояла... Нет, не бывшая монашка! Это была испанка – жена брата! И тогда Сейд посмотрел себе под ноги и увидел, что бежит по зеркалу, в котором отражается лицо... не его, но того, кто так похо на него... но одет в одежды папского секретаря... Он увидел так похожие на его собственные, но усталые, полные страха глаза своего брата... и понял... Он понял, что любит его!
И тогда наутро он отправился к брату. Отправился, чтобы всё рассказать, во всем признаться. Дома никого не было. Набожная испанка с самой зари молилась в часовне неподалеку, затем шла в приют для сирот при монастыре Святой Марии-Магдалины, где некоторое время проводила в душеспасительных беседах с сестрой-настоятельницей. После обедни, как правило, возвращалась домой. Весь распорядок семьи брата Сейд знал наизусть, и сам не мог объяснить себе этого нетерпения. Зачем он пришел? Знает ведь, что сейчас дома никого нет. И проникнуть в дом, как раньше, он теперь не посмеет – только открыто, заявив о себе и попросив прощения у брата за мысли, о которых тот даже не догадывается, как не догадывается вообще о том, что у него есть брат.
Умеющий быть незаметным в любом месте – от гор и до городов, Сейд решил пройтись до Латеранской Площади, чтобы... чтобы? Причины не было. Просто – на месте не сиделось, и он пошел. Перед собором бродячий проповедник из францисканцев призывал народ отказаться от предстоящего празднования Марди-Гра. Бродячим он лишь казался – дешевая, грязная ряса была явно с чужого плеча, а вот жиры наверняка собственными. Не францисканец, но засланец церковников, безнадежно пытающихся управлять всем на свете и теперь вот взявшихся и за праздники. Скоро – Марди-Гра, жирный праздник, смысл которого когда-то объяснил ему Магистр. Бывший шут знал, ЗАЧЕМ нужны такие праздники. Однажды он даже сказал, что родоначальником истинных шутов и трубадуров является ни кто иной, как сам Спаситель. Фарисеи и язычники смеются над тем, чего боятся или не понимают, и потому Спасителя многократно высмеивали за его Учение. Настоящие шуты, говорил Магистр, знают, что только через смех можно донести скрытую правду, как это получалось у Спасителя. Ибо главная цель шута, смысл его жизни и миссия – нести правду туда, где люди боятся ее услышать. Правда, приходящая через смех, перестает быть страшной, и тогда людям легче принять ее. Приняв же, легче бороться против лжи. Марди-Гра нужен, говорил Магистр. Сейд всё еще верил словам Магистра...
До самого вечера бродил он по Риму, наблюдая подготовку к предстоящему празднику. Готовились шуты. Готовились и церковники. Первые – репетировали у постоялых дворов да за городом, вторые – читали проповеди в церквях и даже стращали люд уличными проповедями, не удовлетворяясь паствой церковной. Колокола обозначили вечерню. Толпы входили в храмы и выходили из них. Сейд не умел и не хотел молиться в храмах – к этому его Магистр так и не смог приучить. Свою веру в Христа Спасителя бывший убийца считал слишком личным делом, чтобы допускать к ней чужих. Особенно попов! Когда Магистр был жив – он еще мог молиться вместе с ним. После его смерти – с бывшей монашкой, а ныне – женой... С Железным Коптом молились в пути вместе – и каждый словно сам по себе. Египтянину было важно соблюдение ритуалов первохристиан, с которыми он сблизился в Иерусалиме, Сейд же вообще не видел смысла в ритуалах. Даже в христианстве своем он оставался суфием, отрицающим посредников между собой и Богом...