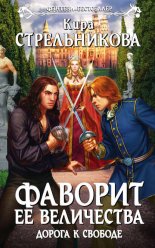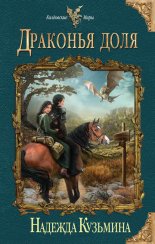Сейд. Джихад крещеного убийцы Улдуз Аждар

Дорога была легкой, как поступь арабских иноходцев по каменистой пустыне Святой Земли. До Иерусалима добрались быстро, всю дорогу беседуя. Так, за мудрой беседой, и вошли в город. Здесь, как объявил Акын, их пути должны были разойтись.
–Я, сидя на своем базаре, узнаю новости быстрее, чем иные в своих дворцах. Я узнаю, как полно ты смог сдержать свое обещание Праведнику Веры и смогу передать ему всё верно и подробно. Ты же приступай к исполнению обещанного! – сказал Сказочник и повернул коня в узкий переулок, оставив франка на вороном жеребце одного, на уже темнеющей главной улице, ведущей от Северных Врат прямиком к дворцу короля. Но не во дворец направился посланец Западного Крыла Ордена. Он понимал, что прокаженный король примет сторону Де Сабри и даже может попросту объявить его самозванцем и приказать бросить в темницу, откуда его уже навряд ли кто-нибудь вытащит. И потому он направил своего коня в сторону большого двухэтажного дома. Дом когда-то принадлежал богатому иерусалимскому иудею и был отобран Де Сабри в качестве постоянного места расположения Ордена сразу после того, как Иерусалим был им завоеван. Да, Иерусалим для крестоносцев был завоеван тамплиерами, причем благодаря именно талантам Сабельника. Великолепный тактик и солдат, он был нужен Ордену в те времена. Но сейчас амбиции бывшего наемника стали угрожать планам Ордена. Посланник Западного Крыла знал, что здесь, в Ордене, есть еще немало врагов честолюбивого Магистра. Не все из них ушли с ним в пустыню в тот злополучный поход, обернувшийся предательством, и посланник расчитывал на поддержку тех, кто остался.
Стоило ему въехать во двор дома, где располагалось руководство Ордена, как его окружили удивленные и обрадованные рыцари. Хотя уже наступил темный поздний иерусалимский вечер и узнать в свете чадящих факелов в усталом всаднике в пыльных одеждах того, кого называли Первым Мечом Тампля, когда-то впервые въехавшего в этот двор в сопровождении пышной свиты из свежих сил Ордена, полагающейся Посланнику Западного Крыла, было сложно – они узнали его. Потому что ждали. И он ждал этого. Слухи о том, что посланник Западного Крыла Ордена попал в плен, были, не без его подачи, удачно распространены по Иерусалиму, опровергая утверждения Магистра о том, что Салах-ад-Дин убил всех рыцарей. И вот теперь он явился сам, подтверждая то, во что хотели верить многие рыцари-храмовники, недовольные своим Магистром. Уставшие от вечной войны на чужбине, тамплиеры хотели изменений, и когда посланник Западного Крыла только прибыл в Иерусалим, они почувствовали долгожданный свежий ветер перемен, даже не вполне понимая, что за перемены грядут. Лишь бы закончился однообразный, пропитавшийся развратом и всем, что противоречит духу идей Ордена, отрезок жизни под властью становящегося всё более безумным и непредсказуемым Рыжего Сабельника.
Он приветствовал встречавших его, не сходя с коня, и направил его прямиком к солдатскому шатру, разбитому посреди двора. В шатре жил Магистр, не желавший отказываться от привычек старого наемника. Рыцари во дворе растерялись. Кое-кто из стражи, вооруженной алебардами, попытался было встать на его пути, но жесткий взгляд голубых глаз, словно светившихся в темноте, заставил их застыть, спокойно, но властно сказанная же фраза «Именем Тампля!», сопровождаемая воздетой рукой, в которой был зажат Крест Посланника – знак его полномочий, – принудила отойти в сторону. Нарочито медленно он извлек из ножен свой удивительный тонкий клинок и, направив в сторону входа в шатер, произнес фразу, которую продумывал всё время, пока находился в плену:
–Именем Тампля, опираясь на власть, данную мне Магистром и рыцарством Храма, объявляю, что рыцарь, известный, как Де Сабри, с высокой должности Магистра Восточного Крыла Ордена Тамплиеров низлагается. Также он лишается звания рыцаря Храма, оставаясь при прочих своих титулах и званиях, коими обладал до получения званий, данных ему Орденом Тамплиеров. Как рыцарь Храма, я вызываю рыцаря Де Сабри на Суд Божий, обвиняя его в предательстве братства Тамплиеров, злонамеренности и злокозненности, обернувшейся гибелью братьев наших, рыцарей Ордена. И да свершится суд этот при свете Божьего Дня, завтра на заре, а до того времени приказываю заключить рыцаря Де Сабри под стражу, оказывая обращение, соответствующее званиям и титулам, коими рыцарь обладал до вступления в Орден. Рыцари Ордена, именем Тампля – исполняйте!
Речь была продумана до мельчайших подробностей и хороша во всех отношениях. Божий суд – рыцарский поединок – должен был дать возможность раз и навсегда избавиться от строптивого Сабельника, заодно прочно укрепив авторитет посланника Западного Крыла в глазах и сердцах воинского братства рыцарей Тампля. В своей победе Первый Меч Тампля не сомневался. Он знал, как воинская доблесть важна здесь, в Восточном Крыле братства. Его бойцы, почти всё время сражающиеся и живущие в состоянии вечной войны, уважали отвагу и воинское мастерство порой не менее, чем верность принципам Ордена. Для храмовников Божий Суд не был пустым словом – в истории Ордена существовали прецеденты, когда должность Первого Среди Равных, как именовался Магистр Ордена среди братства храмовников, оспаривалась по причинам внутренних разногласий. И хотя последний Суд Божий внутри Ордена проходил почти полвека лет назад, каждый рыцарь знал о своем праве на эту последнюю, самую святую и неоспоримую возможность доказать Истину.
Кроме того, в речи крылся и особый подвох. До вступления в Орден, куда Сабельник когда-то, если уж быть честным, был приглашен самими храмовниками, нуждавшимися в талантливом и отважном полководце, бывший наемник никакими особыми титулами и званиями, помимо сомнительного рыцарства, в которое его возвел якобы Император Константинопольский, похвастаться не мог. И потому обращение к нему было возможно только самое простое, а именно – железные кандалы до суда и темница. А темница у тамплиеров была. И бывший шут короля Франции, Первый Меч Тампля, посланник Западного Крыла, будучи в плену у арабов, каждый день мечтал, что однажды своими глазами увидит, как рыжего Магистра в кандалах поведут в душный, подземный склеп и заставят там страдать. Бывший шут догадывался о страхах Магистра – еще в первый день своей встречи с ним, увидев, как тот кривится в тесном и душном помещении и предлагает выйти поговорить во двор, в его шатер, где полог почти всегда откинут, как и верхний клапан, открывающий взору небо. Слабостью бывшего наемника были закрытые помещения. Слабостью бывшего шута – мстительность.
Во дворе Дома Тамплиеров наступила тишина, нарушаемая лишь треском дров в небольшом костре, горящим под походным очагом, где обычно готовилась пища для Магистра. И дело было не только в солдатских вкусах и непритязательности Сабельника в отношении еды. Напротив, еда храмовников зачастую была скромнее тех блюд, что умудрялся готовить на походном костре для своего Хозяина бретонец, личный телохранитель, верный слуга и соратник со времен, когда тот еще был наемником. Де Сабри боялся отравления и потому доверял готовить себе пищу только своему бретонцу. Но верного слуги сейчас не было рядом с походным костром. Как не было в шатре и его хозяина. Бывший шут убедился в этом, откинув полог шатра концом своего клинка.
–Где Сабельник? – Требовательный голос Первого Меча Тампля нарушил тишину двора. Вперед выдвинулся один из рыцарей. Знаки на плаще позволяли узнать в нем сенешаля Восточного Крыла Ордена. Нового сенешаля. Прежний погиб в Пустыне, в злосчастном, предательском походе, куда отправился вместе с Первым Мечом... и одним из первых получил в глаз стрелу, пущенную лучниками Салах-ад-Дина.
–Магистр... гм... кхм... – Сенешаль явно был растерян. Он был из тех, кого в Восточное Крыло Ордена приняли при Сабельнике. «Ясно с этим всё, – подумал бывший шут, – человек Де Сабри, поставленный на эту важную должность после устранения того, кто был недоволен его властью. С такими надо разбираться быстро и жестко!»
–Бывший магистр! Кстати, ваш предшественник, благородный сенешаль Восточного Крыла Ордена, погиб в том предательском походе, и я вопрошу за его гибель с того, кто предстанет предо мной завтра на Божьем Суде, как и за гибель каждого брата по Ордену. Вопрошу с каждого, кто ошибочно думает, будто Тампль в Иерусалиме может предать весь Орден ради стремления к власти одного пьяницы и развратника! Где он?! Где сейчас бывший магистр, предатель и преступник, известный как Де Сабри, я вопрошаю?!
Голос Первого Меча Тампля гремел, вызывая неподдельный ужас на лицах тех, кто в душе еще сохранял верность Сабельнику. Впрочем, по-настоящему верных ему братьев в Ордене никогда не было, о чем и сам Сабельник догадывался, и сейчас это проявилось. Торопливо, сбиваясь, новый сенешаль принялся докладывать:
–Бывший Магистр, рыцарь Де Сабри, сегодня днем направился к Железному Копту... это королевский палач... Египтянин... преданный ему человек... Он должен был сказать ему что-то важное о главе гашишшинов. После этой встречи Сабельник пришел сюда в ярости, надел полный боевой доспех и, взяв с собой десяток рыцарей из тех, что были преданы ему, ушел... С ним была еще та женщина... бывшая монашка... и бретонца он взял с собой...
–Куда ушел?
–Не ведаю, Первый Меч! – Сенешаль был напуган и растерян. Было ясно, что он не лжет. – Знаю только, что они вышли из города около часа назад... через Восточные Ворота...
«Бежал? Нет, не мог! Час назад я только въехал в город с Акыном... Он не мог узнать... Или – стража все-таки узнала нас и донесла? Не может быть! Как бы там ни было – надо идти к этому Египтянину...» – Мысли пронеслись в голове бывшего шута стрелами, выпущенными из луков сомнений и подозрений... Ему же была нужнауверенность.
–Четверо рыцарей меча – со мной. К Башне Палача. Остальные – и да пребудут в боевой готовности. Тампль – к мечу!
Последний раз в Доме Тампля этот приказ отдавал Де Сабри, призывая рыцарей в поход, которым руководил он, Первый Меч, и который завершился катастрофой и гибелью цвета братства Восточного Крыла Ордена. Теперь ему предстоит создавать Восточное Крыло заново, из руин, в которые его превратил Сабельник! Носитель яда скорпиона – сказал бы о нем Салах-ад-Дин. Хоть бы он сдох от этого яда!.. Бывший Шут отбросил эту внезапно возникшую мысль как ненужную сейчас, лишнюю и, дождавшись, пока четыре мечника оседлают и выведут своих коней, направился в пыточную башню к королевскому палачу.
Сейд не расслаблялся. Он знал, что Муаллиму предстоит сегодня сложный бой, схватка с одним из опаснейших врагов. Хотя он был уверен в мастерстве своего Отца и Учителя, но знание это держало его в напряжении. Подозрения о возможном предательстве Железного Копта улеглись. И потому он покинул свою нишу и сел с королевским палачом за его стол, надеясь скрасить ожидание приказов и вестей от Муаллима беседой. Однако могучий Египтянин молчал. Он молчал весь вечер и не отзывался на попытки молодого гашишшина завести с ним разговор. Сидел, опершись локтями в стол и спрятав лицо за огромными ладонями. Сейд уже не пытался разговорить молчаливого Египтянина и, посидев с час, решил размяться. Внутреннее помещение было заставлено различными громоздкими орудиями пытки и прочими инструментами ремесла палача. Поэтому Сейд выбрал единственное небольшое свободное пространство у самого стола, где и принялся выполнять упражнения, призванные поддерживать тело и дыхание в наилучшем состоянии, когда предстоит ночь без сна. Последовательность этих упражнений, как учил Муаллим, требует высокой концентрации сознания на каждом движении. Выполняя их, следует прочувствовать работу всех органов тела, распределяя между ними силу, даруемую упорядоченным дыханием, которой они могут лишиться из-за отсутствия сна.
Искусство это Муаллим изучил у мастеров боевых искусств из далекой страны Чин и говорил, что именно эти знания он положил в основу учения джаани. Учитель говорил, что жители той страны – язычники, однако многое в их вере близко к учению суфиев, особенно то, что связано с медитацией. Однако как многое от язычества переходит в единобожие в виде законного ли наследия, как некоторые традиции у арабов-бедави, или же попросту перенимается в силу необходимости как школы и учения, нужные для войны или мира! Удивительно это или закономерно? Сейд только начал рассуждать об этом, входя в состояние транса, вызванного упорядоченным дыханием и последовательными движениями, когда в дверь пыточной постучали. Стук громкий, требовательный. И недолгий. Затем раздался треск ломающегося дерева – снаружи вышибали дверь, не дожидаясь, пока медлительный в своей странной задумчивости Египтянин успеет подойти и открыть. Сейд успел нырнуть под стол, и через миг в пыточную ворвались несколько человек. Первыми вошли трое рыцарей, затем человек, в чьих быстрых, уверенных движениях чувствовалась привычка власти. Глаза его даже в темноте пыточной отличались голубым сиянием хорошо отточенного стального клинка. Судя по темнеющему в дверном проеме силуэту, снаружи остался еще один. Сейд проверил арбалет в рукаве, осторожно взвел. Но Железный Копт был вне поля его зрения. Все вошедшие были в доспехах, и убить, если что, удастся лишь одного, попав в глаз или горло. Впрочем, возможно, никого убивать и не придется... Сейд решил выждать и слушать.
Голубоглазый заговорил на арабском, с акцентом, выдававшим, что он недавно пришел в эту страну. Он спросил Египтянина о Сабельнике. Неизвестно, что так изумило голубоглазого во внешнем облике королевского палача, может, он никогда не видел таких больших людей, что у него вдруг изменилось лицо, а рот так и остался открытым... И тут Сейд пожалел, что не может отсюда, из-под пыточного стола, ни отравленной арбалетной стрелой, ни кинжалом достать Железного Копта. Потому что в ответ на вопрос голубоглазого королевский палач почему-то очень хриплым голосом сказал лишь четыре слова: «В полночь... засада... на Голгофе... Торопитесь!»
Голубоглазый как будто сразу всё понял и не стал вдаваться в дальнейшие расспросы. До полуночи оставалось менее часа. От Башни Палача до Голгофы – пешком с полчаса, верхом же – как Всевышнему будет угодно! Развернувшись, он быстрым шагом вышел из пыточной, бросив короткий приказ на франкском языке сопровождавшим его рыцарям. Все, кроме одного, последовали за ним. Оставшийся обнажил меч и встал у дверного проема. Видимо, сторожить, чтобы Египтянин не сбежал. Не сбежит! Он все-таки предал Учителя!
Сейд появился из-под стола внезапно, как тень, мелькнувшая на стене, от колеблющегося пламени факелов пыточной. Отравленный болт, вырвавшись из арбалета в рукаве, вонзился в глаз тамплиеру у входа. Он сполз по дверному косяку вниз и застыл в сидящей позе, опираясь на свой меч.
Железный Копт стоял, не двигаясь. Сейд видел его бритый смуглый затылок, тускло отражающий огонь факелов. И только сейчас он понял, что Египтянин хотел предать Учителя с самого начала и жаждал смерти как награды. Сейд ошибся. Но не время писать касыду о вине. Предатель должен умереть. Сейд мог убить его, сломав эту мощную шею одним ударом, но ему почему-то нестерпимо хотелось посмотреть в глаза Железного Копта и, может быть, ПОНЯТЬ... Египтянин ведь боится! У него весь череп вспотел и даже мощная шея дрожит!.. Он боится смерти, знает, что умрет – и всё же предал!
Осторожными, кошачьими шагами он обошел неподвижно стоявшего Египтянина... и понял, почему голубоглазый ушел так быстро и от КОГО должен был охранять выход оставшийся на страже солдат. Рыцари знали, что палач тут не один, потому что... Египтянин стоял, слегка покачиваясь, обеими же руками он держал за рукоять длинный, узкий нож – один из своих пыточных инструментов, – который сам же вонзил себе в область печени. Он потел и дрожал не от страха, а от невыносимой боли и напряжения, потому что должен был вот так стоять всё это время, чтобы запутать его, Сейда. Железный Копт смотрел ему прямо в глаза.
–Скажешь Учителю – я остался верен себе! – сказал, улыбнулся... Улыбка, от боли, наверное, получилась какая то кривая, она изуродовала и без того некрасивое лицо Египтянина, но он продолжал улыбаться, оправдывая свое прозвище. Вдруг Железный Копт попросил:
–Вытащи его ты... Пока нож во мне – я не сразу умру. Вытащи... убей... выполни приказ Учителя... Отца... И освободишь меня от греха самоубийства... прошу!.. – Быстрым движением отпустил рукоять ножа и схватил Сейда за руку... с силой подтянул к себе, заставил притронуться к рукояти... Сейд, как завороженный, даже не сопротивлялся. Взялся за рукоять ножа и медленно вытянул его из тела Железного Копта. Как только клинок полностью покинул плоть, Египтянин без звука, словно мертвый, рухнул на пол своей пыточной. Сейд с интересом посмотрел на нож. Длинное лезвие сверкало темной кровью... И вдруг Сейда словно озарило... Египтянин всё это сделал намеренно! Он даже сейчас, мертвый, продолжает задерживать его, в то время как голубоглазый спешит предупредить рыжего Магистра о засаде, подстроенной Муаллимом. Голубоглазый оказался умнее его, не стал терять время, а он, Сейд, его теряет. Непростительно, после всех совершенных за вечер ошибок. Непростительно!
«Непростительно! Если я позволю Сабельнику умереть от руки гашишшина и стать героем – это будет непростительно! Я должен попытаться спасти тамплиера, каким бы он ни был! Сабельник должен умереть от моей руки! Я сам должен убить этого предателя!» – думал бывший шут, скача во весь опор к Восточным Воротам. За ним мчались уже двадцать всадников-тамплиеров при полном боевом облачении, и белые плащи воинов Храма словно рассеивали тьму иерусалимской ночи.
Стража у Восточных Ворот опешила при виде воинственной кавалькады и уж совсем не поняла, почему с требованием открыть врата к ним обращается странный голубоглазый человек в пыльной, далеко не новой одежде, н имевший ни доспехов, ни оружия, если не считать странного, легкого меча на боку, причем требует этого он от имени Ордена тамплиеров. Но молчаливое согласие с ним читалось в суровых взглядах храмовников за его спиной, спорить же с тамплиерами в Иерусалиме не привыкли. Восточные Врата открылись, выпуская из города воинов, тут же направивших бег своих коней в сторону Голгофы.
«Непростительно! Так попасться на дешевую уловку – непростительно!» – в ярости думал Сабельник, громадными шагами меряя пористую поверхность Священной Горы. До полуночи оставались считаные минуты, если она уже не наступила, а знаменитого джаллада-джаани он пока так и не нашел, хотя за прошедшие часы обшарил со своими рыцарями всю гору вдоль и поперек. «Очередная издевка этого хитрого лиса, которого последователи кличут Муаллимом. И я попался! А Копт... Копт – предатель! Я сам убью его!» – накручивал себя всё больше Де Сабри, когда у подножия горы послышался топот копыт кавалькады всадников. По молчаливому приказу своего Магистра десять рыцарей заняли круговую оборону, взведя арбалетные пружины и приготовившись встретить хоть бедави, ведомых Муаллимом, хоть самого Льва Пустыни – был бы враг, а сражаться бывшие наемники, присягнувшие Ордену по призыву своего бывшего капитана наемников, ныне Магистра, готовы всегда. Рядом с Де Сабри стоял его верный бретонец, да непонятно зачем увязавшаяся монашка... Ах да, он же сам велел ей следовать за ним, на случай, если понадобятся ее лекарские познания. От этого хитрого лиса, джаллада-джаани, можно ожидать чего угодно.
Чего угодно ожидали рыцари во главе с Сабельником, но только не этого крика! «Именем Тампля!» – кричал поднимавшийся на гору человек голосом того, кому положено было погибнуть в пустыне от рук воинов Салах-ад-Дина. Человек поднимался пешком – лошади на Голгофу не шли, слишком круто для них, да и копыта легко сломать в пористой поверхности. Шел на огонь факелов и продолжал кричать: «Именем Тампля!» За ним двигалось два десятка рыцарей при полном боевом облачении. «Призрак посланника Ордена призвал Тампль к мечу!» – с внезапным для него самого спокойствием подумал Де Сабри и поудобнее взялся за рукоять своей кривой сабли, за виртуозное владение которой и получил свое прозвище.
Посланник Западного Крыла Ордена, отправленный Магистром Восточного Крыла на верную смерть в пустыню, живой и в сопровождении двух десятков тамплиеров поднялся наконец на самую вершину, туда, где расположилась круговая оборона Де Сабри. «Может, в этом заключалась ловушка первого из гашишшинов – свести меня в бою с Первым Мечом Тампля, которого у меня чуть не получилось сжить со свету? Ну что ж, от схватки Де Сабри никогда не бежал!» – подумал Сабельник и, дождавшись, когда Посланник Западного Крыла приблизится на расстояние глубокого выпада, но не дожидаясь, пока тот откроет рот, атаковал пришедшего. Это послужило сигналом для его бойцов – запели арбалетные пружины, и несколько рыцарей, пришедших с посланником, упали на землю. Остальные бросились вперед, обнажив мечи. Первый Меч Тампля отразил своим тонким клинком атаку Сабельника, крикнув ему по-французски: «Сдавайся, предатель, и тебя будет ждать на рассвете Божий Суд!»
–С чего это я должен тебе повиноваться, призрак? – спросил Де Сабри, предпринимая очередную атаку на противника и надеясь достать кончиком клинка его горло.
–С того, что здесь тебя ждет засада! – ответил Первый Меч Тампля, принимая удар на свой тонкий клинок. Совершив почти незаметное движение запястьем, он выбил из руки Сабельника оружие.
Джаллад-Джаани, сидевший всё это время в глубокой расселине, почти что небольшой пещере, слышал звуки боя прямо над своей головой. Он, к своему стыду, плохо понимал франкский язык, но прекрасно понимал, что случилось что-то неожиданное, а потому настала пора действовать. В одно движение он высек искру и пустил огонь тлеть, пожирая длинные, пропитанные маслом запалы. Запалы шли к заложенным по всей вершине горы кожаным мешочкам с взрывающимся порошком, изготовленным им по рецепту страны Чин. И выпрыгнул из своего убежища, очутившись прямо перед Рыжим Магистром, за спиной у неизвестного человека, держащего клинок странного, тонкого меча у самого горла Сабельника.
Джаллад-Джаани вскинул руки, и две отравленные арбалетные стрелы вырвались из своих лож... чтобы вонзиться в глаз и горло бретонца, бросившегося вперед и заслонившего собой хозяина. И тут раздались взрывы...
Бывшая монашка, схватившись за голову, с воем кинулась на землю.
Один из зарядов взорвался прямо под ногами у бойца из отряда Сабельника, который отбивал атаки наседавшего на него тамплиера, пришедшего с Посланником. Взрыв подбросил человека высоко вверх, оторвав при этом обе ноги до самых колен...
Осколки камня, разлетающиеся вокруг, ослепили нескольких воинов. Острым краем кусок базальта прошел по шее сенешаля Тамплиеров, пытавшегося этой ночью доказать свою верность Ордену в глазах у Посланника Западного Крыла. Рассеченная вена брызнула в ночь фонтаном черной крови...
Бывший Шут успел повернуться и увидеть, как высокая фигура в плаще с капюшоном, скрывающим лицо, метнула кинжал... Попытался отбить летящий клинок своим мечом. Сталь звякнула о сталь, но сила броска позволила кинжалу долететь до Сабельника и оцарапать щеку. Выставив свой клинок вперед, Первый Меч Тампля атаковал гашишшина...
Джаллад-Джаани ожидал чего угодно, но не этого. Человек перед ним двигался быстро, как змея. Пришлось отступить на шаг назад, чтобы уйти от смертоносного острия, почти доставшего грудь... И тут под ногами что-то коротко зашипело, и мир рухнул сначала в огонь, потом во тьму, оставив только невыносимую боль ниже колен.
Боль от яркой вспышки пронзила глаза Первого Меча, уже свыкшиеся с темнотой... затем острая боль ударила стальной латной рукавицей в затылок. Рукавица была на левой руке Сабельника. Он хотел было сломать шею упавшему противнику ударом кованого сапога, но неожиданная слабость охватила всё его тело, ставшее вдруг невыносимо тяжелым... грузным... неподвижным... Рыжий Магистр, потеряв сознание, рухнул рядом с бывшим Шутом. Рана на щеке, оставленная кинжалом гашишшина, горела холодным огнем...
Сейд опоздал... Но успел. Он опоздал предупредить и помочь, первые взрывы прогремели, когда он наконец добрался до вершины горы, чтобы стать свидетелем схватки одних христиан с другими. Он видел, как голубоглазый пытался заколоть Муаллима и как вспыхнувшая гора под ногами Учителя поглотила плоть и кости его до самых бедер... И как Рыжий ударил голубоглазого, и сам упал на землю рядом с ним. Сейд подбежал к Учителю, поспешно вытащил его из расщелины, образовавшейся в камне от взрыва, и куда тот провалился по самую поясницу. Учитель дышал, но был без сознания. Держа его в руках, как ребенка, Сейд поспешил вниз, к подножию горы. Туда, где христиане оставили своих лошадей. Выбрав самого лучшего коня – серого арабского скакуна, достойного, чтобы на нем восседал хоть сам Лев Пустыни, он бережно расположил поперек седла тело Муаллима, всё еще живое, хоть и укороченное на обе ноги, сам устроился в седле сзади и спешным шагом направил послушное животное к тайному пролому в городской стене, откуда сам недавно вышел к Голгофе. Надо было успеть обработать обрубки ног смолой дерева чам, по рецепту Железного Копта. Это убережет Учителя от потери крови, и, если Всевышнему будет угодно, Старец Горы живым доберется до Орлиного Гнезда. Сейд молил Создателя об удаче. Сейд не хотел смерти того, кого почитал своим отцом...
Бывшая монашка видела, как молодой мужчина с лицом, напомнившим ей того демона или ангела, что явился в пыточной палача сегодня днем, забрал тело гашишшина и унес с собой. «Наверное, он все-таки демон... или ангел? Или демоны – ангелы для убийц?» – отстраненно подумала она и погрузилась в спасительное забытье.
Яд скорпиона – дорогое лекарство. И уж если лечить им, то лишь безнадежно больных. Так думал про себя бывший Шут в то памятное утро, когда власть над Восточным Крылом Ордена была передана в его руки особым распоряжением из Парижа. В то же утро своей темнице нашли повешенным Де Сабри. После безумной ночи на Голгофе Сабельник ослеп. Кинжал, брошенный гашишшином, был смазан отравой, изготовленной из яда скорпиона. Через небольшую ранку на лице яд поразил глаза бывшего наемника, и уже наутро он ослеп. Ни о каком Божьем Суде не могло быть и речи. Впрочем, после того как люди Де Сабри атаковали тамплиеров ночью на Голгофе, в этом не было нужды. Все, кто был предан прежнему Магистру, подверглись изгнанию из Ордена. Некоторые были казнены. Король Иерусалимский пытался помочь своему союзнику, но Орден надавил на его брата в Париже, Восточное Крыло устами Первого Меча имело с Его Величеством разговор жесткий, расставляющий всё по своим местам. Прокаженному Королю быстро объяснили, в чьих руках на самом деле находилась, да и находится власть в Иерусалиме.
Власть – истинный яд скорпиона, медленно убивающий того, кто мнит ее своим оружием. Власть отравляет изнутри. Бывший Шут понял это здесь, на Святой Земле. Посланник Западного Крыла стал понимать это, когда познакомился с Сабельником... Первый Меч Тампля понял это после знакомства со Львом Пустыни, не любившим, когда его называли правителем Египта, царственным наследником Айюбидов, и предпочитавшим имя Салах-ад-Дин – Праведник Веры. Потому что надеялся – вера защитит его от яда. Магистр понимал, почему... он понял это, как только САМ стал называть себя Магистром... Защитит ли вера его так же, как до сих пор защищала Айюбида? Ведь они верят в Единого Бога! В одного Бога! Правда, в того же Бога, в которого верили и Железный Копт, и Джаллад-Джаани... Наутро после Голгофы не нашли ни одного, ни другого. Магистр – теперь уже Магистр, ведь он сам себя так называл – хорошо помнил, как Египтянин вонзил себе нож в печень прямо у него на глазах. Он не мог не умереть. Но утром в Башне нашли лишь мертвого мечника, оставленного Первым Мечом на страже. Тело королевского палача, известного под именем Железный Копт, таинственным образом исчезло.
Джаллад-Джаани исчез не сам. Бывшая монашка видела, как некий юноша, по ее словам – почти что отрок, забрал раненого гашишшина с собой сразу после взрыва, как только Первый Меч и Де Сабри упали там, на вершине Голгофы. Еще она рассказывала о том, что этот же юноша ей привиделся в Башне Палача. Возможно, он же забрал и Копта? Но зачем ему мертвец? Слишком много вопросов, на которые почти невозможно найти ответ. А новому Магистру предстояло еще много дел. Несмотря на то, что Ордену удалось не позволить королю вмешаться во внутренние дела Тампля, заставить его заключить мир с Салах-ад-Дином не получилось. Вмешался Рим, вечно недовольный политикой Ордена и идущий на всё более открытое противостояние. И всё же Лев Пустыни освободил тамплиеров, находившихся у него в плену. Он прислал их в Иерусалим, к новому Магистру Ордена, в сопровождении всё того же Акына-Сказочника. Базарный рассказчик, грустно улыбаясь, пожелал Первому Мечу Тампля удачи, сказав, что покидает Иерусалим и отправляется навестить приболевшего старого друга. Уходит из Пустыни – в Горы, так он сказал, этот удивительный человек с раскосыми глазами и плоским лицом, посмеиваясь в жидкую бороденку. Когда он покидал город через Восточные Ворота, говорят, опять пел что-то на своем кипчакском языке, из которого даже туркмены понимали лишь несколько слов, да и те – бранные...
И всё же на Святой Земле воцарился мир. Пусть шаткий и хрупкий, не скрепленный договорами и королевскими обещаниями, но мир вернулся в эту землю. Жизни многих достойных рыцарей, страх, навсегда поселившийся в душе прокаженного короля, ужас, что люди стали испытывать, проходя ночами мимо Голгофы, – вот во что обошлось это исцеление, но яд скорпиона стал тем лекарством, что излечил, пусть и временно, этот город от безумия...
Короткое рондо (во времени)
Орлы больше не летали над Аламутом. Никто так и не понял, почему, но гордые птицы покинули эти вершины, перебравшись по другую сторону гор. А может, и вовсе исчезли – обитатели Орлиного Гнезда не заходили так далеко в ту сторону в своих странствиях. Зато всё чаще появлялись воспитанники школы Джаллада-Джаани в Европе, там, где джихад суфия-шиита находил себе всё новых врагов... или же врагов тех, кто готов был оплачивать услуги лучших убийц, известных христианскому миру. Ибо немало заказчиков находилось и среди христиан – правители всех народов и во все времена щедро платили иноверцам за убийство единоверцев. Венецианские князья, европейские короли и даже иногда некоторые из святых отцов, уполномоченных Римом, числились в заказчиках Орлиного Гнезда...
«Однако орлы больше не летают над Аламутом!» – удивленно говорил тот, кого все называли Акыном-Сказочником, потягивая гашиш из кальяна удивительно тонкой работы. Он теперь часто появлялся в Орлином Гнезде – «навещал заболевшего друга». Заболевший друг обычно принимал его в своей комнате на самом верхнем ярусе самой высокой башни замка гашишшинов. Со стороны могло показаться, что иссохший, старый человек, весь седой как лунь, сидит, очень тщательно подобрав под себя ноги, так, что их даже не видно. На самом деле у этого старца не было ног, и был он когда-то человеком крупным и сильным... когда-то, еще совсем недавно... Но теперь его все только так и называли – Старец с Горы Аламут... Он был сердцем и мозгом своей школы палачей-убийц – джалладов-джаани... «А ведь когда-то пытался быть и руками, и даже... кхе-кхе... ногами!..» – то ли кашляя, то ли смеясь говорил он своему собеседнику.
«Орлы больше не летают над Аламутом...» – согласно повторял он и кивал Акыну-Сказочнику, который приходил его навещать. После каждого такого посещения выкормыши Орлиного Гнезда шли выполнять особо щепетильные поручения, услуги, которые были необходимы Льву Пустыни, чьим другом и посланцем был Сказочник. Льву Пустыни были нужны сведения, и никто лучше гашишшинов на всем Востоке не мог добывать их. Редко, очень редко Праведник Веры опускался до просьб, связанных с лишением жизни кого-либо из своих врагов, хотя врагов у Салах-ад-Дина было много.
«А перестали они летать, потому что в Аламуте больше нет того, у кого была душа орла. Мой любимый орленок... мой сынок... он больше не прилетает в свое гнездо... он больше не хочет лететь в Аламут! – При этих словах Старец с Горы Аламут, тот, кого считали самым жестоким палачом и убийцей на Востоке, пускал скупую слезу. – После той ошибки, которую я совершил... Мой орел предал меня! Он стал христианином!»
«Йа-Рабби! Вот почему орлы не летают над Аламутом? – с деланным удивлением спрашивал Сказочник. – Значит, говоришь, убийца принял крещение?»
Старик пристально смотрел на своего старого друга и собеседника – не насмехается ли тот над ним. Старец с Горы в последние дни стал очень нетерпим к насмешкам. «Он покинул путь нашего джихада! Сейд – больше не убийца!» Сказав это, Старец поворачивал голову к окну и долго вглядывался в высокое небо над горами, давая понять, что разговор окончен. Он всё еще надеялся высмотреть орлов...
...Но орлы больше не летали над Аламутом.
Конец первой части.
ИНТЕРМЕЦЦО
- От Каира – и до Рима,
- От джаллада – к гашишшинам,
- От Души, Отца и Сына —
- Я прокладываю путь.
- С гор бегу к степям равнинным,
- Влагой по речным стремнинам,
- Кровью вдоль по жилам синим —
- Не прилечь, не отдохнуть.
- За строкой поэмы длинной
- Прячу мысль. Газелью дивной
- Мысль выглянет игриво...
- Не поймаю – не проснусь.
- От романа – до рассказа,
- Пропуская через разы
- Смерти, жизни – словно фразы...
- Вскользь Истории коснусь.
- Где здесь быль, а где легенда?
- Не ответит лист. Нетленный
- Труд творить пытаюсь. Ленью
- Прикрываю тщетно грудь.
- От Каира – и до Рима...
- От легенды – до былины...
- От песка златого – к глине...
- Путь обратный – не забудь.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. HUMANA NOVA. AD LIBITUM – ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ
Камень был всего один, но ударил очень больно, прямо в скулу, мгновенно взорвавшись уродливой, кровавой раной, а еще – ужасной болью. Впрочем, ни рана на лице, ни боль, особо не волновали осужденную. Для нее сейчас самым главным было – чтобы следующий камень не попал в живот. Хотя... даже если не второй, и не третий, но какой-нибудь из последующих обязательно убьют ее ребенка, если раньше не убьют ее саму. Но больше камней не было. Осужденная подняла голову, посмотрела вокруг из-под грязных, некогда огненно-рыжих волос, ныне свисавших космами с избитого, окровавленного лица. Лицо это некогда украшали глаза цвета изумруда... Сейчас они горели ядовито-зеленым огнем, готовым испепелить окружающих ее людей. А окружало ее всё население кочевой деревни Эхли-Керак – от маленьких мальчиков и девочек, в чьих глазах была пустота, и до немногих выживших в кочевье стариков и старух. И все держали в руке по камню, а некоторые – и по два.
Не всегда эти люди были кочевниками. Когда-то большинство из них составляло богатейшую из мусульманских общин Керака, но франкский принц, объявивший себя правителем города, должен был расплатиться с цехом армян-красильщиков, открывших его рыцарям ночью ворота хорошо защищенного Керака. Те же, в свою очередь, должны были расплачиваться со своими кредиторами золотом. Большинство кредиторов были, конечно же, богатые арабы, контролировавшие торговлю шерстью с Египтом. Платить золотом красильщикам не хотелось. К тому же крашеную шерсть обещал выкупить франкский принц, якобы для своих замков в далекой Европе. Поэтому в одну ночь были устроены погромы во всех мусульманских кварталах Керака. Немногие выжившие беженцы во главе со своим шейхом стали кочевать, пустынные же бедави окрестили их эхли-Керак и старались помочь, чем могли. Например, подарили шейху новую наложницу из белых женщин, пришедших вместе с крестоносцами. Ее похитили во время набега на обоз. Наложница оказалась строптивой, к тому же на сносях. Однако огненные волосы и удивительные зеленые глаза женщины разожгли в сердце у потерявшего любимую жену во время резни в Кераке шейха такой любовный пыл, что однажды он таки забрался к ней на ложе... после чего не мог взойти на ложе уже ни к одной из своих новых жен.
Шейх сам же был и гази – вершитель суда по законам шариата для своего племени, и вынес он, конечно же, справедливое и верное решение по случившемуся: огненноволосая сделала на него джаду, прибегла к запретному для всех правоверных колдовству и потому должна быть забита камнями, после чего ее закопают в песок. Исполнить же приговор, конечно, должны были все правоверные в племени шейха. И вот она стояла на расчищенной для собраний площадке, где и был оглашен приговор, после чего шейх удалился в свой шатер, чтобы говорить о чем-то с только что прибывшим гяуром из франков. О том, что шейх продолжает попытки возобновить торговые связи, знало всё племя, но им было всё равно. У них, в отличие от шейха, ничего не осталось, кроме ненависти к христианам, которую подвернулась возможность утолить, бросая камни в эту женщину. И потому они все вышли из своих палаток, и кто-то даже успел бросить первый камень... Второго не последовало.
Осужденная увидела своего владыку и судью – шейха племени эхли-Керак, вышедшего из шатра и строго объясняющего что-то соплеменникам. Рядом стоял франкский рыцарь. Рыжая вспомнила его лицо! Это был один из оруженосцев сенешаля! Того франкского принца, с которым она зачала ребенка, что нынче обретает жизнь в ее чреве! Проблеск надежды намеком на улыбку пробежался по изуродованному побоями лицу, вызвав недовольство среди правоверных. Послышался ропот, но голос шейха зазвучал строже, призывая бросить камни... не в нее – на землю! – и всем разойтись по своим шатрам. Рыжая прислушалась. Шейх говорил о том, что за колдунью неверные дают хороший выкуп. Деньги, конечно, принадлежат шейху – ведь она все-таки его жена! Но под положенные шариатом условия он даст ссуды всем соплеменникам, чтобы они вновь могли начать свою торговлю. Пусть колдунья достается гяурам, их же золото поможет правоверным вернуть свое благосостояние, и воистину в этом – керамет и воля от Всевышнего!
Немного поворчав, правоверные приняли волю Всевышнего и отправились сознавать керамет – высший смысл – по своим палаткам. Шейх же коротко кивнул франкскому рыцарю. Тот приблизился к Рыжей, протянул ей руку:
–Mes Damme, прошу вас следовать за мной. Я послан Его Высочеством, принцем Франции, сенешалем и герцогом Бретонским, дабы в целости и сохранности доставить вас к нему. Вы помните меня?
Взгляд у Рыжей из пронзительного ядовито-зеленого стал вдруг мутным, словно болотная вода. Она неуверенно кивнула и... потеряла сознание. Почти за полгода скитаний по пустыне после того похищения, несмотря на беременность, она ни разу не теряла сознания, а тут, посмотрите-ка, добрые вельшцы!.. Рыцарь успел подхватить ее на руки и внес в шатер шейха, чтобы окончательно закрепить условия сделки. Сознание к Рыжей вернулось уже в шатре. Она смогла понять, что за нее было заплачено больше ста золотых – цена, которую можно было бы потребовать за целый отряд прачек. Принц не мог знать о том, что она беременна от него. Значит... нет, этого просто не может быть... Она снова потеряла сознание.
Когда же сознание вернулось к ней, Рыжая подумала, что снова оказалась на корабле. Хотя нет, этот воздух ни с чем не спутать. Сухой, слишком сухой для моря... всё та же пустыня. А качает... потому что – верблюд! Рыжая огляделась и обнаружила себя лежащей в просторной люльке, укрепленной на спине двугорбого верблюда. На таких кочевники обычно возят старейшин, в них даже спать можно. Уж она-то знает – наездилась с бедави по пустыне за прошедшие полгода.
Верно – вокруг была та же пустыня, только окружали ее на этот раз не кочевники... вернее – не одни кочевники. Большинство в ее эскорте были рыцарями-крестоносцами. Они ехали верхом на боевых конях, при полном доспехе, и даже значки на копьях развевались. Словно принцессу какую везут, подумалось ей, и на сердце почему-то стало сладко. Вот ведь угораздило – каких только мужчин у нее в жизни не было, а сердце вот так вот замирает, как о нем подумает, о своем сенешале... Своем! Куда уж там, держи карман шире, вельшская девчонка-травница, прачка из солдатского обоза! Он ведь – принц Франции, у него жена, какая-то там Изольда, и скорее ты принадлежишь тому шейху, от которого уезжаешь на этой двугорбой спине, чем сенешаль принадлежит тебе! Но ребенок!.. Хотя – он не может знать о ребенке! Или – эта монашка догадалась и сказала ему? Ведь не от любви же, в самом деле, он послал за ней рыцарей, спас... Кстати, что сталось с той монашкой? Бедави в ту ночь не забрали ее с собой, это Рыжая знала достоверно. Наверное, лечит теперь крестоносцев в Иерусалиме да бережет себя для своего Бога... Бога, в которого Рыжая так и не может никак поверить. А эти – верят! Вон, и рыцарь этот молодой, из оруженосцев ее сенешаля... тьфу ты, опять! Всё время вел себя, словно монах какой. А ведь пригож собой, и уж любая прачка ему в ласках и без корысти бы не отказала. Так нет ведь, всегда строг, учтив... Вот, и сейчас такое лицо у него, словно на исповедь собрался!
Франкский рыцарь подъехал к ее верблюду на боевом коне. К чести его следует сказать, что в седле держится отлично – настоящий солдат, рыцарь воинства Христова, без страха, упрека... и без чего им еще там полагается быть? Без корысти? Ну, это мы еще посмотрим!.. Рыжая с интересом глядела на молодого воина в легком кожаном доспехе и светло-сером плаще тонкой шерсти с вышитым синим крестом, накинутым на плечи. Хороший плащ, нужный, без такого в пустыне ночью замерзнешь!
–Вам не холодно, Mes Damme? – поинтересовался рыцарь и, не дожидаясь ответа, отстегнул плащ и протянул ей. Рискуя вывалиться из люльки, Рыжая потянулась за плащом, и благодарно улыбнулась в ответ. Улыбка отозвалась болью – шрам на скуле напомнил события утра, когда ее собирались збить камнями. Улыбаться расхотелось. Еще и маленький в утробе заворочался. Захотелось плакать, но Рыжая сдержала себя. Ответила, как учили прачки из страны франков:
–Гранмерси, добрый рыцарь! Могу я узнать, зачем бедная прачка понадобилась Его Высочеству?
–Даже не догадываюсь! – Молодой воин так посмотрел на нее, что Рыжая сразу поняла: этот и вправду понятия не имеет, зачем Его Высочество изволили приказать ему носиться вот уже который месяц по пустыне в поисках одной-единственной, пусть и довольно приметной, прачки из обоза, что был разорен в ту печальную ночь нападения пустынных бедави на их лагерь. И сам задается вопросом – зачем Его Высочество расщедрился на сто пятьдесят золотых, из которых пятьдесят были обещаны ему, если он сможет доставить рыжую прачку в Иерусалим целой и невредимой. Вопросом задается, но на ответах не настаивает, потому что – верность и честь для таких вот юнцов превыше всего. Да и пятьдесят золотых – деньги не малые! Во всяком случае, довольно, чтобы умерить самое ретивое любопытство и без удовлетворения...
Впрочем, любопытство было вскоре удовлетворено. Во время ночного перехода Рыжая начала терзаться рвотой, но не отказалась от пищи на привале, а затем, словно прозрев, рыцарь вдруг явственно различил выпирающий живот. Это и был ответ – прачка понесла от высокородного господина, господин же, как и причитается благородному сословию, проявил в ответ заботу. Гасконцу из местечка Бурдейль, где честь и благородство ценились еще со времен короля Карла, подобная причина была понятна. Если же вспомнить, что сенешаль по происхождению своему хоть и Капетинг, однако же пусть и дальнее, но родство с Каролингами, поговаривают, присутствует, и совсем к тому же не бретонец, хоть и герцог Бретани, а бретонцев гасконец из Бурдейля недолюбливал, как и всех северян, то большего объяснения юноше и не требовалось. Через плод в чреве кровь королей Франции облагородила низкую кровь прачки в глазах гасконца, и теперь учтивое обращение к ней стало не чрезмерно натужным, но более естественным.
По пути в Иерусалим они всё больше разговаривали. Она охотно делилась с ним всем, что узнала о жизни сарацин за время своих скитаний. Интересовалась и его судьбой, и даже спросила, не послушник ли он, уж больно на монаха поведением и манерами похож. Смутившись так, что даже сквозь пустынный загар стало видно, как он покраснел, гасконец рассказал свою историю. Второй, и последний сын гасконского дворянина, владельца поместья Бурдейль, он и вправду хотел стать монахом. Словно перст судьбы, в его жизнь вмешалось провидение в виде папского письма королю с просьбой об учреждении аббатства на юге франкских земель. И лишь стоило начаться строительству этого аббатства, что получило название Брантом, как юноша всем сердцем пожелал податься в послушники и служить Господу Христу и Матери Церкви. Немалое влияние на его решение оказывала и жизнь в замке отца, всегда в тени старшего брата, благородного и достойного рыцаря, лучшего охотника и наездника во всей округе. К тому же отец, засомневавшись в супружеской верности своей жены во время своего участия в походе против испанцев, после чего и родился второй сын, всё свое наследство завещал старшему. Наказать жену он не мог, поскольку она приходилась первой фрейлиной матери нынешнего короля, однако младшего сына чурался, и решению того идти в монахи вовсе не противился. Около года юноша провел как послушник, при братии, и уже готовился принять постриг, как пришла весть из Испании, куда во второй поход отправился отец, забрав с собой еще и старшего сына. Дело в том, что имение было разорено расточительством двух благородных рыцарей, и владетель Бурдейля решил, что сможет вновь стяжать себе славу и богатство на ратном поприще. Однако сложилось так, что оба они погибли в этом походе от рук всё тех же басков, добыв, быть может, какую-то славу, но уж никак не богатство.
Мать призвала младшего сына из аббатства ко двору короля и благословила присоединиться к крестовому походу под началом сенешаля, брата короля, поскольку жизнь в Париже требовала благосостояния, преференциумы же от королевы-матери, доброй патронессы родительницы, были явно недостаточны. Несмотря на то, что Его Величество лично пожаловал нового владельца имения Бурдейль в рыцари, при сенешале, в силу юного возраста и отсутствия военного опыта, он был принят всего лишь оруженосцем. Однако поход отложили – средний брат короля занедужил благородной болезнью, следствием обильной страстности и женского внимания, и сенешалем назначили третьего брата короля, герцога Бретонского. Пока новый сенешаль вступал во владение жезлом, гасконец готовил свое тело и дух к войне, не пропуская воинских занятий, а также турниров, в коих проявил себя самым достойным образом.
Но, чем ближе и лучше узнавал он нового сенешаля, тем больше крепчала в нем решимость идти в поход лишь в качестве оруженосца этого удивительно благородного, внешне мягкого, но на самом деле храбрейшего человека во Франции. И потому он не стал оспаривать своего места оруженосца при новом сенешале в пользу более значимой должности, но напротив, своей верностью заслужил признание господина, его любовь и доверие, следствием чего и явилось это удивительное поручение по поиску и спасению одной из прачек обоза. И в сей час он был более чем доволен своей удачей исполнить приказ сенешаля, потому что до Иерусалима осталось три дня пути, если не пренебрегать ночными переходами... Впрочем, если Mes Damme чувствует недомогание и хочет лишний день отдохнуть...
Лишний день отдыха обошелся им слишком дорого. Как впоследствии выяснилось, нанятые гасконцем еще в Иерусалиме, в самом начале этой миссии, проводники-бедавины служили Льву Пустыни, были его шпионами и обо всем донесли своему повелителю. Во время дневного привала, когда большинство рыцарей отдыхали от пустынного зноя в своих шатрах, на лагерь был совершен налет. Это были не воины пустыни, кочевники из многочисленных кланов бедави, но разведывательный отряд армии самого Айюбида, известного во всей Палестине, как Праведник Веры, Салах-ад-Дин! Искусные воины, они напали врасплох и, пользуясь помощью проводников, смогли захватить всех рыцарей живьем. Лагерь самого Льва Пустыни был не очень далеко от Иерусалима – всего в десяти днях пути. По дороге с пленными обращались достойно их званий, когда же прибыли в стан Льва Пустыни, тот разрешил своим военачальникам-сардарам обменять почти всех рыцарей на достойный выкуп. Почти – потому что Рыжую собирался взять себе в наложницы один из шейхов-бедави, союзников Салах-ад-Дина, и юный гасконец, чтобы спасти свою протеже, был вынужден рассказать вождю сарацин, о чьем благородстве был наслышан, историю этой женщины. Он надеялся, что Салах-ад-Дин захочет выменять ее на достойный выкуп, и был удивлен решению того оставить женщину при себе. Праведник Веры и слышать не хотел ни о каком выкупе, заявив, что, быть может, ключ к миру на этих землях сейчас лежит в утробе рыжеволосой прачки. Юный оруженосец был человеком чести и не мог бросить женщину, которую ему поручили спасти. И тогда гасконец из Бурдейля попросился остаться. Он с самого начала пленения скрыл от Льва Пустыни свое рыцарское звание, сказавшись монахом-францисканцем. Салах-ад-Дин, возможно, поверил, а может, просто не стал обличать его во лжи, однако дал свое позволение и даже приблизил к себе, сделав своим летописцем.
«Возможно, – говорил он, – Всевышнему угодно, чтобы хроники ваши и этот ребенок стали первыми камнями, из которых мы построим храм мира на этой истерзанной войнами земле!»
Через три месяца, в удобном и просторном шатре, под приглядом лекарей, предоставленных Львом Пустыни и Праведником Веры Салах-ад-Дином, Рыжая прачка из Вельша разродилась здоровым мальчиком. Имя ему мать давать отказалась, сказав, что сделать это должен его отец, когда, с Божьей Помощью, однажды соединится со своим отпрыском. Сарацины же, по слову Льва Пустыни, называли его Фатих, что означало – Первый.
I. ПЕРВЫЕ АККОРДЫ – РИМ
Рим дышал ненавистью. Рим ужедавно дышал только ею – долгие столетия, нескончаемые века унижения от тех, кого он крушил железом гладиев и топтал калигулами своих легионов. Все они теперь были хозяевами в нем – рыцари, потомки варваров-галлов, бриттов, саксов, германцев, испанцев... Косматые невежи, укравшие величие Города Городов, они теперь диктовали ему свою волю железом армий. И всё это – из-за него. Того, кого Рим казнил, казнил самой жестокой казнью. Крест, на котором Его распяли, перекрестил величие Империи и распял саму Власть на крестовине Истории... Тот, Кого Распяли... Он ушел, но его Сила осталась. Хитромудрый Константин, истинный сын Рима, сумел обуздать ее, взять железной рукой Власти и подчинить. Но она вновь сорвалась... сорвалась с Креста... и воскресает ... воскресает каждый день: в душах, в сердцах, в умах, передаваясь рукам... а руки сжимаются в ярости... пока бессильной, потому что Рим владеет железом. Железо – из него гвозди, которыми прибивают к крестам. Из него – трезубцы жертвенных гладиаторов, умиравших на аренах в честь душ усопших патрициев. Из него – клинки гладиев в руках легионов, усмиряющих и покоряющих народы. Из него – доспехи и мечи рыцарей-крестоносцев, идущих воевать на Святую Землю золото для Рима. Из него – алебарды в руках швейцарских гвардейцев, что будут стоять у входа в Собор Святого Петра, когда в нем находится Папа. А сейчас это железо охраняет покой понтифика клинками тяжелых мечей шведов, принявших крещение от него самого в бытность нынешнего Папы легатом Рима в Скандинавии, где он учредил независимую от Дании Шведскую Митрополию. Верны бывшие соискатели Вальгаллы своему крестному отцу, разделяют с ним и любовь, и ненависть. Любовь к богатству. Ненависть – к Риму!
Базилика над местом захоронения Святого Петра уже устала встречать утро. Любой бы на месте этого здания устал бы от постоянного любования ЕЮ – и утром. Утро хорошо само по себе, базилика... она базилика и есть – красиво соединенные камни и дерево... А внутри – некрасиво думающие люди. Вот, идет один такой, своими некрасивыми мыслями портящий и утро, и базилику, и весь мир... Его называют Папой... и воистину велик Господь, запретивший таким, как он, заводить детей. Вот уж где целибат оправдан! Таким людям просто нельзя поручать воспитание Нового Человека... Ну, его это не смущает – он называет «сын мой» стольких достойных и не очень мужчин, что даже обидно. Ну, хоть бы раз смутился!
Не смутится. Он еще сегодня проповедь будет читать! Потому что сегодня здесь соберутся короли и королевские посланцы, солдаты и авантюристы. Все те, кто готовится в крестовый поход на Иерусалим... воевать Гроб Господень. И благословить на всё это должен он, человек, чьи тяжелые шаги нарушают покой утра... базилики... Тот, кого называют Папой.
Шведы уже заняли свои посты, епископы умывают тонзуры, клирики готовят службу, а Папа – думает. В Риме нынче неспокойно для Матери-Церкви – на последний Марди-Гра ежели глянуть, так вообще страх берет. Его, Папу, изобразили с ослиными ушами, и скоморохи отплясывали постыдный танец с ушастым наместником Петра, потрясая громадными ключами... «от рая»... Деньги, изрядно поправившие положение Церкви после Первого крестового похода, закончились. Любят роскошь святые отцы! Разграбить Константинополь, что ли? Это было бы вполне... уместно!.. Мысли Папы разлетались, подобно эху от его шагов, от колонн к стенам, от Марди-Гра – к грабежу христианских городов на пути нового крестового похода. Его бы воля, Папа не стал бы так далеко закидывать сети – вот оно, золото, рядом, в соседней Испании! Богаты мавры, да только их король испанский сам грабит, и на долю большую рассчитывать Риму не приходится. Король Иерусалимский соблазняет богатствами Египта, да только сейчас пустынные воины терзают рыцарей креста на его землях, родич его дальний, король франков, тоже мечтой этой живет и поддержку обещает, вот и рассказывает он сказки... А в сказки про невероятно богатые и такие же доступные богатства царств Востока Папа верит с трудом. Вот с христианскими государствами всё ясно и просто! Всегда знаешь, что у них есть.Объявить, может, крестовый поход против Испании? Французы да германцы поддержат, британцы тоже... Только далеко они – пока через море, через горы придут – испанцы развернутся, да и сами в Рим нагрянут. Сильны они сейчас, богаты, и армия у них большая, в боях закаленная... Италия в междоусобицах ослабла, правители европейские да сторонники этой еретической Германской Священой Римской Империи интригами, как паутиной оплели весь сапог Апеннинский, и не поможет никто Папе... одинокому Папе, радеющему за Церковь, коей полагается быть сильнее, нежели все королевства Европы. И только тонким, точным расчетом можно заставить гордых и чванливых рыцарей делать то, что нужно Церкви... А Церкви нужно – золото! А ведь еще есть Рим!..
Рим не любит Папу. Рим любит золото и тех, у кого оно есть. Рим хочет богатства и развлечений. Чернь на улицах погрязла в разврате, дворянство грызется меж собой за власть и торговые привилегии, войну себе не может позволить никто – расклад слишком серьезен, союзы крепки, сильные подавят слабых, и никто не заступится. Папа знает, что делать. Папе надо сделать сильных – слабыми. Папе надо уничтожить Рим, его дух, пропитанный язычеством, страхом перед чумой, показавшей бессилие Церкви, сломить и поставить на колени... Весь Рим – на колени, перед собором, чтобы молили... Сладко! Даже представить такое – уже сладко!
«Ненавижу Рим!» – подумал Папа и прошел через анфиладу коридоров базилики.
А Рим входил в свое утро, как сумасшедший ныряльщик после пьянки на Марди-Гра входит в грязную воду Тибра. Грязной водой умывался капитан калабрийских наемников, с трудом проснувшийся для утренней службы после бурной ночной пьянки. В грязь улицы втаптывала кованый шаг конная бригада из Генуи, явившаяся получить благословение Папы перед крестовым походом и мечтающая первой ворваться в Константинополь... чтобы не тащиться потом до самого Иерусалима, но вернуться с золотом домой... Грязно ругалась маркитантка за городскими воротами, жадничая на мзду стражникам.
И только три монаха, в чистых белых плащах воинов-храмовников, проскакали по улице в сторону Латеранской Площади, умудрившись, каким-то образом, не запачкаться от разлетающейся из-под копыт грязи. Нищенка на углу грязно выругалась им вслед. Тамплиеров Рим не любил, пожалуй, еще больше, чем Папу. Чистюли! Строги сверх меры всякой, мзду не берут, даже в меру, дел корыстных, столь любезных сердцу всякого жителя Вечного Города, вершить не желают! Словно и не в этом мире живут! Так чего их любить, чванливых таких, святостью своей простых грешных смущающих?.. Рим в эти дни не любил никого. Любовь ушла из Рима. В Риме осталась только грязь.
На площади уже собирались воины – крестоносцы, воители Гроба Господня, радетели веры, увешанные смертоносным оружием. Германцы с пристроенными за поясом моргенштернами, французы с алебардами, британцы с длинными луками в человеческий рост... Все явились за благословением Папы, чтобы с чистым сердцем нарушить заповедь – не убий!
Площадь шумела, звенела, ржала, и даже выход понтифика не очень-то убавил этот шум. Благословение – не помет воробьиный, но и не свист болта арбалетного, прислушиваться к нему не то чтобы важно... тем паче, что по-латыни не всяк разумеет, а по-человечьи Папа и говорить не станет... Мордой не вышло воинство крестовое, языком же и вовсе не союзно.
Понтифик говорит, капитаны слушают, лошади ржут, и только трое монахов в доспехах и белых плащах, с суровыми лицами, тяжело смотрят в сторону понтифика, и нет у них во взгляде ни благоговения перед Наместником Петра, ни уважения к словам его. Они знают, КТО перед ними. И они пришли сюда, чтобы попытаться защитить... Защитить Христианство – от Церкви.
Уже через день лишь один из этих троих направится на юг, в Палермо, чтобы далее последовать в Иерусалим. Из оставшихся в Риме двоих тамплиеров первого схватят церковные шпионы. Наутро труп его обнаружится у дверей траттории, где обычно останавливаются рыцари-храмовники, прибывая в негостеприимный для себя Рим. У мертвеца будут вырезаны глаза, уши, и язык. Второй, понимая, что же на самом деле происходит, и следуя предварительным поручениям Магистра Восточного Крыла, во весь опор помчится предупреждать Верховного Магистра Ордена, в Париж... Но будет уже поздно. В этой схватке победит Рим.
AD LIBITUM – УЗЕЛ
Тонким узором тянутся по пергаменту письмена. Грубой силой значится смысл их, ибо пора заканчивать индийскую игру, зашедшую в тупик недомыслия, и разбросать нефритовые фигурки по инкрустированной слоновой костью доске... Пора разрубать гордиев узел, завязанный на Востоке по недомыслию предшественников – сплелись интересы французской короны, испанских амбиций, папской власти, германской силы, сарацинской хитрости, египетского богатства... В середине узла, запутавшийся, как муха в паучьем коконе, – король Иерусалимский. Концы узлов теряются – от Каира и до Рима... Воистину – гордиев узел, но нет второго Александра у крестоносцев, Львиное же Сердце не оправдал надежд, увяз в благородных игрищах со Львом Пустыни... Остры мечи у двух львов, да только не рубят они узел этот, но еще больше запутывают его.
Тонким узором – вязь арабского письма, послание тому, кто был главным врагом, но станет лучшим союзником. Скорпион должен ужалить самого себя, и быть разрубленным узлу на Востоке не мечом крестоносца, но отравленным кинжалом гашишшина. Так решил понтифик, после того, как получил донос от своих шпионов из Франции. Там – сердце Западного Крыла Ордена Храмовников, и оттуда тянется ядовитый аспид к сердцу католицизма, желая ослабить и даже – убить! Наместника Петра – убить! За такое причитается кара... страшная кара! Орден надо уничтожить!
Но он силен, он слишком разбогател, и источник силы его – там, на Востоке. Восточное Крыло Ордена Тамплиеров сегодня контролирует армию и торговлю, управляет королем Иерусалимским и дружит со Львом Пустыни. Виновен во всем этом Магистр Восточного Крыла, тот, кого именуют Первым Мечом Тампля, бывший шут короля Франции и личный друг Салах-ад-Дина. Но у этого человека есть враг! Личный враг! Старец с горы Аламут, тот, кто воспитывает и выпускает в мир самых страшных убийц известного христианам мира – гашишшинов. Их еще называют исмаилитами – секта, которая могла бы стать врагом самому Льву Пустыни, ибо он суннит!
Понтифик поднаторел за последнее время в интригах и разногласиях среди мусульман, и проводником в этом, когда-то совершено чужом для него мире, стал его секретарь. Темный, как сумерки над Римом, с глазами, подобными иберийским оливам, сын эмира Гранады, отрекшийся от веры отца и принявший крещение ради любви к христианке, он попал к понтифику воистину не случайно, но по воле Господней! Десять лет назад он явился в Рим, дабы получить благословение Папы, и был еще раз крещен в купели Латерана. Понтифик оставил его у себя, сделал секретарем, и этот сарацинский юноша был лишь рад – в Испании общество христиан, воюющих с его отцом, всё равно не приняло бы его к себе, ибо он стал чужим для своих, за попытку стать своим среди чужих. Папа поселил его с женой в Риме и старался не отпускать от себя надолго. Разве что для некоторых особых миссий он пару раз направлял своего секретаря в Святую Землю и в Византию. Благодаря этому юному сарацину-выкресту он прознал многое о своих врагах на Востоке. И теперь, с его помощью, писал письмо тому, кто был его врагом... но станет союзником. Потому что у них есть общий враг – Магистр Восточного Крыла Ордена Тамплиеров!
II. РОНДО В ИЕРУСАЛИМЕ
«Если шуты подаются в монахи, почему бы убийцам не податься в шуты!» – подумал он и настроил треснутую лютню. Лютня дребезжала, звуча плохим настроением, как и тот, кто пытался играть на ней. Наверное, потому, что и инструмент, и его владелец пострадали от одного и того же – боли. У музыканта болел зуб. Зуб сломался три дня назад, не выдержав столкновения с латной рукавицей очередного воителя за Гроб Господень... тогда же треснула и лютня... Инструменты, особенно музыкальные, тоже ведь умеют чувствовать боль. Однако, похоже, ныне Магистра мало волнуют состояние что лютни, что своего единственного... последнего оставшегося в живых шпиона и телохранителя.
Впрочем, после того как месяц назад Магистр вернулся из Европы, он всё время задумчив, и грустны его мысли. Магистр был в Риме. Магистр видел Папу. После чего мчался, спешил обратно в Иерусалим, чтобы опередить армию, которую на его глазах Папа благословил на новый крестовый поход. Ему чинили препоны, влияние же Западного Крыла Ордена Храмовников в Европе ослабло настолько, что помочь магистру не мог уже никто. Потому и удалось ему опередить крестоносцев лишь на один месяц. Месяц – это мало, особенно здесь, на Востоке, где никто и никуда не привык торопиться. Сенешаль, под давлением рыцарей и своего больного брата, вышел в поход на Салах-ад-Дина, чтобы погубить в песках последних защитников города. Он сделал это, пользуясь тем, что Магистр в отъезде, иначе глава храмовников не позволил бы ему совершить этой роковой ошибки. И предупредить самого Салах-ад-Дина... Так и вышло, что в Иерусалиме оказались не готовы, когда армия крестоносцев встала лагерем под стенами города. Сначала совет из рыцарей, возглавляющий армию, потребовал у короля Иерусалимского сдать город под власть Рима, как того требовал Папа в своем письме. Помутившийся рассудок короля отвергал саму мысль о том, что его брат, единственный, возможно, на всем белом свете человек, отнесшийся к нему с любовью, несмотря на годы, разделявшие их, погиб. Отверг он и предложение рыцарей. И тогда они объявили, что король УЖЕ мертв... и городом управляют сарацины. Архиепископ Иерусалимский отправился с ними вести переговоры... и остался там. Во время одной из своих вылазок в лагерь Сейд узнал – ему предоставили выбирать между смертью и пособничеством воинству, явившемуся грабить город. Показали письмо Папы... И служитель Бога, велевшего – «не убий», согласился. И даже обратился из-за стен к горожанам из христиан, требуя распахнуть городские ворота и не сопротивляться пришедшим из-за моря, чтобы грабить их дома. В ответ паства расстреляла его из луков, чему наверняка обрадовался прибывший с крестоносцами капеллан, ибо согласно папскому письму именно ему предстояло стать новым архиепископом Иерусалима, и он уже подумывал о том, чтобы отравить «брата во Христе»... Это случилось вчера.
Завтра крестоносцы будут штурмовать Иерусалим. Завтра! Это сейчас крики муэдзинов смешиваются с разговорами иудейских раввинов и пением в христианских храмах. Завтра будут только крики боли... «Им будет больнее, чем мне!» – подумал человек с лютней и осторожно притронулся к щеке. Зуб бился болью, как будто у него было свое собственное сердце. «Может ли зуб отдельно от всего остального тела скорбеть об Иерусалиме? Хороший вопрос для богословов!» Человек усмехнулся и заиграл.
Магистр говорит: «Твоя музыка меня вдохновляет!» Магистр великий человек! Он один может остановить войну, если его сегодня не убьют. Его должны убить, обязательно должны, потому что Рим недоволен тамплиерами, Риму опять нужно золото Иерусалима, а еще это золото нужно им всем, королькам из далекой Европы, в которой человек с лютней никогда не был, и уже, наверное, не будет... Они пришли за ним, за золотом, и они его возьмут. Слишком их много, и слишком далеко сейчас Лев Пустыни, он не успеет... После того, как он увел в пустыню и уничтожил последнюю защиту Иерусалимского королевства – ту горстку рыцарей, что возглавлялась сенешалем, братом короля, у города не осталось никакой надежды. Король Иерусалима слаб, он умирает, он уже почти умер, ему не остановить своих единоверцев. Впрочем, разве кто-то в Иерусалиме считает этих, которые там, за стеной, христианами? Когда они ворвутся в город, им будет безразлично, чьих дочерей насиловать и чей храм грабить... После гибели иерусалимского войска в пустынях Синая их лидеры уже объявили город захваченным мусульманами, и никого из них уже не волнует, что Иерусалимом еще правит христианский король и что ставка самого Магистра Восточного Крыла Ордена Тамплиеров находится в Иерусалиме и действует. А может, как раз это и волнует Рим, заинтересованный в том, чтобы тамплиеры окончательно убрались отсюда. Навсегда!
Человек, у которого болел зуб, не умел сквернословить. Иначе он думал бы о том, кто сломал ему зуб другими словами. Но он был тем, кем он был, и потому мысли его текли вот так. «Неуклюжий и медлительный, если бы он встретил меня, когда я еще не стал шутом у моего Магистра! Человек перестал играть и снова тронул щеку. – Разве он смог бы так просто ударить меня? Он, называющий себя христианином, считающий себя воином...» Человек вспомнил, как он сидел неподалеку от шатра, где собрались короли и генералы армии грабителей-«освободителей»... Сидел и играл на лютне. Тогда она еще была в порядке. Он уже узнал всё, что хотел, и пора было уходить, но светловолосые кнехты не отпускали его. Они хотели, чтобы он играл для них и дальше. И он играл – мелодии псалмов и духовных песнопений, которым научил его магистр, и даже одну небольшую пьеску, которую Магистр сочинил сам и называл «Рондо для Изольды». Кто такая эта Изольда? Зачем – для нее?.. Может, так звали женщину, которую любил тот, кто сочинил эту музыку? Магистр может любить! Человек играл для кнехтов, а сам думал о Магистре и его странной судьбе. Как-то раз, перебрав храмового вина, Магистр признался, что до того, как принять постриг и стать монахом, он был шутом при дворе одного из королей... И в монахи ушел, потому что убил какого-то герцога... Герцогов мы знаем! Самому приходилось убивать нескольких... давно... двоих оплатил шейх одного из кланов пустынных бедави, за то, что они забрали выкуп, но не вернули его сына, взятого в плен... одного – его родной брат... младший... наверное, чтобы самому стать герцогом?
Он был один из немногих, кто всегда задумывался, зачем Старец посылает своих гашишшинов убить того или другого... зачем это нужно заказчикам. Это потому что в Аламут его привели, чтобы научиться... и мстить... Мстить этим, с крестом, которые сожгли его деревню, отравили колодец в их оазисе, изнасиловали и убили мать... Отца он никогда не знал – он был сейдом – рожденным от временного брака-сыйгях паломника, идущего в Мекку из Испании, с местной женщиной. Считалось, что он приносит удачу деревне. Оказалось, удача есть только у него. Из всей деревни выжил он один. Как говорил его приемный отец, джаллад-джаани, великий и мудрый старец с горы Аламут, – чтобы отомстить.
И он мстил. Старец сам обучал его – тогда он еще был не такой старый и мог лично вести занятия по великому искусству «джаани» для своих излюбленных учеников. Маленький сейд был из таких, из любимых. Он научился убивать так, что будь он поэтом, то каждая смерть стала бы касыдой на могиле убитых им. Или газелью? Некоторые – однозначно рубаи... Их смерть была быстрой, как красивое четверостишие:
Я вижу тебя...
Ощущаю тебя...
Кинжал мой трепещет...
И любит тебя!
Нет, все-таки убийца из него лучше, чем поэт! Ну что такое – «кинжал любит тебя...»! Как будто это любовные стихи, из тех, что объявляются имамами «харам» («запрещено, греховно») во время пятничных проповедей. И даже музыкант получился лучше, чем поэт – потому что вон как кнехты слушают. Замерли, и только одна тень двигается... приближается... Большой человек в тяжелых доспехах... Сегодня боя не было. Значит – из шатра. Эти короли и генералы на свои советы всегда при полном доспехе идут – боятся сговоров... и сами сговоры делают. Вон, на латной рукавице кровь... и из шатра выносят кого-то. Наверное, француза, который слишком громко кричал, что не позволит нападать на христианские храмы. Эти-то уже всё знают – где, в каком храме больше золота, где чего лежит... Во время последнего приема у короля Иерусалима ходили, высматривали... «исповедовались!»...
–Сыграй «Шалунью рыжую»!
От подошедшего пахло так, как будто он пил вино с утра. Не храмовое, а шар’аб – «злую воду», который делают некоторые бедави, из тех, что не крепки в вере... прозрачное, крепкое... Сейд пробовал. Он пробовал многие яды – этому обучали всех гашишшинов в Аламуте... После того шар’аба наутро такой запах бывает... Смрад!
–Играй «Шалунью рыжую»! – Подошедший был рыцарем. Наверное, из этих... британцев... По речи понятно.
–Не могу, мой господин! Не знаю! – Сейд отвечал тихо, смиренно. ТАК полагается христианину, он знает, его сам Магистр учил.
–Сейчас будешь знать! – и рыцарь завопил громко, некрасиво:
Шалунья рыжая ножкой топнет!
Шалунья рыжая ладошкой хлопнет!
Шалунью рыжую муж не дождется.
Ее сегодня миленький уж топчет...
Кнехты загоготали. Эта песня им пришлась явно больше по нраву, чем «Рондо для Изольды». Сейд понял, что сейчас будет нехорошо.
–Я не могу, господин. Она греховна, эта песня. Близ Гроба Господня...
Латная рукавица взлетела и опустилась. Больно! Осколок зуба упал в пыль родной пустыни. Теперь будет долго болеть. Лютню-то за что? Не любят солдаты святош! Носок солдатского сапога (Господь хранил, никак не иначе!) смазал, не разбил деку, отшвырнув инструмент в сторону. По звуку догадался – уже от удара о землю треснула. Растопчут ведь! Сейд подбежал к валявшемуся в пыли инструменту, схватил и как мог ЗАМЕТНЕЕ исчез. Исчезать, как это делают гашишшины, было нельзя. Станут задавать сами себе вопросы... этим лучше, когда они не думают...
Магистр, когда узнал о случившемся, ничего не сказал. Сейд удивился. Лютня была не его – Магистра. Тот подарил ее своему крестнику год назад. Когда понял, что тот научился на ней играть. Сейд догадывался, что лютня эта с Магистром еще с тех времен, когда тот не был тамплиером. Наверное, это лютня того шута, что написал «Рондо для Изольды» и убил герцога. А потом должен был умереть от руки одного мстительного сейда-гашишшина... Который увидел... услышал... уверовал... И предал. Предал веру отцов, предал дело мести, предал своих братьев по Орлиному Гнезду в Аламуте.
Впрочем, сам Муаллим позволял гашишшинам, когда того требовало задание, временно притвориться, что они перешли в христианство. Такое уже случалось. Однажды, в далекой земле франков, один из заказчиков не пожелал оплатить услуги Аламута. Уже тогда во всей Европе знали, что месть Старца всегда настигает свою жертву. Вызвавший гнев Джаллада-Джаани был богат и знатен, он окружил себя лучшей охраной, и подобраться к нему, казалось, было невозможно. Но двое посланцев Аламута притворились, что стали христианами, почти полгода творили все положенные обряды и стали почти «своими» в той церкви, куда ходил исповедоваться враг Муаллима. И им стали позволять оставаться в храме, хотя всех прочих прихожан заставляли уйти, когда тот входил со своей охраной в церковь. Там же, в церкви, у самого алтаря пророка, которого они признали своим Богом ради выполнения своей убийственной миссии, их кинжалы прервали жизнь того, кто бросил вызов Первому Гашишшину. Так что сам по себе переход воина джихада в христианство не стал бы так удивлять тех, кто знает гашишшинов... Однако кто же их, гашишшинов, знает-то?!
Старец послал лучшего своего ученика – убить Магистра. Магистра рыцарей-тамплиеров, монахов-воинов, которые пришли воевать Гроб Господень... и принялись останавливать войну. За это убийство платили, и платили хорошо. Свои же – французы, германцы, британцы... а главное – самую большую сумму внес посланец Папы. Это всё Сейд потом узнал – в Аламут деньги принесли якобы от Салах-ад-Дина, Праведника Веры. Вернее, от совета шейхов. Старец удивился, но заказ взял. И чего не взять, если еще одним крестоносцем станет меньше на земле, где до их прихода царили мир и согласие? Но Сейд поначалу не понимал ничего. Он пришел к Магистру убивать... и подслушал разговор. Магистр исповедовал юного рыцаря, тамплиера, который умирал... ну, умереть он должен был обязательно – Сейд в ядах никогда не ошибался. Особенно в тех, которые готовил сам. Магистр называл умирающего сыном... И говорил о том, что жизнь, отданная за мир на Святой Земле, навсегда пребудет в мире сама. Мир!.. Сын!. В душе у Сейда зазвенела струна... чисто так – как струна на лютне... ну, когда она еще не треснутая... А душа Сейда была вся в трещинах. Но в тот раз струна запела чисто. Сейд послушал весь разговор, сидя на крыше, через тростинку, которую пропустил сквозь отверстие в мазаной глиной кровле. И решил слушать дальше.
Пришли люди. Забрали тело. Потом Магистр сказал им... он говорил немного, даже не говорил – отдавал приказы... странные приказы... Выходило, что тамплиеры не хотели войны. «Мы здесь! – говорил потом Магистр уже своему крестнику, бывшему гашишшину. – Мы уже здесь, и мы охраняем Гроб Господень! Мы храним Таинство! И охранять его нам должно ото всех, чьи помыслы далеки от заветов Господа нашего Христа! Война эта Богу не может быть угодной, но угодна лишь алчущим злата и прикрывающим грязь помыслов своих светлым Именем Его!» – «Магистр, но как золото могло извратить такое светлое учение?» – «Золото меняет всё... всегда... и только к худшему, сын мой...» Сын! Струна пела в душе каждый раз, когда Магистр так обращался к нему. Но в тот, первый день, когда он сидел на крыше, он решил узнать...
Одного дня в духане, где подавали гашиш, хватило, чтобы собрать всё, что только знали в Иерусалиме о Магистре и его врагах. А знали в Иерусалиме много!
И одной минуты хватило гашишшину «сравнить следы на песке пустыни и понять, куда идет караван», чтобы принять решение. А решения он умел принимать быстро. Особенно такие, которые меняли жизнь ему... прекращали жизнь другим. В этом случае вышло так, что принятое решение должно было сократить жизнь именно ему.
Он знал, что все гашишшины будут теперь охотиться за ним. И знал, что он лучше их всех. Но, приняв крещение от самого Магистра, Сейд больше не был убийцей. Он удивлялся тому, что прожил целый год, ни разу, ни на кого, за это время, даже не подняв руки. Наверное, и вправду удача Сейда хранила его. Сколько раз его могли убить, но теперь уже меч Магистра защищал его... шпиона и телохранителя, который не брал больше в руки оружия... «Ты истинный христианин! Тебе бы к францисканцам податься! Или вообще в отшельники уйти! – говорил Магистр. – Но ведь ты не уйдешь!» «Не уйду...» – смиренно возражал бывший убийца. Он знал, что может помочь Магистру, и Магистр знал, что только он может... не остановить, нет, предупредить его, когда другие убийцы придут за ним. У него это уже получалось.
Они придут... сегодня! Поэтому он должен сидеть здесь и играть на лютне. И пока он здесь – Магистр будет предупрежден. «Музыка меня вдохновляет!» – говорил Магистр. Сейчас он пишет... что? Еще одно письмо в Рим? Пытается создать заговор против Папы? «Не мое дело. Мое дело – вдохновлять!.. Вот, струна... дребезжит... и правильно дребезжит... Идут! Скольких наняли на этот раз? В прошлом месяце Магистр легко справился с теми двоими... Я сам его учил!.. Именно тогда в Аламуте догадались, что мой переход в христианство – не ради того, чтобы подобраться ближе к своей жертве. Потому что те двое рассчитывали на мою помощь. И сейчас их придет больше... Четверо? Пятеро? Сколько же они заплатили Старцу?» Бывший убийца играл «Рондо для Изольды»... За дверьми послышался шум, лязгнула сталь... «Значит, успел! Раз кинжалы и удавки не помогли, и взялись за мечи – значит, я успел его предупредить... Но их слишком много!» – Бывший убийца ударом ноги распахнул дверь и заиграл громче. Помогло – тренированные в тиши Орлиного Гнезда, эти молодые выкормыши Старца удивлялись МУЗЫКЕ. Одного мгновения, чтобы убийца отвлекся, Магистру достаточно. И вот его тонкий меч проткнул черные одежды и смуглую плоть гашишшина. Но их в этот раз слишком много! Уже три трупа в комнате, а через окно влетают на веревках еще двое, с кинжалами в руках... и еще один – сзади... вошел через дверь, как дорогой гость в шатер бедавина в праздничный день... Обжигающий холод между лопаток... Яд из жал пустынных скорпионов... «Этот – из старых... еще со мной начинал...» – подумалось Сейду. Не хотелось даже поворачиваться, чтобы посмотреть в глаза бывшему брату по гнезду. Всё равно в глазах стало темнеть. Магистр отбивался от двоих, быстрых, как молния. «Не сумеет! Не устоит... Они недоучившихся вперед бросили. А сами – вслед... Даже Орлиное Гнездо теряет честь. Золото изменило и вас, мстители...»
Двое лежали в комнате и еще дышали... четыре трупа в черных одеждах, закрывающих лицо, составляли им общество. Яд пустынного скорпиона сильного человека убивает не сразу, но очень быстро парализует мышцы. Бывший гашишшин готовил себя хорошо. Его тело не было защищено от влияния этого яда полностью, но... если бы еще не кинжал, пробивший легкое... можно было бы выжить... или нет? Неважно... Важно сейчас взять в руки лютню... Магистр умирал. Значит, завтра в Иерусалиме будет война. А сейчас... сейчас ему надо сыграть... В последний раз. Может быть – псалом? Нет, псалом – для себя, позже... потому что Магистр уже умирает, он умрет раньше... и ему надо играть «Рондо для Изольды»...
AD LIBITUM – СМЕРТЬ СЕНЕШАЛЯ
По пустыне шла армия... Она уходила от Проклятия Крестоносцев, от того, чье имя даже вслух произносить несущим крест сулило несчастья. Крепости становились беззащитными аулами на пути его. Мужи разбегались пугливыми стадами пред гневом его. Он был благороден с отважнейшими из врагов и беспощаден с подлейшими из них... Он гнал нарушивших мир...
Во главе армии шел человек, которого некогда считали трусом, но нынче... нынче каждый из его воинов считал его самым храбрым человеком на земле. Тот, кто был мужем некоей Изольды, старшим братом королю Иерусалима и младшим – королю франков. Однако в последние месяцы если и была женщина, о которой он позволял себе думать, была не Изольда... Он вспоминал Шалунью Рыжую – странную, страстную, а иногда – и страшную в своей таинственности. Почему-то ему казалось, что всё, происходящее с ним, как-то связано именно с этой женщиной. А еще – с той монашкой... Когда бедави напали на обоз и похитили Рыжую, он потерял себя от гнева. Когда солдаты насиловали монашку – он не стал их удерживать. Потому что был зол. Он бы предпочел, чтобы пустынники похитили хоть сотню монашек, но оставили ему ту, по которой он тосковал всё это время. В его армии было много тех, кто совершил тогда этот грех... Да, он припоминал, что отправил на поиски Рыжей того юного гасконца... из Бурдейля... Рыцарь с манерами монаха, очаровательный юноша, словно Галахад из сказаний... только вместо Грааля он отправил искать своего Галахада – рыжую прачку из обоза... Мальчик так и пропал с этим поиском где-то в пустыне... Как и Рыжая...
По пустыне шла армия. Некогда грозная и уверенная в себе, ныне она превратилась в толпу испуганных, отчаявшихся людей. Некогда эти люди верили в силу своих мечей больше, чем в своего Бога. Ныне Бог был единственным, на кого они могли уповать в надежде остаться в живых, и не столько уже и мечей воинов вражеской армии боялись они, ибо те несли смерть быструю. Смерть в пустыне от жажды и голода, смерть от потери облика человеческого страшила их еще больше. И страх этот объединял отчаявшихся, заставляя не прекращать движения по пустыне...
Сенешаль старался не думать об Изольде. О прочих женщинах он также старался не думать, но это у него получалось гораздо хуже. Не получалось не думать ни о Рыжей, ни о монашке... С каждым прожитым днем он всё чаще вспоминал глаза Христовой невесты, которую не стал защищать от своих солдат. А еще вспоминал зеленые глаза Рыжей, и, несмотря на все тяготы этого похода по пустыне, плоть восставала...
По пустыне шла армия. Вослед ей, не приближаясь, но и не теряя из виду, шел Лев Пустыни, безжалостно взирающий на мучения тех, кто причинил еще больше страданий его народу. Он перерезал им пути к оазисам, прогонял стада пустынных антилоп на пути следования крестоносцев. Голод и жажда стали его мечом и копьем, которые он обрушивал на врагов своих. В лагере у него были двое – мужчина и женщина. Летописец из франков и огненноволосая женщина, разродившаяся около полугода назад ребенком в его стане, под присмотром его лекарей. Он знал, что это за ребенок. И собирался убить голодом всех в стане врага, а отца ребенка – спасти, чтобы остановить войну.
Когда голод стал невыносимым, некоторые из солдат сами стали перерезать себе горло. Сенешаль не удивлялся, обнаруживая, что среди самоубийц, обреченных на вечное страдание в геенне огненной, всё чаще те, кто был с ним в том самом, первом походе... С каждой смертью всё реже грезились монашка и Рыжая. Всё чаще вспоминалась Изольда...
По пустыне шла армия – игрушка в жестокой игре Льва Пустыни. Настолько увлекся этой жестокой игрой Лев, что уже порой стал забывать, ЗАЧЕМ он это делает. Игра заводила его самого и его собственную армию – надежду правоверных Иерусалима – всё дальше от Города Мира. Лев увлекся охотой, забыв о своем прайде. Лев шел по пустыне, уже приближаясь к границе с Египтом, к Иерусалиму же приближались новые крестоносцы...
Сенешаль уже не помнил, кто он такой, кого и куда ведет. НЕ помнил ни монашки, ни Рыжей, ни похода через Синай... Он грезил одним именем, звал его в своем шатре и умер ночью, во сне, с этим именем на устах – Изольда! Усталые воины нашли в себе остатки сил, чтобы засыпать тело песком, вонзить в изголовье меч вместо креста и идти дальше... Лев Пустыни не смог спасти жизни одного-единственного человека из этой армии обреченных. Узнав же, он понял, что ему не суждено остановить эту войну. Однако он велел не причинять вреда ни ребенку, ни его матери, франку же пообещал отпустить их... когда вернется в Иерусалим.
По пустыне шла армия. Шла обратно, даже не пытаясь найти собственные следы на песке – много времени прошло уж... Глаза идущих были сухими от ветра и жестокости. Эти глаза видели, как остатки некогда гордой армии крестоносцев – самые сильные и выносливые – сбрасывали с себя доспехи и оружие, нагими становились на колени и начинали молиться Исе, Мир Ему, коего почитали Богом. Так, за молитвой и умирали, сражаемые солнцем, голодом и жаждой... Когда умер последний, Лев Пустыни объявил этот джихад завершенным и приказал поворачивать обратно.
Армия Льва шла по его пустыне...
III. АДАЖИО – КАМЕНЬ
Камень влетел в огород, вспахал землю до самой стены глинобитного домика и остановился. По стене побежали трещины, а через миг дом рухнул, подняв облако пыли, и похоронив под собой и старого садовника, и его сына. Сын садовника был докучливый, глупый, от него всегда пахло потом и навозом, который он вместе с отцом возил в сад королевского дворца, и похоть свою он удовлетворял жадно, быстро и неумело, но сейчас бывшая монашка Ордена Святой Магдалины пожалела его. Он столько раз пользовался ее безропотной покорностью, что теперь от нее самой разило запахом навоза. Она давно уже никого не жалела. Второй год она исполняла обет, данный когда-то в Риме, – разделить судьбу своей святой, пройти путь Марии Магдалины, и за это время, как ей казалось, она разучилась жалеть людей. В особенности – мужчин. Да, она давно уже поняла, что всё, случившееся с ней с тех пор, как она отправилась в крестовый поход, есть ни что иное, как исполнение обета. Нападение на обоз крестоносцев, насилие, и снова насилие, и бесконечные похотливые глаза, руки, тела мужчин – всё это путь ее святой, который она должна пройти.
Однако ее святая наверняка жалела бы этих грешников, она же их ненавидела. И в первую очередь за то, что эта похоть передалась ей самой. Та женщина с Вельша, Шалунья Рыжая, тщетно пыталась ей объяснить смысл плотской любви в жизни женщины. Теперь она сама знала, что это такое, когда плотская любовь становится смыслом самой жизни женщины. И за это свое грехопадение она винила их всех. И потому не жалела – ни погибшего больше года назад Магистра Де Сабри, ни всех тех, кто, как поговаривали, погибли в пустыне вместе с сенешалем – воинов, которых она лечила по пути в Иерусалим... мужчин, которые насиловали ее, Христову невесту, на этом пути. Она понимала – пока не научится прощать, не пройти ей этот путь до конца. А путь к прощению лежит через жалость. Или – любовь! Но оба этих чувства были ей, казалось, навсегда недоступны.
После смерти Сабельника она оказалась никому не нужна. Новый Магистр Ордена Храмовников Восточного Крыла прелюбодейству не предавался. Можно было бы пойти в прачки к воинству крестоносцев, но, зная, кто был ее любовником и покровителем и какова была его судьба, те, кто когда-то изнасиловал ее, теперь считали бывшую монашку проклятой и чурались одного ее вида. Королевский садовник взял ее к себе в дом из жалости, а также потому, что сын его, скорбный умом, но могучий телом, жениться в этом городе, где женщин всегда было меньше, чем мужчин, даже мечтать не мог. Так она стала наложницей сына садовника, а заодно их служанкой, следившей за хозяйством в бедном, но уютном домике с огородом, куда только что угодил камень из требушета.
Камни над городом летали с утра – ожидаемый штурм Иерусалима начался. Город под властью христианского короля штурмовали христиане. Было во всем этом наверняка провидение Божье, однако бывшая монашка Ордена Святой Магдалины божественных замыслов нынче не искала. Ей хотелось выжить. Удар камня и разрушение дома, вместе со смертью тех, кто кормил и опекал ее последний год с лишним, пробудили в ней что-то больше этого желания. С самого утра она пряталась в доме, не совсем понимая, что глиняные стены и соломенная крыша не спасут от камней, но старик выгнал ее в огород, приказав проследить, чтобы вода равномерно шла по грядкам – война войной, а время подачи воды в арыки города из городской водонапорной башни не менялось в Иерусалиме еще со времен Римской Империи. Сам он вместе с сыном из дома выйти не решился, и вот...
Бывшая монашка бросилась в самую гущу пыли, надеясь обнаружить живым хоть кого-то, но увидела лишь хорошо знакомую спину сына садовника, перебитую аккуратно посередине балкой, державшей раньше крышу. Старика-садовника же под развалинами видно не было. Камни продолжали со свистом летать в блекло-голубом иерусалимском небе, и она выбежала со двора в город. В голове мелькнула мысль – судьба святой! Вот и камни бросают! И не найдется ведь того, кто скажет – пусть считающий себя безгрешным, бросит в нее камень! Хотя...
В Иерусалиме был один человек, который мог бы так сказать. Тот, кого считали святым. Кого почитали и боялись больше, чем короля. Магистр тамплиеров, человек со странным мечом, рыцарь и монах... Она решилась и побежала в направлении к дому, который знали все, но прийти в который решался не каждый. К дому, который охранялся лучше, чем дворец самого короля Иерусалима. К дому Магистра...
Камни, которые метали осадные орудия крестоносцев, разрушили уже половину города, но дом Магистра был в порядке. Однако только сам дом. Около десятка мертвых тел в белых плащах рыцарей-храмовников были словно разбросаны у калитки дома и по двору. На лестницах никого не было, но из внутренних покоев раздавались удивительные, странные для этого времени звуки. Словно кто-то играл на лютне. Отвыкшая удивляться, только сейчас вновь начавшая испытывать к кому-то жалость, бывшая монашка шла на звуки, пока не добралась до просторной комнаты.
Дверь в нее была распахнута. Створки окон, как будто их выбили, лежали на полу, и солнечный свет заливал помещение, в котором было-то всего – массивный стол в дальнем углу, большое, простое деревянное распятие на стене, да там же, на полу, рядом с оконными створками, несколько мертвых тел. Впрочем, было одно живое. Посередине комнаты, скрестив ноги, сидела странная фигура спиной к двери. Из спины торчала рукоять глубоко всаженного кинжала. А еще, судя по всему, именно эта фигура и играла на лютне, потому как у других мертвецов в руках никаких музыкальных инструментов не было – только оружие. Тот, к кому она мчалась, также лежал на полу, сжимая в руках свой удивительный меч с тонким лезвием, о котором столько болтали жители Иерусалима.
Она осторожно обошла фигуру мертвеца, играющего на лютне. Посмотрела в лицо и узнала! Это был он, тот, кого она видела два раза в своей жизни: первый раз в пыточной башне, куда пришла вместе с Магистром, и второй – в тот же день – на Голгофе, когда умер Сабельник. Тот, кого она считала то ли ангелом, то ли демоном – молодое лицо, с глазами, подобными двум плодам оливкового дерева...
Он снова увидел женщину и понял, что умер. Потому что это, должно быть, ангел. Мелек, создание Света, та, что встречает умерших праведно. И значит, прав был Магистр, когда говорил, что Бог – един для всех, кто истинно верует в Него, и каждый Пророк, да святятся имена их – дети божьи и несут в себе Божественное Слово... Как Иса, мир Ему!.. Спина уже не болит. Значит, точно умер.
Это было то же лицо, которое он видел больше года назад, когда на его глазах умирал Железный Копт. Первое женское лицо после матери, которое он УВИДЕЛ... Значит – точно ангел. Тогда она, должно быть, приходила за душой Железного Копта. А сейчас – пришла за ним. Но ведь Копт убил себя сам, а самоубийцы – величайшие из грешников? Почему же за ним пришел ангел, а не демон? Нет, подумал Сейд, наверное это я, в гордыне своей, возомнил, что праведен, и за мной пришел мелек, а на самом деле это – дьявол, шайтан, который, как известно, тоже из бывших ангелов, и потому может быть так же прекрасен, но приходит за грешниками, и прав был Учитель, Джаллад-Джаани, и за мной явился тот же демон, что и приходил за самоубийцей, ибо я предал свою веру. Или – нет? Я же помог умереть Копту, своей рукой извлек нож из его тела... значит, он не считается самоубийцей, значит, она ангел, и я, получается, все-таки попаду в рай, потому что у демона не может быть ТАКОЕ прекрасное лицо...
Откуда-то звучала музыка. Вернее – несколько нот, которые кто-то играл на лютне... той самой лютне... Которую подарил Магистр... на которой он играл перед тем, как умер. Музыка – значит дженнет, рай? Но лютня дребезжит... Может – джехеннем, ад?..
Сейд давно перестал чувствовать свое тело. Пальцы левой руки намертво вцепились в гриф, правая механически перебирала арпеджио на струнах, извлекая один, последний аккорд из «Рондо для Изольды»... Последнее короткое рондо, которое он исполнял для своего Магистра, умершего у него на глазах. Яд скорпиона уже распространился по всему телу, из всех чувств продолжали действовать только зрение да слух, да и те уже угасали... Оставалось еще обоняние. В глазах потемнело, музыка замолкла, сменившись гулом в ушах, и последнее, что почувствовал Сейд, – приближающийся к нему источник резкого запаха навоза. «Значит, все-таки ад...» – подумал он, и сознание его угасло.
«Камень, право слово – камень!» – подумала монашка, пытаясь сделать крестообразный надрез на спине умирающего юноши. Хирургический нож с трудом преодолевал сопротивление нечеловечески жесткой плоти. Сделать надрез было необходимо, чтобы выпустить отравленную кровь. Так учили трактаты и великих целителей древности, и современных ученых. В том, что кинжал, которым пронзили спину этого удивительного молодого сарацина, был отравлен, монашка не сомневалась. Кинжал она извлекла, по всем правилам, благо великолепный хирургический инструментарий без труда обнаружился в нише рядом со столом Магистра. Покойный владелец набора медицинских инструментов великолепной арабской работы, коченевший тут же рядом, на полу, при жизни увлекался некоторыми медицинскими исследованиями. Монашка и не догадывалась, что этот набор был подарком личного врачевателя того, кого многие считали главным врагом христианского мира – Лев Пустыни, Праведник Веры, Салах-ад-Дин весьма ценил дружбу с Магистром Восточного Крыла Ордена Тамплиеров. Инструментарий был хорош, однако, казалось, плоть юноши действительно тверда, подобно камню. Впрочем, именно это обстоятельство и спасло ему жизнь – железные мышцы не пропустили кончик кинжала до сердца, клинок увяз в жестких мышечных волокнах под левой лопаткой. Хотя удар был нанесен мастерски. Врачуя стольких солдат на этой бесконечной войне, монашка научилась оценивать качество смертоносных ударов оружием. Если бы не яд, она была бы уверена, что юношу можно спасти. Сейчас же ее попытка казалась обреченной, лишенной надежды, а значит, и смысла. И всё же для нее сама эта попытка и была смыслом. Вся ее предыдущая жизнь, страдания, унижения, казалось, вели к этому наиглавнейшему делу в ее жизни – спасению сарацина с лицом падшего ангела.
Надрез удался, но кровь из него пошла темная, густая и быстро сворачивалась. Яд слишком долго был в его теле, поняла она, вывести кровопусканием – безнадежная затея, можно лишь попытаться лишить его смертоносного воздействия, введя противоядие, но... Она не знала ни того, что это за яд, и не могла позволить себе роскоши искать в этом городе, охваченном войной, противоядия. Оставалось единственное средство. Средство, к которому бывшая монашка Ордена Святой Магдалины не прибегала с тех самых пор, как разделила судьбу своей святой.
Бывшая монашка подошла к стене с распятием, встала на колени и принялась молиться. Поначалу слова «Glorium Dei...» давались ей с трудом, как ей казалось, не желая ложиться на язык, оскверненный грехопадением... грехопадениями... Ужасные, и в то же время сладостные, полные греховного наслаждения, воспоминания внезапно накрыли ее, лишив сил и самого права обращаться к Богу. И тогда, словно спасение Христово, подобно свету утра, пришли другие слова. «Ave, Maria! Regina...» – Она словно не говорила, но пела, как колыбельную всем уснувшим-умершим в этой комнате, включая девочку, что умерла внутри нее в ту ночь в пустыне. Молитва лилась из ее уст, не прерываясь, до самого конца, и в тот самый миг, как губы ее, обессилевшие, бледные, почти неслышно прошептали завершающее «Amen!», раздался женский крик. Крик, как птица, выпущенная из клетки, вырвался из чьей-то груди и, подобно птице подбитой, захлебнулся собственной же кровью из перерезанного горла – осаждающие вошли в город, и резня жителей на улицах Иерусалима началась.
«Мама!» – подумалось или сказалось? Сейд ничего не понимал, не видел, не чувствовал... он только слышал... и услышал – женский крик. Похожий крик он слышал лишь однажды, тогда, в пустыне, когда на оазис Шюкр Аб – Вода Благодарности, напали крестоносцы, и мать бежала в пустыню, и последний ее крик такой же умирающей птицей вылетел из-за дюн. Только на этот раз почему то показалось... будто мама-птица холодным, ласковым орлиным когтем царапнула по бесчувственному камню гор Аламута... этим камнем был он сам... а еще – он был песком... ветром... кровью... Кровь! В его крови было достаточно яда скорпиона – ведь он сам был пустыней. Он вводил в себя этот яд несколько лет подряд, приучая тело... Кто-то вытащил из камня сталь клинка, как в сказках про доброго христианского короля, искавшего Чашу. Эти сказки рассказывал Магистр... Магистр! Тот, кто называл его «Сын мой!». Мертв!.. Крестный отец убийцы умер на руках своего крестного сына, потому что тот отказался убивать... Мама!.. Мертва! Убита орлицей в горах, жертвой охотников с крестами в пустыне, потому что он был убийцей, потому что он был слаб... А значит – сейчас он не может умереть. Он должен жить, чтобы оплатить этот долг всем, кто умер из-за него. Сейд принял решение не умирать. Для крещеного убийцы наступало время начинать свой джихад!
AD LIBITUM – ЛЕТОПИСЕЦ
«История не должна терпеть имен человеческих, ибо всё в ней происходящее есть суть промысел Божий, и ничтожны воистину потуги человеческие в стремлении производить в ней изменения, несообразные таковому промыслу!» – так писал в своих хрониках шевалье из далекой земли франков, гасконец родом из Бурдейля, назначенный правителем Египта своим хроникером на то время, что пребывает он и его подопечная в армии Айюбида на правах... почетного гостя ли, пленника ли? Уж скорее, пленника, решал француз, потому как понимал, что покинуть лагерь Льва Пустыни ему в ближайшее время не суждено. Однако поручение этого благороднейшего из сарацин считал для себя почетным и даже в некоторой степени приятным, поскольку всегда питал склонность к изящной словесности. Верно будет сказать, не столько к хроникам и летописным текстам, сколь к литературе светской еще в бытность свою послушником при аббатстве, вызывая тем самым недовольство монахов своей приязнью и предпочтением пергаментам с Апулеем, Петронием и Овидием, нежели к Цицерону, «Житиям...» и прочим текстам, причисленным святыми отцами к каноническим. Впрочем, к Плутарху юный гасконец также проявлял в годы послушничества почтение и потому в ведении хроник Саладина, как его именовали среди крестоносцев, придерживался штиля его «Жизнеописаний...».
Обмакнув перо в тушечницу, шевалье продолжил: «Однако есть и средь сынов Адама исключения из сего правила, кои, несомненно, отмечены благодатью ли Божьей, или проклятием Его – ведомо то лишь потомкам, ибо имена их сохранятся на лике Истории, подобно литерам, вписанным в сию Вселенскую Книгу всемогущей дланью Его. При мысли сей подразумеваю я не пророков, кои, несомненно, есмь суть явления Воли и Слова его средь людей, но личностей светских, чьи деяния, однако, явственно отмечены знаком воли Господней. Так вписались в Историю Александр и Цезарь, Аттила и Карл Великий, могучий предок королей французских, положивший начало роду Меровингов. И, мнится мне, что подобно тем, кого я означил выше, останется имя и того, кого христиане именуют Саладин, поскольку деяниями своими меняет он Историю по воле Божьей, быть может, и сам того не осознавая, ибо, будучи магометанином, не принимает божественного происхождения Господа нашего Иисуса, не отказывая, однако, тому в звании Пророка. Следует разъяснить само имя этого благороднейшего из сарацин, ибо что, как не имя, способно сказать многое о человеке?! На языке сарацин именуется он Салах-ад-Дин, что переводится как «праведнейший средь магометан»... во всяком случае, настолько уразумел я исходя из своих скромных познаний в языке арабов, кои и меж собой не всегда ясно изъясняются, поскольку различаются множеством диалектов и наречий... Впрочем, ежели считать сие за грех, то грешим этим и мы во Франции, поскольку зачастую невозможно благородному гасконцу уразуметь речи какого-нибудь бретонского пикинера, чему я сам становился жертвой в своем походе с Господином Моим сенешалем...» Написав последние строки, шевалье вдруг остановился, задумался, затем решительно вымарал написанное – хроники могли прочитать множество людей, более того, предполагалось, что их будут читать потомки из разных стран... Во всяком случае, об этом втайне мечтало тщеславие в душе юного франка. И патриотизм, живший в той же душе, не желал предоставлять вниманию потомков хоть сколь-либо обидного в отношении своих соотечественников... даже если они не гасконцы!
«Саладин ведет свою армию к Иерусалиму. Средь сарацин говорят, что город подвергся нападению христианских отрядов-крестоносцев, однако сие мне кажется сомнительным, ибо город и так находился под властью христианского короля, так зачем же христианам брать его штурмом? Однако Саладин весьма разгневан и неоднократно молвил как на военных советах, так и в беседах своих, что ежели обнаружит смерть и грабежи магометан иерусалимских, то кару проявит жестокую. Зная, что помимо короля иерусалимского, град надежно защищен волею могучего и мудрого Магистра тамплиеров, хранящего мир в городе промеж христиан, иудеев и магометан, возможность таковых событий кажется мне сомнительной...» – писал далее шевалье.
«Ужас и печаль пронзают мое сердце христианина при виде содеянного братьями по вере в сем священном граде! Саладин намерен был вершить жестокую кару над христианами, однако со стыдом в душе должен признать, что благородство сего мужа превзошло равных ему по званию средь христиан. Ибо, как и обещал он при взятии града защитникам его, за сдачу дозволяет он всякому христианину покинуть Иерусалим живым, с семейством и добром, и, собравшись караваном, следовать до земель, где будут они под защитой христианских правителей, ибо Иерусалим отныне под властью сарацин. И обещал Саладин, что не велит войскам своим чинить вред и разбой этому каравану, дозволив беспрепятственно пройти чрез пустыню. Однако средь солдат армии сарацинской уж ходят разговоры, что дана весть родичам воинов, служащих в армии Саладина, о караване этом, и вольные племена пустынных кочевников, не связанных клятвою Льву Пустыни, будут совершать на пути их набеги на караван, дабы вершить месть, грабеж и брать христиан в рабство. Уповаю я, что те из воинов христианских, что уходят в путь с караваном, будут благословлены Господом, укрепят дух свой в дороге и защитят жизни христианские на их тяжелом пути к дому. Ибо в путь вместе с этим караваном благороднейший из сарацин дозволил отправиться и мне, вкупе с протеже моей и ее дитятей, в чьих жилах течет благородная кровь королей франкских. И намерен я в целости и здравии доставить сию галантную даму и сына господина моего сенешаля во Францию, и да поможет мне в этом Бог, Аминь!»
Шевалье закрыл тушечницу и посыпал песком лист пергамента. Для него хроника дней, проведенных рядом с благороднейшим из сарацин, завершилась. Самому себе порой признавался шевалье, что предпочел бы излагать в записях своих не столько ужасы и смерти, сколь любовные страсти и томления, не суровых мужей войны, но галантных дам... Но юному шевалье, представителю рода Де Бурдейль и воспитаннику монахов аббатства Брантом в этом его желании не повезло – помимо одной-единственной прачки, ставшей матерью возможного королевского наследника французского трона, ни галантных, никаких прочих дам в армии «праведнейшего средь магометан» и «благороднейшего из сарацин», не было... Время «галантных дам» еще не наступило.
IV. ИГРА АКЫНА – РОНДО ОРЛИНОЙ ГОРЫ
Лев Пустыни смотрел на огонь походного костра и хмурился. Ухо его раздражала игра на домбре того, кого все называли Кипчак-Акыном. Шпион и личный друг Праведника Веры извлекал из своего степного инструмента резкие, повторяющиеся звуки. Такие же резкие, повторяющиеся мысли крутились и в голове у его повелителя. Осаждать крепость исмаилитов в горах Аламута его отговаривал и верный Кипчак-Акын, и прочие советники из шейхов союзных кланов. Однако Старцу следовало преподать урок! То, что Магистра убили гашишшины Старца, было ему достоверно известно. Тайный союзник стал действовать на руку врагу, потому что смерть Магистра была выгодна лишь тем из крестоносцев, кто жаждал войны с Египтом, а еще – Риму. Риму не нужен мир на этих землях. И глава гашишшинов совершил ошибку. Он, Лев Пустыни, должен окоротить обезумевшего от дурманной травы Старца, чей джихад пошел путями крови, и проливать ее опять будут как христиане, так и эхли-муслим.
Лев Пустыни смотрел на огонь и понимал бессмысленность того, что затеял. Взять приступом Крепость – всё равно что штурмовать эти горы. Орлиная Крепость была не просто построена в горах Аламута – она была частью их. Оставалось одно – осада. Семь полных дней и ночей стояла армия у подножия горы, пытаясь перекрыть доступ к Крепости и от нее... Бессмысленно! Провизию Старцу всё равно доставляли тайными тропами, хотя верный Акын и попытался проведать о большинстве из них. Перекрыть всё не удавалось. А еще в армии нарастал страх. Старец умел воевать не только кинжалом убийцы-гашишшина. Неуловимые шпионы из его исмаилитов распространяли самые жуткие слухи об этом человеке. Федаины Льва Пустыни против федаинов Старца – держались... пока – держались, но союзников среди шиитских племен Праведник Веры потерял. Если так и дальше пойдет, то вскоре вместо одного врага – крестоносцев, эхли-муслим начнут враждовать еще и между собой. Такое будущее пугало Праведника Веры, жившего мечтой вернуть мир на эти земли. Причем мир не только для эхли-муслим, но для всех эхли-Китаб, народов Книги, верующих в единого Бога, да славится Имя Его!
Лев Пустыни смотрел на огонь, когда его мысли прервал федаин из племени Алеви – личный телохранитель и старый соратник, курд родом из Диярбакыра, который, по словам Акына (а Акыну Салах-ад-Дин верил!), шпионил для Старца. Именно по этой причине Лев Пустыни держал его при себе, строго выверяя и тонко выдавая те из своих тайн, которые хотел донести до ушей своего старого тайного союзника, а ныне – явного врага. Федаин привел с собой двоих – того, кого Акын называл Сейдом, хотя тот и носил на груди крест и называл себя христианином, а еще – монашку из христиан. Об этой монашке говорили разное, но эти двое были неразлучны. Оба считались почетными пленниками Праведника Веры после взятия Иерусалима. Собственно, их и нашел-то сам Акын... Чтоб шайтан его побрал, да сколько же можно терзать струны?!
В Иерусалим Салах-ад-Дин пришел поздно. Город уже был взят крестоносцами, и его пришлось осаждать и штурмовать три дня, пока жители сами не открыли ему ворота. Король Иерусалимский, грезивший войной с Египтом, умер, так и не увидев Каира. Умер и странный человек, знавший ислам, но ставший Магистром Восточного Крыла Ордена Тамплиеров. Когда Салах-ад-Дин вошел в город, он велел Акыну найти Магистра. Однако тот нашел лишь этих двоих – тяжело раненного юношу и ухаживающую за ним монашку. От них Акын и узнал про смерть Магистра от рук гашишшинов. Юношу и монашку он привел ко Льву Пустыни, и тот приказал содержать их вместе с двумя другими почетными пленниками – франком и рыжеволосой женщиной, выносившей и родившей ребенка, в чьих жилах текла кровь королей франков. Оказалось, что монашка и рыжая знакомы между собой. Однако встреча их длилась недолго – Праведник Веры дал слово, что отпустит и франка, и рыжую сразу же по прибытии в Иерусалим. И потому, захватив город, он сдержал обещание, позволив этим двоим уйти вместе с остальными христианами, пожелавшими покинуть Иерусалим. Таково было его обещание защитникам города. Свои же обещания Лев Пустыни сдерживал всегда. Например, данное в сердцах обещание наказать Старца за смерть того, кто мог остановить крестоносцев, и спасти жизни тысячам эхли-муслим в Иерусалиме...
–Я должен идти! – сказал юноша. Он стоял прямо, смотрел твердо, и речь его была ровной и гладкой, как сталь кинжала гашишшина. Федаин нахмурился – он считал одним из признаков верности показное недовольство дерзостью тех, кто осмеливался непочтительно говорить с его повелителем. А теперь хмуриться пришлось еще больше – вперед вышла монашка и без всякой почтительности, причитающейся женщине, заявила:
–Вы не должны ему разрешать! Он еще слишком слаб!
–Я знаю, что смогу... справлюсь, Малейка! – мягко, терпеливо и с какой-то удивительной нежностью в голосе сказал юноша, посмотрев на монашку.
Лев Пустыни с интересом посмотрел на них. Он называет ее Малейка – Ангел?! По утверждению Акына, этот юноша, почти мальчик, когда-то был лучшим гашишшином, любимейшим учеником Старца, покинувшим его и принявшим крещение от самого Магистра. Среди этих двоих не было зи’на – греха внебрачного соития, да и по христианским законам, вроде бы, он не мог позволить себе плотской любви с монашкой. Впрочем, эти христиане так часто нарушают свои же законы. Как и многие из эхли-муслим, жестко напомнил он себе. Юноша был ему нужен, потому что знал многое, если не всё, о Крепости Старца. Монашка же была нужна юноше. Так и дошли они с ним сюда, до самого подножия Аламута. Однако Сейд отказался выдавать дорогу к Крепости. Сказал, что сам пойдет туда, вернется и приведет с собой Старца. Когда будет готов. Видимо, этот час наступил. Раздался резкий звук... Раздражающая игра на степном инструменте прекратилась. Ну, наконец-то, он порвал на своей домбре струны! Только почему он идет к костру и так довольно ухмыляется?..
Час наступил! В жизни должен быть смысл! Всю свою жизнь он находил смысл в своей работе, и в своем служении. Этот человек, воспитавший его и подаривший ему первый смысл, лишил его смысла второго. Но нельзя ходить на одной ноге, и жить без служения – тоже нельзя. Он чувствовал себя обманутым. Тот, кого он считал Учителем и Отцом, поступил жестоко не только с ним. Та резня в Иерусалиме – в ней погибло много первохристиан, тех, кто приютил и прятал его в своих пещерах под Голгофой долгое время. Погибли их жены и дети, и всё потому, что крестоносцев, пришедших грабить город, некому было остановить. Погиб и его ученик, его надежда, тот, кто должен был продолжить великое дело Абу Сины, тот, кто спас ему жизнь. Это он, юный потомок кочевников, избранный в ученики Палачом, решившим воспитать из него целителя, – спас Железного Копта в ту ночь, когда произошла встреча Джаллада-Джаани и Сабельника на Голгофе. Ученик пришел вовремя, как раз тогда, когда из Башни слез ушли все – воины Тампля, торопившиеся вслед за Сабельником, Сейд, спешивший к Муаллиму... Он нашел Железного Копта, истекающего кровью, но живого. Сталь вошла в брюшную полость, пройдя мимо печени, совсем рядом, но – мимо. Потому что Железный Копт и не хотел умирать. Самоубийство – смертный грех! Целитель волею Бога, ученик смог вовремя остановить внутреннее кровотечение, проведя быструю и аккуратную операцию прямо там же, на полу пыточной, где он нашел своего наставника. Убедившись, что Копт будет жить, он забрал того к первохристианам, укрыл в их тайных катакомбах, ухаживал за ним... И отдал свою жизнь за клятву язычника-целителя Гиппократа в тот день, когда крестоносцы вновь ворвались в Иерусалим. Ученик Палача пытался помогать раненым, стараясь спасти столько жизней, сколько сможет... И погиб под обвалившейся частью городской стены, рухнувшей от попадания камня из требушета. Железный Копт мог себе представить и первые дни часто представлял, как погиб его любимый ученик. Наверняка он лечил кого-то из раненых. Может быть, даже одного из тех воинов, что штурмовали город. Для него, юного туркменского мальчика, от которого ожидалась жестокость, была важна любая жизнь. Скорее всего, он даже закрыл собой, своим еще не окрепшим отроческим телом, своего больного. Он так и называл тех, кого лечил – «мои больные». А Железный Копт называл его – «мой смысл жизни». Порою он понимал, что в его чувстве к этому отроку кроется, возможно, нечто постыдное, но мысли эти гнал от себя, ибо мужеложство есть грех недостойный и отвратительный, его же любовь к ученику была чиста, и сама по себе была смыслом жизни стареющего палача... Эта чистота окрасилась в цвет крови и пыли разбитых стен и домов Иерусалима... Этот смысл – самый важный, единственный после потери веры в Муаллима и в Хозяина смысл жизни – погиб в день штурма Священного Города.
И тогда он придумал себе новый смысл. Учителя и Отца нужно убить. Вспомнив лица убитых в Иерусалиме, вспомнив потоки крови на улицах и запах горелой плоти из церкви, в которой крестоносцы сожгли многих из первохристиан, пытавшихся не позволить им церковь разграбить, вспомнив близорукий от корпения в темной пыточной над трактатами Абу Сины прищур Ученика. Он мечтал исцелить мир и погиб, пытаясь спасти чужую жизнь... Вспомнив всё, тот, кого когда-то называли Железным Коптом, подтянулся на кончиках пальцев, перебросив огромное свое тело на скальный выступ.
Он пришел сюда из Иерусалима, следуя за войском Салах-ад-Дина. Его прятал и ему помогал Акын – тот, кто не раз приходил от Учителя с различными указаниями... тогда еще, в те времена, когда у жизни было два смысла, а мир был целым, как пасхальное яйцо. Это он узнал Копта, увязавшегося за армией Салах-ад-Дина, но не выдал, напротив, скрыл и содействовал всю дорогу, узнав, зачем он идет в Аламут. Снабдил подробными указаниями о расположении Крепости и тропинках к ней и даже пару раз отправлял с провизией для осажденных обитателей Крепости по специальным тайным тропам, чтобы Копт изучил дорогу и входы в крепость. Всё равно, кроме самого Учителя, да мальчишки-сейда, медленно выздоравливающего в лагере под присмотром монашки покойного Сабельника, опознать бывшего палача короля Иерусалима никто не мог. И хотя Учитель и готовил из него Мастера искусства джаллада (палача), позже, решив использовать и как шпиона, обучил и основным навыкам джаани (убийцы), которые сам узнал в далеком Наньцзине от своих учителей. Все эти познания пригодились сейчас! Еще десять таких переходов – быстрых, бесшумных, там, где, как думают сами защитники Крепости, никому не пройти, – и он будет на месте...
Акын сказл: «В урочный час я порву струны на своей домбре. Ты поймешь, что настало время идти. Иди же и сделай то, к чему лежит твоя душа!» Душа Железного Копта молчала. Говорила пустота – та, которая появилась, когда исчез второй смысл. Когда умер его Ученик. И пустоте этой хотелось убить Учителя. Пустота помогала слышать шорохи дозорных на стенах Крепости, словно вросшей в эту гору... Говорят, когда-то здесь водились орлы, но потом почему-то исчезли. Это радовало Копта – случайно наткнуться на орлиное гнездо, чтобы потом подвергнуться нападению этих жутких птиц, ему вовсе не хотелось.
Копт добрался, наконец, до входа в крепость. Здесь, как правило, всегда на страже десяток гашишшинов – спрятавшихся, конечно же, по всем щелям и готовых нести невидимую смерть всякому, кто посягнет на неприкосновенность их дома. Копт не зря прозывался «железным» – он собрался ждать. Они пошевелятся, обязательно пошевелятся, и тогда он узнает, где они... Узнав же – сможет добраться и убить раньше, чем они доберутся до него. Главное, чтобы они пошевелились...
Эх, видать, и вправду Учитель ослаб сильно! Долго ждать не пришлось – гашишшины у входа почти не умели таиться, да и драться – умели почти. Акын был прав – первые, лучшие ученики, погибли, пытаясь убить Магистра... Не все, конечно! Те, что остались, выполняют важные задания, приносящие Орлиному Гнезду золото. И потому само Гнездо – Крепость Старца – нынче под защитой многочисленных, но – недоучившихся джаани, рядом с которыми даже джаллад Копт – мастер! Качество перешло в количество, а это – верный путь к вырождению. Так когда-то говорил сам Учитель... и сам же пошел по пути этой ошибки. Первый из десятка умер от остро отточенного по краям полумесяца – эту форму метательного ножа когда-то придумал сам Учитель и научил Копта. Последний из десятка закончил жизнь в его руках, задушенный. Так Копт убивал еще до того, как познакомился с Учителем. Убил и подумал – мы оба с тобой, Учитель, идем назад, от утонченности мастерства – к простоте достижения поставленной цели. И теряем на этом пути и саму цель, и самое главное – смысл...
...Смысла в происходящем Сейд не видел. У входа в крепость он обнаружил десяток трупов – четверо убиты метательными ножами, причем в форме полумесяца. Такие делал сам Учитель. Что же, он сам убивает своих? Или кто-то из первых учеников? Остальных убили голыми руками, сворачивая шеи или просто задушив, как этого, совсем еще теплого. Но задерживаться не след, надо идти в покои того, кто называл тебя – «Сын!», кто научил всему и предал всё, чему учил!
Монашку он оставил в лагере, но знал, что она – его Малейка, ангел – хранит его, и потому был уверен. Он знал, что не будет убивать – эту заповедь он ценил превыше всего, ведь за верность ей было заплачено жизнью Нового Отца... отца Крестного... Магистра! Его джихад – вне смерти. Его джихад – во имя жизни. Так решил Сейд, и так должно быть, пока с ним – его Малейка!
Руки, подобно крыльям орла, – в стороны, кончиками пальцев по основаниям шей... С двух сторон упали без сознания атаковавшие Сейда воспитанники Орлиного Гнезда, юные, необученные, с отравленными кинжалами, такими бесполезными теперь в обессилевших руках... Гашишшины? Их боятся повсюду, ими пугают друг друга крестоносцы, словно малых детей – сказочным ифритом? Недоучки! Это всё из-за золота. Оно отравило школу, как яд скорпиона. Ибо золото – это власть, а власть и есть яд скорпиона! Так говорил Учитель по дороге на Иерусалим, тогда, когда они шли на бой с Сабельником и где он потерял свои ноги. Муаллим, что же ты сделал со смыслом своей жизни? Во что ты превратил свой джихад?! Свой... арх-х-х!.. С глухим полустоном ли, полурычанием, с лестницы упало чье-то тело, и Сейд убедился – кто-то еще вошел в Орлиное Гнездо. Этот кто-то, в отличие от него, несет смерть бывшим собратьям Сейда по Гнезду... кто-то, идущий в покои Муаллима и, судя по трупам на его пути, не соблюдающий заповеди – «не убий!»... И этот кто-то – опережает Сейда.
В покои Муаллима Сейд входил, уже зная, что опоздал. Что идущий впереди него враг Гнезда уже там. Он очень надеялся, что Муаллим, несмотря на свое увечье, всё еще тот Джаллад-Джаани, который и без ног сумеет постоять за себя.
Железный Копт знал, кого он собирается убивать. И он ни на миг не сомневался в том, что Учитель убьёт его прежде, чем он хотя бы на шаг приблизится к нему. Потому приготовил порошок зяхра — маленький кожаный мешочек, который надо лишь сдавить пальцами, и смертоносная пыль вырвется наружу, неся мгновенную смерть всем вокруг. Это – не самоубийство, успокаивал себя Копт, это – война, и я давно уже мертв, как воин, пронзенный копьем врага, и на последнем издыхании вонзающий свой меч тому в горло.
Мешочек с зяхром был в руке, наготове, но увиденное настолько ошеломило его, что он позволил себе задержаться лишь на миг. Этого мига хватило – словно выкованные из дамасской стали, пальцы Сейда жестко коснулись железа мыщц руки Египтянина... сталь победила железо, мышцы онемели, мешочек вывалился из пальцев, чтобы оказаться в подставленной ладони Сейда. Даже не позволяя себе думать о том, что это, Сейд вышвырнул мешочек в узкое окно, развернулся в сторону Муаллима, чтобы упредить атаку с его стороны... и тоже замер.
Старец горы Аламут, основатель Орлиного Гнезда, тот, за кем пришли двое его учеников, сидел на коврике и курил свойкальян. Вода в хрустальном кувшине кальяна издавала неприлично громкие булькающие звуки... но звуки, которые издавал Муаллим, были еще неприличнее. Казалось, будто все демоны джаханнама устраивают праздник в тощем горле этого сухого, почти прозрачного старика, и праздник этот вырывается наружу безумным смехом, подобным скорее кашлю. Но еще безумнее и страшнее были глаза Учителя! Потому что Муаллим не просто смеялся. Он при этом еще и плакал.
–Мои... кха!.. мальчики... вернулись ко мне... дети мои... сыновья... Железный... кха!.. Орленок!..
Египтянин и Сейд одновременно отвернули взгляды от Учителя и посмотрели друг на друга. В глаза. Левая рука у Копта все ещё была парализована, но бывший палач помнил этого юношу и понимал – кинжал в правой руке даже не коснется того, а он уже будет мертв, так и не исполнив своей мести. Впрочем, кажется, что и молодой джаани пришел сюда не Учителя своего защищать. В Иерусалиме ходили слухи, которые дошли и до подполья первохристиан – слухи об удивительном юноше, крестнике самого Магистра Тамплиеров. Магистр убит, и сделали это гашишшины, а значит... значит, у них, возможно, одна и та же цель.
Сейд, словно прочитав мысли Египтянина, чуть заметно покачал головой. Губы беззвучно прошептали по-арабски – л’а! Значит – нет! И тут же, чуть слышно, добавили – «он нужен мне живым!». Бывший палач короля Иерусалимского, последний ученик-джаллад, согласно кивнул. Железному Копту подумалось, что он понял юного джаани: «Ну, конечно! Учителю полагается дар настоящей смерти истинного джаллада – через Матери Истины – боль! Он хочет его пытать и свершить месть, не потеряв чести Ученика! Так, как когда-то сам Учитель подарил смерть своему воспитателю и приемному отцу! Как я мог забыть об этом?! Воистину, передо мной лучший ученик великого джаллада-джаани, и мне должно помогать ему!» Сиплым голосом человека, не привыкшего уже давно что-либо говорить, Железный Копт сказал:
–Тебе понадобится моя помощь. Я с тобой.
И, словно подтверждая мысли палача, юный гашишшин согласно ответил:
–Хорошо. Пойдешь со мной. Муаллима надо будет нести.
Египтянин кивнул. Они оба двинулись к Старцу, но остановились, когда тот внезапно перестал смеяться и заговорил:
–Зачем вы пришли сюда, мои мальчики? Чтобы убить своих братьев? Ты помнишь, что они – твои братья по гнезду, Орленок? Или чтобы убить меня? Приобщить меня к смерти через Матерь Истины, мой железный ученик-джаллад? Ты собираешься пройти мой путь, повторить мои подвиги и мои ошибки?..
–У тебя нет подвигов, Муаллим! Только – ошибки! – Голос Сейда звучал спокойно, хотя оновременно с этими словами левой рукой он схватил за рукоять влетевший в комнату из открытого дверного проема кинжал, и сразу же после, ударом локтя в центр лба, обрушил на пол влетевшего вслед за кинжалом гашишшина в серой маске. – Там, внизу, тебя ждет Салах-ад-Дин. Он хочет говорить с тобой...
–Говорить со мной? Кха-ха!.. – Старец вновь принялся безумно смеяться. – Говорить... кхе-х-ха... со мной... хр-р-ра... И ради этого великий Лев Пустыни пришел сюда со своей армией? Только чтобы говорить со мной? Ты, Орленок, ни о чем не знаешь, и тобой вновь играют на своей доске те, кто старше и мудрее. Узнаю игры Льва Пустыни, еще – моего старого друга... земляка... Это ведь Акын помог тебе добраться до меня, Копт?
Старик переводил взгляд с лица изумленного Египтянина, на, казалось, отрешенное лицо Сейда и обратно, и в подернутых старческой пеленой глазах безумие сменялось остротой и проницательностью взора того мудреца, каким они его знали когда-то. Джаллад-джаани вновь сидел перед ними, и человек этот был снова так же опасен и непредсказуем, как и десять лет назад. Несмотря на отсутствие ног. Джаллад-джаани пристально смотрел на Сейда, прямо, в глаза, как когда-то, обучая искусству правильного дыхания или проверяя на точность и сосредоточенность удары своего будущего лучшего гашишшина. И заговорил таким же голосом:
–Праведнику Веры нужны мои убийцы. Чтобы остановить войну, он хочет смерти того, кто сидит на престоле христианского святого, того, кого они считают наместником Исы, да славится имя Его, на земле. А еще он хочет, чтобы умерли король франков и его племянник, младенец трех лет от роду, единственный наследник франкского трона. Потому что Салах-ад-Дин уже отправил в их земли женщину, родившую в его лагере ублюдка от того, кто возглавлял армию крестоносцев, погибшую недавно в пустыне. Если бы у христианских паломников был обычай женитьбы сыйгях – этот мальчик тоже считался бы сейдом, Орленок! Тебе не смешно? И верно, ничего смешного тут нет. Ты же теперь христианин и понимаешь, что такое грех убийства, запрещенного пророком Исой, да славится имя Его? Ради мира на этой земле Праведник Веры хочет пустить под нож младенца и его дядю-короля, чтобы между ублюдком и троном не было иных наследников, потому что основу армии крестоносцев составляют франки. Воспитывать же нового короля должен франк, сопровождающий рыжую распутницу, его мать, тот, кто обязан Льву Пустыни своей жизнью и верит в его рыцарскую честь. Зачем убивать того, кого христиане называют Папой, – объяснять, думаю, не надо... У Акына же своя игра. И мысли его я читаю, как свои собственные... он ведь тоже, как и я, кипчак, из рода Бериш. Такие, как он, живут войной, считают ее смыслом своей жизни и, кроме всего прочего, приобретают войной богатство и власть. Акыну не нужен мир. Акыну нужна моя смерть. И поэтому он не довел до Салах-ад-Дина мой ответ. Я согласился исполнить просьбу султана Египта и надежды эхли-муслим на этих землях, и отправил двоих своих лучших учеников-талибов, одного в землю франков, второго – в Рим. Я даже отказался от золота, предложенного мне за эти убийства, потому что хотел искупить ошибку с убийством твоего крестного отца. Да, мой мальчик, я признаю, что это была ошибка! Приказ убить Магистра был доставлен мне от имени Льва Пустыни самим Акыном. Я поверил и исполнил... Так что вас обоих в который раз опять использовали! Ты, Копт, должен был убить меня. А Сейд... тебя, Орленок, в игре Акына не было. Тобой играл сам Салах-ад-Дин, и ты расстроил игру кипчака, помешав Копту убить меня. Что там было в мешочке? Зяхр? Он убил бы нас обоих. Разве самоубийство не противно твоей вере, Копт?