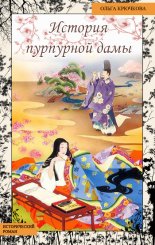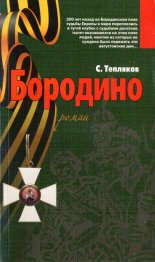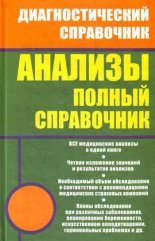Notice: Undefined variable: contentRead in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 681
Notice: Undefined variable: row in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 719
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 719
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―

ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―Kawasakiïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?.. ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―?! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―-ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!!!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―?! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―Ņŧ ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―-ïŋ―-ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―?! ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!!!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―Barbarescoïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―Barbarescoïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―Barbarescoïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―-ïŋ―-ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?!
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―!
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ß ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!.. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!.. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?!
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―Kawasakiïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―Kawasakiïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.