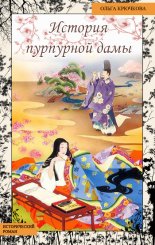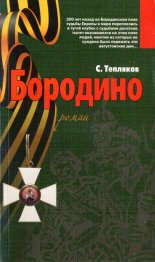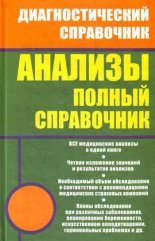Умышленное обаяние Кисельгоф Ирина

Саша
Моя мать умела мечтать, я узнала об этом случайно. Она была скрытной; я, пожалуй, в нее. Мы увидели Венецию по телевизору, и я навсегда запомнила ненастную, сумрачную страну. Пасмурное небо, косой дождь, хмурые дома, свинцовая вода по колено, люди в прозрачных дождевиках и синих полиэтиленовых пакетах до бедер. Вода разлилась по улицам, ее не ждали. Редкие прохожие, пустые дворцы, узкие ленты тусклых каналов, промозглая сырость. Венеция казалась отстраненной и печальной, но все же она была прекрасна. Такие лица запоминаешь сразу, потом они снятся ночами. Неприветливая Венеция похожа на мою мать.
– Как бы мне хотелось туда попасть, – сказала она тогда.
Ее глаза были сухими, в голосе тоска. Она предчувствовала: ей там никогда не бывать. Сейчас я поняла – мне тоже. Я всегда сожалею о том, что прошло, и жду того, что будет. А может, я тоскую по тому, что никогда не случится… Наверное, так, хотя я привыкла думать иначе. Но все же я скорее счастлива, моя мать – нет. Мне остается надежда, ей – уже ничего.
Меня приучили ждать что-то особенное.
– Хочешь узнать нездешние, жаркие края? – спросил Володя, мамин двоюродный брат. – Прямо сейчас?
– Да!
Он взял бабушкин веер и отломил тонкую резную пластину от опахала.
– Что ты делаешь? – испугалась я. – Мама будет ругаться.
– Вали на меня, – засмеялся он. – Все равно им никто не пользуется. Закрой глаза и рот.
Он чиркнул спичкой, желтое пламя лизнуло обломок.
– Шурка! Глаза закрой!
Я зажмурилась и почувствовала странный, ни на что не похожий запах. Он растекся в моих легких и остался в памяти навсегда вместе с рисунком небывалых алых цветов на пергаментном шелке веера. Так аромат нездешних краев сложился с запахами сандала и неотвратимого наказания.
– Нерон сжег в память жены драгоценный ладан. Весь Рим им пропах.
Я услышала голос Володи и открыла глаза. Он сидел, поджав под себя ноги. Как турок. На полу рядом с ним чашка жгучего, горячего кофе. Запах умершей женщины остался в истории надолго, в моей истории я помню Володю таким. От него я узнала, как чувствовать аромат кофе. Володя служил в торговом флоте и привозил его со всех концов света. Даже зеленый, очищенный. Мы сушили его и жарили до красно-коричневого цвета дерева ажига. Володя научил меня пить кофе с пряностями, и я увидела далекие страны, в которых он побывал, под ворожбу аромата размолотых в пыль и заваренных кипятком кофейных зерен и трав. Кофе и Володин голос стали моим волшебным фонарем. Вернее, калейдоскопом. Повернешь его – янтарно-голубая Балтика и остров Рюген, повернешь еще раз – бронзово-красный Тунис и руины Карфагена, еще раз – Молуккское море и радужная цепь островов. Чего еще желать?
От него я узнала об эфиопском пастухе Калди, что попробовал красных зерен кофе и стал счастливым. Может, поэтому я так люблю кофейную магию? Кофе – мой эрзац счастья? Или оно настоящее? А может, моя привязанность к запахам стала неволей?
– За какао-бобы можно было выручить немало рабов, – смеялся Володя. Это так?
Он готовил какао без молока и сахара, добавляя в него кайенский перец. Я хорошо это помню. Как в первый раз… Володя, смеясь, протянул мне дымящуюся кружку. Я отпила глоток, и чоколатль меня задушил. В неволе нечем дышать.
Володя рассказывал, меня ворожил его голос. Я и сейчас вижу пурпурные елочные шишки имбиря и его антропозооморфные корни. Я мысленно останавливаюсь, чтобы рассмотреть терракотовые папильотки корицы и морщинистую кожу мускатного ореха. Я узнаю маслянистые на ощупь, смуглые стручки ванили и четырехзубые бутоны цветков гвоздичного дерева. Моя жизнь скучна, пряности ее обостряют.
Володя был мечтатель, и он морочил мне голову – так считала моя мать. Она ворчала, он ее обнимал, его прощали, доставалось мне, но после его отъезда. Я так по нему тоскую… Так, что хочется плакать.
– Я веер сломал, – позже сказал Володя; я сжалась, мать равнодушно отмахнулась. За веер меня никто не бранил, но странный страх остался со мной навсегда. Теперь все мои мечты имеют запах с легким привкусом вины.
Я ловлю свои мечты в одиночестве. Моя мать всегда патологически боялась за меня. Она не ждет от будущего ничего хорошего – этот страх прилипает, его невозможно отмыть. Со времени школы постоянные допросы – кто звонил, что сказали, куда идешь, кто твои друзья? Я научилась укрывать свою жизнь от матери, потом это стало привычкой. С теми, кто меня провожал, я расставалась не у подъезда, а у глухого торца дома. В нем не было окон, в моей личной жизни – тоже.
– Ты меня стыдишься? – спросил один из парней.
– Нет, – неуверенно ответила я. Больше мы не встречались.
Мать уехала, моя жизнь изменилась, но не существенно.
Никто не понимает – ждать то, чего еще нет, означает ожидание того, что может никогда не случиться. Если, конечно, не проецировать в будущее прожитую жизнь со всеми ее ошибками. Но мое прошлое присутствует в будущем всегда. Значит, то, чего ждешь, обязательно произойдет. Нерадостная перспектива. Для меня.
Почему я жалею о прошлом, если в нем ничего нет? Привычка?
* * *
Я люблю кафе «Кофе без сахара», и ради него делаю крюк по дороге домой. Маленькое заведение спрятали на втором этаже огромного супермаркета, но его легко найти. Оно смешивает, нагревает и распыляет вихревые потоки запахов экваториального пояса. Запахи складывают карту мира, воображение осваивает его территории. Ты идешь по морям и континентам своей фантазии вслед за левантийскими, португальскими и голландскими моряками. Запахи взламывают границы, открывая страны в предвзятом, фантастическом свете. И неважно, если ты вычитал, что ибис – просто дикая птица; лотос – обыкновенный лук; Нил – рыжая вода; у пальмы вид хилой метелки, а нопаль – всего лишь кактус. Напротив, воображению хочется верить россказням арабских торговцев о тайных уловках и оберегах сборщиков ароматов, спасающих от гнева местных хранителей. Натуральные сухие духи стоят недешево даже сейчас, а в прошлом были дороже золота.
Я люблю «Кофе без сахара», но оттягиваю встречу, бродя среди полок с продуктами, укрывающими свой запах за герметичными упаковками. Меня манит предчувствие тайны, а не ее разгадка. Тайна щекочет ноздри своим неочевидным присутствием, нырнувшим вниз со второго этажа. Чем ближе кофейная лавка пряностей, тем сильнее ощущения. Я еще только иду к ней, а мое воображение уже пробует красные ягоды кофе вместе с пастухом Калди, чтобы сделать меня счастливой. И лишь на пороге кофейни я делаю вдох, горячий и жгучий, как глоток чоколатля с перцем чили, чтобы узнать, сколько стоит неволя.
Разгадка тайны сухих духов – испытание вкуса. Но разгадка вкуса – первая ступень, она отрывается от языка, как от ракеты, и уносит воображение к новым тайнам ядов и галлюциногенов, скрытых в сердцевине многих из них. Увлечение тайной рождает эйфорию и желание пробовать вновь и вновь. Страсть к неотсюдности вкуса играет настроением, памятью, меняет сознание и убивает чувства. Может, обесчувствие делает тайну дороже золота?
Кладовая кофе на втором этаже супермаркета – скромнее не бывает, ее стена у барной стойки оклеена дешевыми фотообоями. Узкая полоска белого песка, синий океан, три зеленые пальмы. И ни одного человека. Тропический остров без человека и кофе без сахара. Самое то.
Сегодня я заказала кофе по-турецки. В этой кофейне его готовят в песчаной бане, закопав медные джезвы в триста пятьдесят градусов по Цельсию. У такого кофе характер воинственного янычара, которому дозволена лишь одна слабость – любовь к экзотическим пряным духам. Ярость турецкого пехотинца вскипает пузырчатой пенкой и пахнет не только каленой арабикой, но и коричными палочками, гвоздикой, ванилью и кардамоном. Это трогает и восхищает одновременно. Я всегда улыбаюсь, смакуя вкус его ахиллесовой пятки.
В кафе есть пара официантов, но я заказываю кофе баристе, чтобы видеть, как трижды вскипает пенка. Если бариста схалтурит, я не почувствую паленой горчинки джавы, ее похоронят разогретые Цельсием специи. Чтобы поймать ускользающую гармонию, риходится ждать четверть часа у стойки, один глаз – на пенку, другой, к примеру, – на желтые, зеленые, оранжевые и голубые ликеры «Кюрасао». Апельсиновые корки, вымоченные в коньяке или роме, как нельзя больше подходят к фотообоям, где на маленьком антильском острове растут пальмы.
Я наблюдала за алхимией кофе, когда воздух, нагретый калорифером, покачнулся, пахнув натуральной кожей. Я скосила глаза – животный запах дубленой шкуры обернулся парнем. Под мышкой свернутая мокрая замшевая куртка, рукава свитера закатаны. Нос горбинкой, глаза прищурены, на смуглой коже руки видны редкие черные волоски. Парень разглядывал батареи бутылок неподвижно, точно целился. Бариста достал из песка джезву, и я услышала, как молния чужой куртки звякнула рикошетом о витринное стекло. Запах кожи исчез, заместившись привычными запахами кофейни. Я осталась, пенка должна подняться еще дважды.
– Ваш кофе, – бариста поставил поднос на стойку.
Я оглянулась в поисках, куда бы присесть. Свободных столиков не оказалось, свободных мест – предостаточно. Можно было остаться у бара, но я заметила парня с хищной горбинкой. Он сидел один за столиком и разглядывал толстую книгу. Я подошла к нему.
– Не занято?
– Нет. – Он бросил короткий взгляд и вернулся к книге.
Парень рассматривал нарисованную тушью утку. Я положила пальто на свободный стул и села, утка превратилась в зайца. Я наклонила голову влево, заяц обернулся уткой. Я перевела взгляд на другой рисунок, белка трансформировалась в лебедя, лебедь – в белку. Своеобразно.
Я всегда закрываю глаза, перед тем как попробовать кофе. Это включено в ритуал. Но сегодня не тот случай. Мне не повезло. В автобусах и ресторанах люди всегда выбирают одиночество без соседей. Я – не исключение. Удовольствие – интимная вещь, его следует искать без случайных людей. Хотя какая разница? Я закрыла глаза и вдохнула; гвоздика сложилась с резким запахом кофейных бобов и кардамона, закамуфлировав присутствие фальшивой корицы. Моего янычара стоило похвалить. Это опасный прием. Кассия дешевле, зато в ней полно кумарина. Можно и отравиться.
Любитель рисунков-хамелеонов был одет стильно, но его одежда выглядела скорее дешевой. Кроме черной куртки, небрежно наброшенной на спинку стула. Он кинул на меня мимолетный взгляд, но я успела обнаружить несоответствие. Его глаза были серыми и миндалевидными одновременно. Так нечасто бывает. По крайней мере, мне такого видеть не доводилось.
– У вас всегда ливень в феврале? – глядя в книгу, вдруг спросил он.
Я вспомнила пятна туши февральского ливня на его армейских ботинках и подумала – завтра уже весна. Смешно! Смена сезона ровно в четыре нуля.
– Я ноги промочил, – не поднимая глаз, улыбнулся парень. Это было так странно.
– Я тоже, – неожиданно для себя ответила я и тут же пожалела.
Я намеренно пришла в кафе получить свою порцию удовольствия без никого, незнакомца стоило отослать подальше, но вместо этого я зачем-то сказала: «Я тоже».
– Можно меню?
Я подвинула меню пальцем и отвернулась к трем пальмам. Они манили безлюдным пляжем в эпицентре февральского ливня. Я не люблю зиму, тем более нашу. В нашем климате она никогда не вырастает, оставаясь маленькой девочкой в детском чепчике из снежного кружева. В городе, откуда я родом, зима – крепкий, злющий мужик в толстой сугробной шубе. Он носит с собой фляжку, в которой булькают сорокаградусные морозы, настоянные на заснеженных крышах, мерзлых улицах и звенящем от мороза прозрачном воздухе. Здесь февральский коктейль пахнет кальвадосом из зимних яблок и отдает ароматом апельсиновых корок. Но все же он бодрит куда лучше коньяка. И неважно, что ноги промокают. Дома всегда есть горячий цейлонский чай и своя кладовая тропических запахов.
– Здесь нормальная еда есть? – я услышала чужой голос и очнулась.
– Здесь нет еды, она в кафе напротив.
– Тогда что вы здесь делаете? – Он снова улыбнулся, углы его губ натянули носогубный треугольник парусом.
– Пью. – Я почему-то вспомнила «Тамань».
Он оглянулся в сторону фастфуда.
– Это кто? На рисунке? Осел или тюлень? – спросила я.
– Иллюзии воображения. Не стоит с ними шутить, – ответил он, вернувшись ко мне.
– И почему же?
Я подняла брови, он улыбнулся. Его улыбка трансформировалась в кораблик с парусом. Я моргнула, улыбка исчезла вместе с корабликом. Точно, решила я. Никаких корабликов и в помине нет.
Из-под пальм вышел официант и появился у нашего столика.
– Две кружки глинтвейна.
– Все?
– Еще что-нибудь?
Человек, прибывший из мест, где не бывает февральских ливней, обращался ко мне. Я молча пересчитала пальмы. Пальм было все так же три, их искусственная листва глянцевела искусственным солнцем. Официант ушел, не дождавшись ответа.
– Не любите горячую воду?
– Только смотрю.
– Я понял. Ваш кофе остывает.
– Вы заговорили первым, – скучно ответила я. – Если вы заметили, мужчин здесь больше, чем меньше. Какая разница, за какой столик садиться?
Он замолчал, я стала смаковать пятку турецкого пехотинца, потянув пенку из фарфоровой чашечки. Мне не стоит раздражаться по пустякам, всегда можно прийти сюда еще раз. Я вдруг поймала себя на том, что не чувствую вкуса кофе, а просто пью. Меня беспокоило… Я украдкой взглянула на чужие руки, лежащие на столешнице, и поняла. Мое воображение заворожили черные редкие волоски на смуглых предплечьях. Они выглядели даже… Даже эротично. Какая чушь! Я отпила еще глоток кофе и перевела взгляд на фотообои. Две пальмы склонились друг к другу, одна из трех явно лишняя.
– Там всегда полдень… – Он смотрел туда же, куда и я.
– Хорошо.
– Скучно.
– Ваш глинтвейн, – официант поставил на стол кружки, их терпкий аромат убил запахи османского лучника и черной замши. Янычар сдался почти без боя. Жаль. Цена моего кофе не запредельная, но мне хочется думать, что его собирали с земли и шелушили серебристую шкурку вручную. Иными словами, лучше полковник-чорбаджи, чем его денщик.
Мы проследили за официантом глазами, он скрылся под приглашением в жаркое лето без сезонов дождей. Дверь за ним закрылась, отрезав путь к тропическим островам. Мне стало смешно и немного грустно. Маленькая, неприметная дверца чулана папы Карло вела к неведомым берегам. Надо только повернуть ручку, и перед тобой заплещется безбрежное южное море.
– За смену времени, – он придвинул кружку с глинтвейном ко мне и сложил губами кораблик.
Я снова вспомнила «Тамань» и повела плечами. Хамить не стоит. Перекинемся словами и распрощаемся. Я попробовала глинтвейн и поморщилась. Немецкое варево перемололо все вкусы и запахи в абракадабру, сохранив в сухом остатке только ром.
– У вас нет мобильника? – спросил он.
– А что?
– Мне нужно сбросить вызов. У моего батарея села. Это не займет ни времени, ни денег. Обещаю.
Я заколебалась, никогда не даю своих вещей посторонним.
– Это важно. – Его серые глаза сощурились, потянувшись к вискам.
Я рефлекторно отвернулась, мой взгляд заскользил по лощеной бумаге фотообоев и остановился на белой пене прибоя. Я вдруг попала в волну, застывшую копией южного моря вне времени и пространства. Прямо в море была вырезана дверца, где исчезали официанты. Магическая дверца захлопнулась, ключника не предвиделось.
Сотовый телефон вернулся ко мне прежде, чем я успела пожалеть. Но я никогда не давала своих вещей посторонним. Так странно.
– Вас как зовут?
– Александра.
– И в паспорте так же? – засмеялся он.
У него были мелкие белые зубы, совпавшие с горбинкой, смуглой кожей, миндальными глазами и животным запахом черной замши. Они вложились друг в друга, как матрешки. Но оставалось неясным, где сердцевина, начало или конец, разматывающие воображение. Чтобы увидеть, нужны параллели.
– А вас? – смеясь, спросила я.
– Марат.
Вот и конечная нота. У букета появилось настроение, но серый цвет радужки никак не встраивался в картинку. Я вдруг подумала о скандинавской обжарке конголезской робусты. Осло-тюлень. Что-то в этом духе.
– Где вы работаете? – спросил он.
– В больнице врачом, – нехотя ответила я. – А вы где?
– Нигде. – Он держал кружку длинными тонкими пальцами. Такие пальцы бывают у людей с синдромом Марфана.
– И на что вы живете? – без интереса спросила я.
– Подрабатываю понемногу. Еще по глотку глинтвейна? – Он смотрел на кружку, к которой я почти не притронулась.
– Нет.
Мне внезапно стало скучно. Смертельно скучно. Со мной такое бывает. Мы одновременно споткнулись на равностороннем молчании. Оставалось только слушать тишину, равную четырем нулям. Нужно было уходить.
– Мне домой, – решительно сказала я.
– Вы не допили свой кофе, – он улыбнулся, глядя в книгу.
– Не люблю холодную воду.
Я не взяла перчатки, мне пришлось засунуть руки в карманы пальто. В одном из них лежал клочок бумаги, на нем номер телефона и подпись «Марат». Я засмеялась. У сероглазого парня по имени Марат были волосы цвета кофейных зерен итальянской обжарки. Почти черные. Осло-тюлень – это забавно.
Марат
Есть то, что сшибает голову с ног. Меня выцелил круп зебры со стула у барной стойки. Черные полосы на белом фоне плавно обтекли седалище, сойдясь в два черных глаза на ягодицах. Я только вошел, как тут же споткнулся об их пристальный взгляд, глядящий в упор. Споткнулся и остановился. С чего мне померещился самец парусника на месте женщины, сидящей у стойки? Спица стрелой вошла в клубок ее волос и вынырнула назад перископической трубкой третьего глаза – черная склера и белый круглый зрачок. Перископ качнулся, взяв на прицел, – я подошел к стойке, чтобы увидеть лицо. Пришпиленная бабочка оказалась живой. Крылья ее носа дрогнули, и она повернулась ко мне. Ее скулы пылали румянцем. Невероятно! Но это выглядело… непристойным. Мое сердце екнуло – я не ждал, но попал, повелся на женщину, раздувшую ноздри, как зверь. Подсмотрел тайную, чужую охоту и внезапно понял: это желание должно стать моим.
Зебра шла к моему столику, движения ее бедер срисовывали черные полосы юбки. Рельеф ляжек, бесстыдно обтянутых африканской, травоядной шкуркой, срисовывал я и такие, как я. Она шла ни быстро, ни медленно. Закручивая жаркий ветер из раздевающих глаз. Это могло бы взбесить, если бы желание уже стало моим. Но мне везло больше: она шла ко мне, не глядя по сторонам. Я всегда получаю свое. И я знал, она придет – ее зрачки расширились. Я взял свое еще у барной стойки. Бабочки всегда летят на свет, где их уже ждут. Я жду. И получаю свое, если хочу.
– Не занято? – спросила она.
Села лицом ко мне, перископическим глазом к остальным самцам. Неосознанная уловка, невинная на первый взгляд, на деле – двурушничество… Лишнее следует отсекать.
Вокруг меня по периметру белые столы и кресла из черного кожзаменителя, барная стойка в стиле хай-тек и абажуры, сплетенные из ротанга. Неподходящие декорации для кофейни, но у бабочки-зебры покровительственная окраска. Черно-белый узор, продуманный до мелочей, чтобы слиться с фоном и скрыться. Но каждая ягодица – мишень с черным яблоком в центре. Все взгляды попадают в десятку.
Беззащитная бабочка-зебра цокнула по фарфоровой чашечке ядовито-красными коготками. Как я сразу не заметил десять хитиновых капель яда? Ее ресницы взлетели и упали, но я увидел на роговице отражение обжигающей кофейной пенки в фарфоровой чашечке склер. Она закрыла глаза, раздула ноздри – и уже чует и вожделеет запах заваренного кипятком смолотого в порошок кофеина. Так любить кофе? Я подсматриваю сквозь замочные скважины своих глаз за актом чужой страсти, рискуя превратить свой интерес в желание. Я – наездник, и я хочу есть.
– Я тоже, – ответила она в круге света от абажура из ротанга.
Я рефлекторно оглянулся назад. В фастфуде подают девушек попроще, переварил и забыл. Но я сыт ими по горло. Она вернула меня назад книгой, которую я раскрыл для нее. Ну что ж, поиграем. Я – охотник. Паук, жрущий бабочек, книга – моя паутина. Раз ты так хочешь, иди ко мне.
– Со мной не стоит шутить, – пожалел я ее.
По законам войны на первом месте стоит правильный бой, на втором – маневр, на первом месте – гуманность и справедливость, на втором – хитрость и обман. Законы, идущие от Хуан-ди, подходят к войне полов, как ключ к замку. Подобрать нужный ключ не слишком трудно, если знать, что универсальной отмычки нет.
– И почему же? – Она подняла черные, тонкие змейки бровей.
Ее ресницы не накрашены, они раздели глаза донага, сделав их беззащитными. Ее губы обведены ядовито-красной помадой, она лоснится хорошо смазанным наганом в круге света от абажура из ротанга. Разве бабочки не знают, что губы – негатив других губ, прячущихся под вызывающей юбкой в обтяжку? Или ядовитые бабочки охотятся на пауков? Я засмеялся, подумав – кто кого?
– Что ты хочешь? – спросил я ее напрямую.
Она испугалась, захлопнув веки как створки раковин.
– Так боишься обжечься?
– Да, – ответила она, не поднимая глаз.
Я рассмеялся про себя. Бабочка оказалась съедобной. Красные губы и когти – предостерегающая окраска для пауков, жрущих чешуекрылых. Красные губы и когти без яда – приманка для спаривания с себе подобными. Бабочка прилетела на свет для брачного танца. Всего лишь. Я был обманут, я чувствовал разочарование.
– Я понял, – скучно сказал я, и она укусила меня острыми белыми зубками, украденными у фарфоровой чашки.
– Какая разница? – ответила она.
Я этого не ждал. Потерял бдительность и стал менее осторожным. Она воспользовалась промахом мгновенно, поставив меня в один ряд с другими самцами. Не новый прием. Слова меня смешат, зажигает иное – ее красные блестящие губы вытянулись хоботком и всосали кофеиновую пенку тихо и вкрадчиво. Я вдруг увидел отпечаток цвета крови на моей коже внизу живота. Оттиск ядовитых губ хлестнул меня таким жгучим желанием, что оставил ожог. Я уже вижу ее грудь, и мне хочется узнать ее вкус. Но охота на бабочек не терпит напора. Можно остаться и без обеда.
Она отвернулась к фотообоям.
– Что там? – спросил я.
– Там хорошо, – ответила она.
Я ей не поверил, отражение кофеиновой пенки уже обварило меня кипятком. И я решил – пора расставить силки.
– Это важно, – сказал я.
Выцелил зрачками ее глаза и выстрелил без предупреждения бронебойным снарядом, где боек – интерес, капсюль – воображение, порох – вожделение, пуля – средство получения желаемого. Она отдалась, не сопротивляясь. Открыла красные губы и впустила меня, не заметив. Я получил свое и улыбнулся. Я всегда получаю свое. Если хочу.
– Где вы работаете? – спросила она.
– Нигде, – ответил я.
И она меня отравила. Без предупреждения. Обстреляв по периметру беспощадной пушкой своих кофейных, скучающих глаз.
– Разве ты не хочешь?
– Нет, – легко подтвердила она.
Я рефлекторно откинулся на спинку стула, чтобы она меня не задела. Меня смешат слова, даже задевающие за живое. Но ее прицел сбился, зато я попал в яблочко – она любила успех во всех его проявлениях. Мое «нигде» нашло одно из ее уязвимых мест. В этом случае симметричный ответ невозможен, силы рискуют сравняться. Подмена ожиданий – лучшее оружие для охотника. Стреляет точнее.
Мне нужно было знать, по каким правилам привыкла играть она. Пока ее кофейные глаза бродили по искусственному песку фотообоев, я вложил тест в карман ее пальто. Она предпочитает выжидать или атаковать без оглядки?
– Не люблю воду, – пояснила она, скользнув взглядом по синей волне, бегущей на дешевой копии сусального тропического рая.
Обороняться, понял я.
Тест оказался ненужным. Не стоит удивляться. Выжидательная позиция типична для женщин. Она так предсказуема?
Но все же проверим, решил я, глядя в ее черную спину.
Черное скрадывает объем и размеры. Дуэлянты надевают черное в надежде на промах противника. Но оборона – признак слабости, при ней невозможно добиться победы.
Я закрыл глаза. Из ниоткуда выплыла белая фарфоровая чашка с обжигающим кофе. Вот оно! У нее настораживающий взгляд. Задница здесь ни при чем.
Саша
Я поступила в медицинский сразу после окончания школы. С первого раза. Училась легко, но первое занятие по анатомии я вспоминаю с содроганием. Оно напоминало газовую атаку на Ипре. Едкий запах формалина выкручивал глазные яблоки слезами и тушью, дубленый, коричневый труп настоящего человека зиял выпотрошенной воронкой на животе. И психическая атака – нескончаемая река из обломков мертвой речи. «Сагиттальный», «фронтальный», «дистальный», «проксимальный», «пронация», «супинация» взрывались в моей голове бомбами с капсюлем из мертвой латыни, вызывая состояние тихой паники. Нормальная анатомия долбила ковровыми бомбардировками из чертового органа вымершей до нашей эры тарабарщины. Я не понимала, о чем говорят и зачем я здесь. К чему учить английский, он тут не нужен! Я только подумала, что ошиблась с выбором профессии, как меня спросили:
– Серегина, покажите пронацию.
– Забыла, – несчастным голосом ответила я.
– Суп пролил, – мягко подсказал препод.
– Так? – Я пролила суп ладонями книзу.
– Так, – согласился он. – Теперь супинацию.
– Суп несу! – облегченно воскликнула я и повернула ладони кверху, будто что-то просила. Асклепий взглянул на меня с Олимпа и вложил в них красный диплом. На вырост.
Я несу супницу с красным дипломом в детской инфекционной больнице. Работа педиатра тяжелая, в инфекционной больнице – вдвойне. Врач приходит на работу в восемь утра, и если он дежурит ночью, то рабочий день переваливает за сутки. Утром после дежурства нужно вынести планерку, осмотреть своих больных, сделать назначения и записи в медкартах. Если повезет, дома будешь до обеда. Я не переношу ночные дежурства, до сих пор панически боюсь ответственности. Перед ними у меня всегда падает артериальное давление и тошнит от страха и неуверенности в себе. Я знаю, это пройдет, как только начнется рутинная работа. Но все равно трушу и поделать ничего не могу. Как и сегодня.
– Саша, я пойду? – спросила меня Наргиз.
Я сморщилась, она засмеялась и сказала, надевая пальто:
– Если что, звони.
Наргиз заведует отделением вирусных гепатитов, я работаю у нее ординатором. Каждый год наше отделение перепрофилируют на респираторные инфекции во время эпидемии гриппа. В нашей больнице два гепатитных отделения, другое отделение не перепрофилировали ни разу.
– Радуйтесь, – говорит Наргиз своим ординаторам. – У вас хоть соображалка сохранится. И опыт наберется. Вы сможете работать где угодно.
Ночная работа началась с рутины. Я осмотрела больных, оставленных под наблюдение, и уселась заполнять истории болезни. У меня есть примета: как дежурство начнется, так и пойдет. Сегодня мне повезло – тишина. Заполню медкарты, выпью чай, еще раз гляну тяжелых и лягу спать. Я посмотрела в окно. За ним полутьма и мерный шум льющейся воды. Весна застряла на слове «февраль» и утонула в дожде. Сначала дождь приходил ночью побренчать на жестяных козырьках и утром глядел зеркальными лужами вверх. Туда, откуда пришел. Потом дождь освоился и остался без права на передышку.
Не переношу дождь. Он наводит на меня тоску.
– Александра Владимировна! – В ординаторскую вбежала постовая медсестра. – Черепкова вся синяя! Под капельницей!
Я отшвырнула ручку и влетела в процедурный, оттолкнув перепуганную мать Черепковой. Трехмесячная девочка лежала под капельницей: кожные покровы синюшные, ладошки холодные, движений дыхательной мускулатуры нет. Налицо картина апноэ – остановки дыхания. Когда видишь такое, не думаешь ни о чем – твой мозг делает все за тебя, ты идешь за ним на автомате. Капельницу долой. Может быть, лекарственная непереносимость. Дыхание «рот в рот» и непрямой массаж сердца. Три скрещенных пальца обеих рук на крошечную грудину, давление на грудную кость не глубже одного сантиметра. Твои губы к детским губам, и весь объем воздуха из собственных легких в маленькое тельце. Реаниматологи называют это «поцелуй смерти». Дыхательный объем у детей раннего возраста меньше мертвого пространства у взрослых, только вдыхай и вкачивай атмосферный воздух. Я вдувала свой кислород как проклятая, пока не раздышала. Черепкова порозовела так же внезапно, как и ушла. Всё!
– Я забыла, – мать Черепковой ломала руки за дверями процедурной, лицо бледное, в глазах ужас. – У нее так же было в роддоме.
– Все будет хорошо. Ей много лучше. Не беспокойтесь.
Я обернулась к ней и провела ладонью по своему лицу. Оно было мокрым от слизи. Все лицо и волосы в детских соплях. Я забыла закрыть губами нос ребенку, но все же раздышала. Поцелуй смерти стал поцелуем жизни. По моей коже несутся мурашки, сердце бьется как бешеное, руки дрожат. Страх и радость как следствие выброса адреналина. Не нужно быть наркоманом, чтобы чувствовать эйфорию. Можно стать просто врачом. Черепкова – моя больная, я лично за нее отвечаю. На меня налетел адреналиновый грузовик, я увернулась из-под его колес. Мне повезло!
– Саш, у меня Черепкова выдала крендель. Посмотри ее ночью, а? Второй день госпитализации.
Я позвонила в реанимацию Буркову, он сегодня дежурил. Я знаю его еще со времени обучения в интернатуре. Он не будет кочевряжиться.
– Что за крендель, Саш? – передразнил он меня.
– Не представляю. Внезапно дала апноэ. Еле раздышала. Мать говорит, в роддоме было что-то похожее. Ей всего три с половиной месяца от роду.
– Трусишь? – Он хмыкнул.
– Нет. То есть да… Немного, – я рефлекторно провела ладонью по лицу.
– Ну, тащи свою Черепкову.
Черепкова лежала у матери на руках; я подошла, она чмокнула розовыми губами. Нахалка, с нежностью подумала я.
Ей уже удалили электроотсосом слизь из дыхательных путей. Может, в этом все дело? Всего лишь? Сама Черепкова чувствует себя сейчас очень даже неплохо. Больше спит, чем плачет. Если что-то имело место в роддоме, значит, ноги патологии растут из утробы матери. Но Черепкова родилась в срок, в анамнезе ничего особенного. Никаких инородных тел, кроме слизи. Большой родничок не закрылся, чуть напряжен. Судорог я не заметила, хотя могли быть и незаметные мышечные подергивания.
– У нее судороги бывали?
– Нет, – мать Черепковой зачем-то прикрыла дочь рукой.
– Даже когда она плачет? – уточнила я.
– Даже, – подтвердила мать.
В педиатрии лучше «пере», чем «недо». Я бегом отнесла Черепкову в реанимацию, чтобы она не успела выкинуть что-нибудь еще.
– Откопай, что у нее, – попросила я Буркова. – Надо.
– Так на ночь же, – Бурков насмешливо поднял брови.
– В реанимации отличный подход к комплексным исследованиям. Причем cito[1]. – Я шаркнула тапочкой, Черепкова чмокнула розовыми губками.
– А ты не… – с сомнением произнес Бурков, глядя на девочку.
– Нет! – перебила я. – Если бы я не вытащила ее с того света, к тебе не явилась бы.
– А как насчет респираторно-аффективных судорог? Ревела?
– Спала, – хмуро сказала я.
Черепкова чмокнула мне на прощание и засопела носом. Я не спала всю ночь. У двоих детей было ухудшение состояния, пришлось повозиться. Ледяной дождь лил не переставая. В такую погоду всем худо, детям тем более. Утром вернули Черепкову, так ничего и не обнаружив.
– Родимчик, – сомневаясь, сообщил Бурков.
– Угу, – мрачно ответила я, глядя на тихую маленькую мину.
Что с ней? Поиск верного диагноза схож с расследованием. Чаще оно удается. Я вздохнула, надеясь, что мне повезет.
Я осмотрела всех своих больных, числом тридцать два человека. Их больше, чем положено вести на ставку, и один тяжелее другого. Февраль – синоним гриппа. Освободилась в полтретьего и поехала домой. Погода в моей квартире была такая же, как и на улице. Я выругалась и пошла закрывать окно. За ним свинцовое небо, так низко, что его можно потрогать рукой. Тусклый, процеженный сквозь тучи свет, стена серой воды и промозглый холод. Я поежилась и закрыла окно. Шум дождя стал тише.
Не люблю переходов, не переношу ждать, мне нужна определенность. Оттого еле терплю весну и осень – они похожи на двери, которые открывают слишком долго. Я звернулась в плед с головой и засунула голову под подушку. Дождь зашуршал ее синтепоном, мерно, однообразно, уныло. Весна, похожая на позднюю осень, обещает долгое ожидание, убивая надежду на лето. Если приходится ждать, лучше спать. Анабиоз сокращает время пути; наверное, поэтому весной меня клонит в сон сильнее, чем в любое другое время года.
Меня разбудил телефонный звонок. Голос был незнаком.
– Добрый день, – сказал мужчина.
– Добрый, – ответила я вне себя от злости и порадовалась только тому, что догадалась положить трубку рядом с собой, иначе пришлось бы вставать.
– Это Марат.
Кто?! Осло-тюлень? Как он мог узнать номер моего телефона? Я точно помнила, что ему его не давала.
– Глинтвейн не забыли? – спросила меня телефонная трубка.
– Как вы… меня нашли?!
– Просто, – ответил он. – Вы мне так и не позвонили.
Тон его голоса был спокойным и ровным. Но мне вдруг стало неловко, как будто я обязана звонить каждому встречному.
– Я потеряла ваш телефон.
– Я думал, вы его не нашли.
«Лучше бы я так ответила», – с досадой подумала я. Меня внезапно выдернули из жаркого лета моего сна, и я не успела собраться. Мне нужно было сразу послать его подальше.
– Как вы узнали мой телефон? – жестко переспросила я.