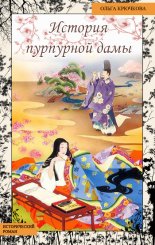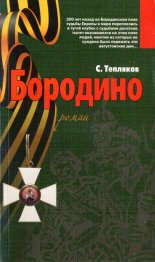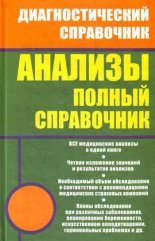Умышленное обаяние Кисельгоф Ирина

– В пятницу на следующей неделе открывается выставка моих работ. Пойдешь?
– Да, – я открываю меню. – Что будешь?
– Ничего не хочу, – она машет головой. – Нет. Пива.
Ее руки бессильно лежат на столешнице, на большом пальце след красного масла. Траурница замечает мой взгляд и прячет палец в кулаке.
– Хотелось закончить… – Ее глаза избегают мои, мои – ее. – Ты что-нибудь пишешь? Я… Мне хотелось бы…
– Нет, – отрезаю я любопытство одним словом.
Жара, жара, жара. Между лопаток течет пот, по ее лицу – тоже. Она вытирает его бумажной салфеткой, на столе ее скомканный платок. Мои глаза блуждают по летней площадке, на которой, кроме нас, никого нет. Одна, вторая, третья кружка пива. Меня начинает клонить в сон, ее смуглые скулы краснеют.
– Я сейчас, – заплетающимся языком говорит она. Мне кажется, она уйдет, но она остается. Ее лицо в ладонях, черные глаза сверкают сквозь пальцы.
– Сейчас, – бормочет она и кусает мякоть своих ладоней. – Вот посмотри, – протягивает мне руку, на ладони вдавленный красно-синий след острых зубов. – А вот, – поднимает рукава, предплечья цветут синими, красными, желтыми отпечатками. – Я ждала… – с жалобной укоризной говорит она и тут же резко вскидывает голову. – Нет! Не говори! Ничего не говори!
Мы молчим, солнце жарит июльским зноем, ее голова лежит на скрещенных руках.
– Как в трясине, – бормочет она. – Плыву, плыву. Не выплыву…
Я тоже в трясине, раздавленные ирисы пахнут болотом и тиной. Меня засосало. Как я сразу не понял?
– Я хотела сама… А потом взяла да и привела к себе мужика. Ты его не знаешь… Никого не знаешь… Да и зачем? – Она хохочет. – Не смогла! Чуть не стошнило! Гадость!!! – Она хватает себя за горло и жалобно стонет. – Зачем? Зачем вспомнила? Сейчас стошнит… Мне в туалет…
Мне кажется, она уйдет; но она остается. Небо взрывается громом, волоча за собой шквал ветра. Меня снова окатывает пылью искусственных листьев.
– Ты помнил меня? – Ее противоестественно длинные глаза режут мое лицо пополам, я отворачиваюсь.
– А я помнила! – кричит она. – Помнила!
Траурница обхватывает влажными ладонями мои руки, я терплю. Мне жаль ее и себя. У меня все так же.
– Так хочется… Так хочется… ударить тебя по лицу. Звездануть! – Она взмахивает рукой, я обрезаю ее глазами. – Нет! Прости! – Ее голос снова курится тоской. – Ночи не сплю. Душа болит, руки кусаю. Смешно, да? – Ее зрачки ищут мои, я смотрю в стол. – Глаза закрою, целю в себя… – Она запинается, проталкивая слова. – …У меня ружье есть. Вот его и вижу. Бах! Голова вдребезги! А вместо этого… – она хохочет. – Рву зубами подушку! Дура! Ой, какая дура! Скажи?
Ее слова тонут в вое ветра, он накрывает нас собой и пылью с земли и искусственных листьев.
– Я красивая? – Глаза черной пантеры тревожно бегут по моему лицу. – Скажи! Красивая?
Я киваю, она гладит мне пальцы.
– Знаю, знаю, – бормочет она. – Уедешь… Уедешь, и все. Но только хочется по полной. Так… Оторвать у жизни кусок, выдрать с мясом, а потом… Да что там потом! Потом разницы нет. Понимаешь?!
Я киваю, гром и дождь бьют по красным виноградным листьям. Я уеду. Разницы нет. Разницы нет… Не потом, а сейчас. Именно сейчас. Нет разницы!
– Пойдем ко мне, – просит она.
– Не сегодня. – Я тороплюсь, мне нужно идти.
– Пойдем! – требует она. – Ну же!
– Спасибо, – я целую ей пальцы и ухожу. Она плачет одна за столом.
Гроза и ветер рвут из рук красный зонт, выворачивая спицы наружу. Искусственный красный цветок закрывается над ее головой, на лице пылают алые губы и скулы в красном свете зонта, я за ее спиной.
– Ты?! – Я слышу вокруг себя шум дождя, в телефонной трубке – ее голос, он щекочет мне живот.
По асфальту, ворча, несется река, в ней взрываются брызгами капли дождя. Ее ноги по щиколотку в холодном весеннем дожде.
– У тебя маленькие ступни. – Мне сжимает низ живота. – Я хочу взять их в ладони, чтобы согреть.
Она спотыкается, ветер накрывает ее распустившимся цветочным зонтом. Она молчит, я улыбаюсь. Какая разница, что в ее голове?
– Ты где? – тихо спрашивает она и сразу разворачивается ко мне.
Ее лицо пылает пожаром зонта, в кружеве радужки кипит стоградусный кофе. Красный зонт валится под ноги, нас обтекает грозовая река, сталкивая вместе безудержной силой. Ее глаза, мои глаза вяжут жаркую сеть из ледяного дождя. Гроза над нами, гроза вокруг нас, гроза внутри нас. Я хочу ее до смерти!
– Едем!
«Kawasaki» ревет взбесившимся зверем, выплевывая грозу ливнем из-под колес. Дороги вертят беличье колесо, тасуя зигзагом улицы, перекрестки, кварталы. Дождь снайперским прицелом слепит глаза. Деревья, бордюры, столбы, дома выстреливают очередями. Фасад – в лоб, торец – рикошет. Нетерпение нестерпимо! «Kawasaki» взвинчивает скорость, грозовой дождь хлещет и хлещет в лицо ветром и красной водой. Улицы, улицы, улицы. Сквозные дворы. Чертовым улицам нет конца! Прямо, поворот, поворот, еще поворот! Шины визжат, я влетаю во двор.
– Где твой зонт? – смеюсь я.
– Ах! – Красные коготки взлетают вверх и растерянно падают на алые губы.
Беспомощная бабочка меня ест, и она об этом знает.
– Поедешь смотреть джиду? – У меня план, хочу показать ей саму себя. Она поймет?
– Да! – засмеялась она.
– Завтра утром.
В животе екнуло смутной тревогой. У тревоги голос, он попросил – не надо. Я посмотрел на небо, желая дождь, и не увидел ни облачка.
Она стояла у подъезда в красной куртке, на плече дурацкая сумка, сшитая мини-сундуком.
– Что это? – Меня внезапно захлестнуло раздражение.
– Еда, – смутилась она.
– Я об этом даже и не подумал. – Я цедил слова, жалея об этом.
– Ты что, мог бы целый день провести без еды? – оправдываясь, спросила она.
– Запросто, – коротко бросил я. – Садись.
Мой живот обхватили пять красных когтей, мне захотелось их сбросить. Ну и ладно. Подзадержались. «Kawasaki» рявкнул, заводясь злостью, мне захотелось смеяться. Ура!
– Хорошо сидим? – обернулся я, широко улыбаясь.
– Да, – доверчиво улыбнулась она. Я чуть не рассмеялся вслух. У тюрьмы день открытых дверей!
Прозрачный воздух полон света, степь вышила узоры цветов, растянув на пяльцах траву. Дорога петляет, осторожно объезжая куртины крокусов, их оранжево-желтые лепестки расцарапаны в кровь, розово-фиолетовые – уже собрали ее в цветочные чашки. У крокусов кровь на дне, маки и тюльпаны полны ею под завязку. Вокруг схваченные удушьем сине-фиолетовые головки ирисов. От них пахнет болотом за тысячи километров, от ее рук – тоже. Бабочка промышляет у стоячей воды! Мне хочется смеяться, она доверчиво улыбается моим мыслям, во мне клокочет жестокая радость.
Мы лежим внутри травы, выросшей по наши колени. Не стоит стоять на них, степь ставит на колени сама. Зеленая стена вокруг, сверху голубой платок неба, утреннее солнце вкрадчиво сочится через траву.
– Хорошо! – Она протягивает руки к небу, в ее ладонях горит солнечный шар.
Так похоже на предчувствие финала! Я закусил губу; мне жаль, что это уходит, но я уже жду. Новая женщина всегда возвращает в начало. Сквозь траву слышится далекий голос Иды:
– С каждой новой женщиной у тебя как в первый раз.
– Я всегда сбрасываю шкурку, начиная заново, – смеюсь я.
– Зззмея! – жужжит пчела голосом Иды.
– Уж! – смеюсь я.
Бабочка поворачивает ко мне голову, в ее фасеточных глазах плавают облака. Кофе и взбитое молоко легко ужились рядом. Я улыбаюсь: сегодня в меню капучино в фарфоровой чашечке склер. Молоко спрячет запах, и кофе никому не найти.
– Поедем?
Она кивнула. Кажется, ей не хочется уходить. Ну а мне хочется.
– Что это? – вдруг спросила она.
У нее под ногами раскинулся нежно-зеленый куст, его ворочает ветер, тонкие листья шуршат птичьими перьями. Ветки прикрыты кокетливыми, ажурными зонтиками белых цветов. Я подопнул их ногой, на меня глянул хорошо спрятанный фиолетовый ствол.
– Ферула.
– Да? – воскликнула она. – Это же цикута! К нам привезли ребенка с отравлением. Его корни похожи на репу.
– И что? – Мне стало любопытно.
– Ничего, – она пожала плечами. – Промыли, прокапали и переправили в токсикологию. Мальчишке повезло, он только надкусил. К тому же был разгар лета. Всех опаснее ранней весной и поздней осенью.
Я невольно повел плечами. Странно.
– Пахнет яблоками… – Она растерла стволик пальцами; я зачарованно слежу, как алчно трепещут крылья ее носа. – Говорят, у сока сладкий вкус. Хочешь попробовать? – Она, смеясь, протянула мне пальцы, с красного коготка упала желтая капля.
– Что я должен почувствовать? – засмеялся я, а внутри расползается холодок. Она такая?
– Жжение во рту, головокружение, судороги. Потом остановка сердца. – Она поднесла палец ко рту, он раскрылся алым цветком. – Всё.
Я вдруг увидел ее другое лицо и сачок над губами. Последний вздох – последняя бабочка. У меня закололо пальцы желтым соком с запахом яблок. Ну же! Что ты медлишь?! Пробуй! Разве не этого я хочу?
Она вытащила влажные салфетки и тщательно вытерла руки. Остановка сердца свалилась под ноги белым клочком. Я почувствовал разочарование.
– Поехали, – отрывисто бросил я, она послушно пошла за мной.
«Kawasaki» недовольно ворчит, петляя по горной дороге. В отвесном ущелье грохочет река, разбивая воду о камни. На тропе мелкие камни, осыпи и обвалы, сквозь них упорно лезет трава. По серым скалам ползет сплющенным мхом темно-зеленый арчовник, под ним в каменной коже зияют щели рубленых ран. Чем выше, тем темнее, отвесные горы скрывают дорогу в густой тени.
– Как красиво, – уносит ветер чей-то голос.
«Kawasaki» повернул к реке, остановившись в полуметре от обрыва. С горы с бешеным ревом валится водопад, разматываясь седой бородой; вода долбит камни водой, высекая искрами брызги. На реке быстрины, завалы, перекаты и крутой слив. Раз – и нет человека!
– Как красиво!
Она легко соскочила с мотоцикла и подошла к самому краю. Ее красная куртка кричит знаком «стоп», мои ладони взмокли в перчатках. Ну же! Она медлит, мне до смерти хочется ее подтолкнуть! Сверкающие капли вверху копируют солнце, внизу – ее алую кровь и мои безумные мысли. Она стоит, а я вижу красное пятно, летящее вниз. Она молчит, а я слышу крик, от которого цепенею. Темная сила гонит меня к обрыву, чтобы увидеть то, чего нет.
Ее лицо повернулось ко мне, алые губы сложились в слова:
– Ну же!
Я помотал головой, стряхивая наваждение.
– Давай быстрей. – Я решил уехать. – Мы не успеем.
– Посмотри как красиво! – воскликнула она. – Ну же! Иди!
– Уже видел, – я улыбнулся одними губами.
Она вздохнула за моей спиной, а я вижу ее красным пятном в бесноватой, мутной воде. Пятно все дальше, сердцу свободней и тише. Она все ближе, сердце ломает ребра в груди. Ее фасеточные глаза бегут по моему лицу и внезапно врезаются в зрачки. Я каменею – она читает мои мысли; забрало шлема для ведьмы – шутовская помеха.
– Ну что же ты? – доверчиво улыбнулась она. Меня отпустило.
«Kawasaki» скользит по мелким камням, круто спускаясь вниз. Слева – пропасть, справа – каменная стена. Полосы света все чаще, пока не сливаются в сплошную. Один неверный поворот руля, и можно свалиться камнем вниз. Я торможу ногами, мне сжимает живот. Разве этого я хотел? Мне хочется смеяться над самим собой – я люблю жить. А она? Я гляжу вниз – на черной куртке блестят красным ядом десять лаковых коготков.
– Где твоя сумка?
– Выбросила! – смеется она и оглядывается по сторонам. – Давай здесь остановимся.
– Я знаю место получше.
Весна в горах медлит, ловя летнее солнце. Только сейчас она разбросала цветы – пригоршню белых на магалебскую вишню, горсть розовых на алычу, щепоть фуксии на фисташку, пригоршню кремовых на иргу. Буйство запахов и ярких красок без меры и без границ. Воздух отравлен алкалоидами трав и цветов. Благоухающая весна Ма Линя осенней копией беззвучно пропала во взбаламученной горной воде.
Я привез ее на ассамблею деревьев, где полого течет река. Мутная вода устало тащит камни, ее рябое зеркало дробит осколками солнце, в него со склонов напрасно глядят деревья. Крошечный плес грызет берег, тихо чавкая под ногами. Мне смешно – я искал рыбу в прозрачной воде, она выбрала приправу из грязи. Хотя нет, дальше вода чище, там можно отыскать и маринку. Я сглотнул слюну. Маринка – вкусная рыба, только… Я засмеялся. Только если не есть ее голову, икру и черную пленку. Можно напороться на фугу по-среднеазиатски и отравиться.
– Марат, – позвал ее голос.
Я повернул голову, живот снова сжало предчувствием финала. У ее ног аронник раскинул лопухами зеленые листья, его бордовая дудка смотрит ей прямо в лицо. Весной в тени аронник не сразу заметишь, а летом его ягоды можно увидеть издалека – их красный яд блестит лаковыми когтями на кукурузном початке цветка.
– Как думаешь, он мне рад? – Она осторожно коснулась пальцами ощетинившийся иглами миндаль.
– Еще бы, – дежурно ответил я. Меня ворожил арониковый яд, упакованный в зеленой пробирке. Я увидел другое ее лицо – земля, на ней белый смятый клочок.
– Да? – Она счастливо засмеялась, ее глаза погладили мои, я не ждал. – У него цветы урючные! Розовые!
– Смотри! – Нетерпение вело меня по другой дороге. – Аронник!
– Вот этот? – Она взглянула на бордовую дудку. – Что в нем такого?
– Его любят бабочки. – Я не узнавал сам себя. – Бабочка садится, воронка цветка закрывается. Бабочка в ловушке, назад хода нет.
Ну же! Потрогай! В его листьях полно кристаллов щавелевой кислоты, запросто можно поранить кожу. Я увидел кровь на ее руках, и у меня закрутило живот так сильно, что выжало пот на ладонях. Да возьми ты этот чертов цветок!
– Как росянка? – Ее лицо скривилось от отвращения.
Идиот!
– Не совсем, – сами сказали мои губы. – Бабочка опыляет, цветок отпускает.
– Коварно! – засмеялась она и протянула руку. Я замер; во мне бродила гремучая смесь страха, жестокой радости и надежды.
– Какие у него цветы? – Ее ладонь сомкнулась зонтиком над цветком, моя выстрелила раньше, чем я успел подумать, и сжала запястье.
– Ах! – тихий вскрик.
Рот закрыт поцелуем, вздох отлетает в алый сачок. Деревья уносятся вверх, тело рушится вниз. Она на траве, ее глаза подо мной, мои – над ней. Мои губы берут ее, она забирает мои. Я раздуваю ноздри, ее губы пахнут яблоками и джунгарской ферулой, кожа – аронией и миндалем. Мои губы ищут запах джиды, на них сладкий яблочный яд, на языке волдыри. Красные когти на спине – царапина и ожог, красные губы внизу живота – судорога и боль. Сверху – небесный клочок, внизу – я. Сначала свет, потом темнота. Я пропал в воронке алого яда цветка.
По ресницам блуждает луч. Вспышка и тень, красно – черно. Я открываю глаза, надо мной она.
– Ты был мой, – сказала она; алый цветок распустился, скрыв колкое жало. – Только мой! – торжествующе повторила она.
Мое сердце екнуло и забилось, и я отвернулся, чтобы не видеть улыбку.
– Что ты хочешь? – вдруг спросила она и, помолчав, добавила: – Не сейчас. Потом.
– Ничего.
Я живу одним днем. Мне на все наплевать. Но я наконец осознал, что мне нужно больше всего. Я хочу, желаю, прошу, чтобы она умерла. Чтобы не видеть, не знать, забыть. Это так нелепо и дико, что я не узнаю сам себя. Такого никогда не бывало. Но все очень просто. Я не хочу, чтобы любили меня. Это обычно, я привык. Только зачем я видел другое лицо?
– Расскажи мне о себе что можно. Нет, – она помотала головой. – У нас в отделении лежит девочка… – Она опять осеклась и тихо спросила: – Почему люди не понимают друг друга?
– Люди не понимают сами себя, – я коротко рассмеялся. – Где уж понять других.
– Ты скоро уедешь?
– Скоро. – Мне нечего больше здесь делать. Мне нужно уехать. Лучше уехать.
– Это хорошо, – медленно сказала она.
Я повернул голову, она смотрела в сторону и о чем-то думала.
– Поедем ко мне?
– Нет.
Она поднялась, на нее упала узорная тень магалебской вишни. У меня вдруг сжало сердце. Крона прозрачным куполом расплывается в солнечной дымке, у цветоложа – кармин и пурпур. В марево белых цветов ускользает you mei.
Саша
Одну из моих палат освободили и перевели старых больных. Так делают, чтобы не допустить повторного заражения от вновь поступивших. Часть детей давно курирую я, часть досталась в наследство от других врачей. Я пошла знакомиться с новыми старенькими.
– Ой! – крикнули из угла палаты.
Я обернулась и замерла. Из окна свет, из света серые миндальные глаза.
– Ты кто? – сами спросили мои губы.
– Ха! – Девочка хлопнула ладошкой по поручню кровати.
Я подошла ближе; девочка лет двух, смуглая кожа, черные волосы. Она засмеялась, по губам поплыл маленький кораблик. Я моргнула, кораблик исчез.
– Кто же ты? – Во мне расползался холодок.
– Я! – засмеялась она.
Я раскрыла историю, строчки прыгают, руки дрожат. Фамилия девочки Разуваева, имя Ева, два с половиной года. Отказная, из нашего дома ребенка. Странное имя для отказной. Я пробежала глазами анамнез жизни. Ничего особенного, никаких отклонений, попала к нам с острым бронхитом. Абсолютно здорова, но от нее отказались. За что? У меня засосало под ложечкой. Я бы так поступила?
– Пойдем на руки… – я запнулась. – Ева.
Она обняла меня руками и доверчиво прижалась к груди. А я вспомнила колыбель из казенной подушки, и мое сердце тревожно забилось. Какая она? Мы похожи? Я бы смогла?
– Кто твоя мама?
– Ты, – сказала она.
Я думаю о девочке целыми днями. Быстро осматриваю и ухожу, она засыпает, я возвращаюсь и сижу у кроватки. Ищу в ее лице подтверждение, и нахожу – или не нахожу. Моя тяга стала навязчивостью, а она стала ко мне привыкать. Тогда я решила оборвать эту странную связь. Ни к чему хорошему это не приведет. Теперь она протягивает мне руки, я отвожу глаза, она плачет. Ее тоненький плач тянется за мной арестантской гирей. Я уже не могу его слышать. Кто ее мать?!
Мой навязчивый интерес стал заметным, я этого не хотела.
– Хорошая девочка, – сказала Инга, моя коллега.
– Кто ее родители? – спросила я саму себя.
– Сволочи! – резко бросила Инга.
– Нет! – Мне вдруг показалось, что речь обо мне.
– Ты что, их оправдываешь?
– Я не то хотела сказать, – я не знала, что ответить. – Мне нужно идти.
Я вернулась в ординаторскую и набрала номер. Впервые.
– Какая у тебя группа крови?
– Первая. А что?
У него первая группа, и у девочки первая. Она лежит у меня почти неделю, меня терзает тайна миндальных глаз.
– Ты здесь раньше бывал? – Мой голос предательски дрожит, он легко это почувствует. – Бывал у нас в городе?
– Да, – неохотно ответил он, мое сердце рухнуло вниз. – А что?
– Ничего.
Он молчал, я тоже. Его голос всегда хорошо слышен, сегодня нет.
– Мы увидимся? – наконец спросила я, у меня снова екнуло в животе и отпустило.
– Я позвоню, – после паузы сказал он.
Я закрыла глаза, из ниоткуда выплыли две пары миндальных глаз. Теперь они всегда со мной. Две пары миндальных глаз, которые принадлежат друг другу, не мне… Я разрешила, он вклинился в привычную жизнь, в которой все роли расписаны, все места распределены. Он чужак, я ему не нужна. Все очень просто. Игра не стоила свеч. Я только понять не могу, как за такое короткое время совсем чужой человек стал мне так необходим…
Нет. Нам не стоило ездить вместе. Я так и не увидела джиду, хотя желала видеть ее больше всего на свете. Просто вдруг поняла: запах желтых цветов – его единственная определенность. То, что я успела ясно почувствовать в нем. Он не решил мне ее показать, я не решилась его попросить. Не смогла. Он увезет разгадку с собой. Его отъезд – еще один гвоздь, забитый в мою память. Этот человек саднит у меня внутри, когда он со мной и когда его нет. Я хочу знать больше. Все! Но он молчит, я замыкаюсь в себе. Все… абсолютно все изменилось после поездки. Иногда мне даже хочется, чтобы он скорее уехал и я могла отдохнуть.
С чего вдруг? Мне вспомнились слова песни, которую пели по радио, – он уехал, чтобы вернуться, она не знала, и ее не стало. Такая глупая, жалкая, дурацкая песня, что хочется плакать! Знаешь, что такое «не стало»? Жив, но умер! Вот что такое «не стало». Нет! Не стоило нам ездить вместе!
Мне стянуло горло, и я подошла к окну. За ним солнце и сад, я их не вижу.
Два года – это давно. Очень давно. Мои три месяца новой жизни, отличные от той, которую я прожила, – длиннее не бывает. Только три вдруг оказались меньше двух. Намного меньше. Он здесь был. Сам сказал. Эти слова отрезали мои три месяца; теперь я всей кожей ощущаю, что-то изменилось… Но я этого не хочу! Какая она? Мы похожи? Женщина всегда думает о мужчине и детях… или о боге, если не случилось первого и второго. На остальное ей просто плевать. Значит, она выбрала не ребенка, его? Он был для нее так важен, что месть стала важнее ребенка? Да? Ведь так просто детей не бросают. Почему Ева? Кто придумал ей имя? Мать или даже он? Он знает? Если да, значит, для него это нормально? Плюнуть и растереть? Так просто?
Я провела ладонью по лбу и поднесла ее к лицу. На ней пот, он высвечивает кожу тусклым, нежным перламутром. Розовые пальцы, белая ладонь. Так красиво… Только некому показать.
Жаль, я не взяла ферулу. А хотела. Я засмеялась, вспомнила его лицо и себя с желтым ядом в ладонях. Хочешь попробовать? Почему нет? Мои ладони чашей, в них яд. У него тогда дернулся кадык, непрошеным свидетелем внушенного глотка. Я засмеялась. Помню-помню. Он выпил, даже не коснувшись. Как я желала. Жаль…
– Нопаль – всего лишь кактус… – сами сказали мои губы. Где же я это слышала?
– Ты почему такая пасмурная?
Я вздрогнула и обернулась. На пороге стояла Наргиз; я даже не слышала, как она вошла.
– Разрешите мне уйти. Пораньше… Я все сделала, – сказала я. – Нет. Сейчас.
– Иди, – недоумевая, произнесла она.
Я вышла на улицу и оглянулась – времени полно, идти некуда.
– Папа? Как ты?
– Доченька! – воскликнул старческий голос.
Меня передернуло от отвращения. Ненавижу слово «папа», «доченька» еще омерзительней. Но как его называть?
– Я к тебе сейчас заеду, – коротко сказала я. – Жди.
– О!
Я одним пальцем отключила голос, который выключил меня давным-давно. До свидания!
Ненавижу толпу. Она ползет серой коброй, ее качает из стороны в сторону под монотонный звук индийской змеиной флейты. То вправо, то влево, то влево, то вправо. Непрерывным цепным дыханием. Невидимый факир дудит гипнотически – павана на тротуаре, быстрее – гальярда на перекрестке. Или факир и толпа одно и то же?
Мой отец выглядит старше семидесяти, его квартира – так же. У него трое детей от трех браков. Не стоило стараться, его забыли. Как и он когда-то. Его дом пахнет заброшенностью и болезнью, в нем никого нет. Мой отец бродит там тенью, покрываясь пылью и чужим равнодушием. Вернее, безразличием родных детей. Кукушата выросли! А чего ты хотел?
Я могла бы к нему не ездить… Что меня туда несет?
– Доченька! – Полное лицо задрожало студнем, слезный канал впрыснул на роговицу влагу. Гадость!
– Я. – Отстранила лицо от синюшных губ и прошла в комнату, не снимая обуви.
В комнатах грязь. К нему никто не ходит. Денег на уборщицу не заработал, а кукушатам все равно. Ты этого хотел?
– Полы помыть? – спросила я себя.
– Не надо! – Его скрутил кашель, он сплюнул мокроту в газетный кулек. Я невольно передернула плечами. Странно, в больнице у детей то же самое, но меня это не раздражает.
– В банке видно. Прозрачная. – Его голос звучал виновато, он заметил мой взгляд.
Я мыла полы, он ходил за мной по пятам, я желала послать его к черту. Мокрой тряпкой по старым тапкам – шварк, шварк, еще раз шварк! Он отступал, мне хотелось переехать его тряпкой, как паровым катком. Может, ты это себе загадал?
– Чай будешь?
– Сначала я вымою чашки, – хмуро сказала я. – Из них пить невозможно.
Я мыла посуду, он сидел за столом, опустив полные плечи. Старое, одутловатое, больное лицо, в глазах заброшенность и обреченность. А я помнила его другим. Красивым, молодым, сильным… Жаль. Так жаль… Я этого не хотела! Это твоя вина!
– На этой неделе опять «Скорая»… Не стал звонить. Лекарства есть, ты купила.
– Ну позвонил бы.
– Ты занята. Знаю… – тихо сказал он.
Я шваркнула грязную тарелку в мойку и резко обернулась.
– Ты этого хотел? Да?!
– Я жить хотел, – он помолчал. – Смешно. Да?
– Смешно! Ты это сказал маме? Жить хочу, а ты умерла?
– Ты не поймешь, – испуганно, но упрямо сказал он.
Его зрачки метались по моим губам, подбородку, щекам, не соприкасаясь с глазами. Страшно? Но мне нужно узнать, что такое уйти – не вернуться. Что это значит? Черт возьми!
– Папа! – У меня вдруг набежали слезы. – Я понять хочу. Пожалуйста!