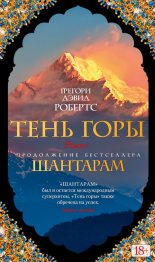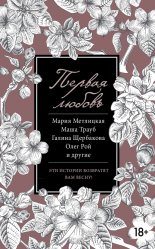Наш китайский бизнес (сборник) Рубина Дина

Зяма лежит, смотрит на него в полубреду.
— Комиссар?!
Тот ему знаком, мол, убери револьвер, скажу.
Офицер вынул дуло, и тут его позвали, какая-то кутерьма на улице, или что там — не знаю… Он крикнул — счас вернусь, пристрелю комиссара! — и выбежал. Солдаты за ним. А кого стеречь? Куда умирающий тифозный денется? Да они не на того наскочили… Зяма сполз на пол, дополз до окна — оно выходило в глухой переулочек, перевалился через подоконник и — вот откуда силы берутся в такую минуту? Ведь у него кризис был, его люто колотило, — огородами, задворками, сарайчиками… босой! — утек, поминай как звали. Он Шаргород знал как свои пять пальцев… Постучал к нам ночью. Поскребся. Папа долго не отпирал — как будто чуял, что с этого получится… Когда решился и отпер дверь, Зяма уже на пороге без памяти лежал. Мы его вдвоем еле втащили. А ведь он легкий был, хрупкий… Так что мы его выходили… И когда он ушел — тоже ночью, бежал в Ямполь, там полк красных кавалеристов стоял, — кто-то из соседей донес, и поляки забили папу плетками. Насмерть… Нет, он жил до вечера… И… он мне — ничего, ни словечка упрека… Ни слова… После его смерти я перебралась к тетке в Тульчин. И там уже родилась моя девочка…
В годик она умерла от дизентерии… Поэтому я на вас все смотрю и не могу насмотреться. Простите…
Роза Ефимовна не плакала. Ни жилки не дрогнуло в ее лице.
Эта старуха оказалась крепче всех остальных, и Зяма гордилась ею. Она протянула руку и положила ее на сжатый веснушчатый кулачок на столе.
— Еще кусок пирога?
— Да, — сказала Роза Ефимовна.
И пока Зяма сама забирала тарелочки с пирогом у хозяйки кафе, старуха продолжала неотрывно смотреть бесслезными глазами на быстро густеющее небо за окном.
— Попробуйте вот это, — сказала Зяма, — вы оцените. Это настоящий штрудель, хозяйка печет его сама…
Минуты две они молча ели штрудель.
— Почему вы не искали его? — спросила Зяма.
— А почему он меня не искал? — со страстной обидой, пережившей десятилетия, спросила Роза Ефимовна. — Я была уверена, что его повесили петлюровцы, мне Фимка Безродный так сказал, с которым его вместе и поймали. Фимке удалось бежать, так он рассказывал, а Зяму повесили. Я не допытывалась, слишком болело все тогда — какая-то смутная история на каком-то полустанке, что-то связанное с ограблением поезда… И только много лет спустя, на Урале, в эвакуации, я случайно встретила и разговорилась с одной женщиной, уже немолодой. Она жила на том полустанке…
— Стрелочница, — сказала Зяма. — Она его и спасла.
Про то, что дед прожил несколько месяцев у стрелочницы в сарае, Зяма говорить не стала…
— Расскажите немного про его жизнь, — попросила Роза Ефимовна. — Хотя — нет, не надо! Я боюсь этого. Расскажите только — кто его жена? Ваша бабушка жива?
Зяма улыбнулась. Да, эта старая женщина до сих пор любила ее деда, которого вот уже двадцать лет на свете не было.
— Роза Ефимовна, — проговорила она мягко, — вам не к кому ревновать. Моя бабушка, которую я в глаза не видела, умерла от родов.
— Боже мой!
— Да, — сказала Зяма. — Божий промысел велик. Вы потеряли своего ребенка. Значит, ее ребенок — во имя справедливости — должен был потерять мать…
— Вы говорите жестокие слова! — тихо проговорила старуха.
— Вообще, о ней в родне никто особенно не распространялся. Похоже, это была просто девушка, местечковая девчушка, которой он сделал ребенка и на которой в конце концов женился. Звали ее Хана… Вот и все… Этому ребенку, моему отцу, а потом мне, он посвятил всю любовь своего сердца… Он не женился. Были, конечно, какие-то женщины, он нанимал мальчику нянек и несколько лет даже держал в доме тихую русскую женщину по имени Наталья, которая ради него не вышла замуж никогда, но… видно, не суждено ей было им завладеть. Если вам интересно: половину жизни он прожил в жаркой провинции под названием Ашхабад. Бежал туда из Киева, чуть ли не ночью, с чужими документами и годовалым сыном. Это было, если не ошибаюсь, во времена, когда сажали «за перегибы на местах», кажется, так это называлось? А дед тогда был довольно крупным деятелем: после гражданской войны он закончил школу Красных Командиров.
— Что он там делал — на краю земли?
— Он был миллионером.
Старуха вытаращилась. Да-да, Роза Ефимовна. И сумасшедший размах его подпольных цехов, и его тюрьма, из которой его выкупили друзья, давно, еще до ее, Зямы, рождения, и затем его тихое бухгалтерство в «Ашхабадстрое»… И вдруг идиш вслух на старости лет, и эта туркменская тюбетейка на голове по субботам… Нет, если все это рассказывать, то мы и до конца недели не управимся, а нам уже надо закругляться…
— Ашхабад — хороший город, — сказала Зяма. — Кстати, я там родилась. И только когда мне исполнилось пятнадцать лет, отец получил назначение в Москву и перетащил всю семью. Отец какое-то время работал в Байконуре… вы понимаете: «допуск-шмопуск», черт бы побрал все их ракеты вместе взятые, поэтому дед так и умер, не попав в свой «Ершолойм»…
Роза Ефимовна тихо и горько качала головой, думала…
— А у меня, знаете, была красивая жизнь! — вдруг проговорила она, встрепенувшись. — Я встретила прекрасного человека, родила сына и дочь, у меня четверо внуков, и уже правнуку пять лет, да… У меня красивая старость. И я, слава Богу, на ногах.
— Дед называл вас Рейзеле? — спросила вдруг Зяма, накрыв ладонью ее кулачок на столе.
Роза Ефимовна подняла к ней застывшее лицо:
— Да! Да!
— Когда я родилась, — сказала Зяма, не убирая ладони с ее стиснутого кулачка, — дед просил, чтобы меня назвали Рейзл, ну, Роза, конечно, в русском варианте…
И вот тут старуха не выдержала. Она схватила салфетку, затряслась, прижала ее к лицу.
— …но мамец всегда могла переупрямить любого ишака, — закончила Зяма, с любовью глядя на тщедушную и очень старую женщину.
Слава Богу: Зяма была платежеспособна. Она считала себя обязанной выплатить все долги по дедовым векселям. И радовалась, когда заставала в живых кредиторов…
…Уже подъезжая на автобусе к тремпиаде и страшно нервничая, и боясь опоздать, она увидела красный «рено» Хаима Горка. Он как раз подкатил к бордюру тротуара. Зяма выскочила из автобуса и бросилась к нему, хотя, конечно, Хаим бы подождал. Он видел в зеркальце, как она бежала. И когда, тяжело дыша, она плюхнулась рядом, он не стал говорить светских пустяков, вроде — не стоило торопиться, или — что ж ты бежала, как на пожар… Он сказал без улыбки:
— Мне нравится твоя точность.
И они тронулись. И замелькали по бокам виллы арабской деревни Шоафат, и напряглась в непроизвольном ожидании пули ее слишком статная, слишком заметная шея…
11
К армии у нее не было никаких претензий. Ее принимали, на проходной базы связывали с командиром, дежурный говорил в телефон: «Тут пришла мама солдата».
«Мама»… Кстати, а есть ли вообще у них в обиходе слово «мать»? Семейная армия, шмулики-мотэки… (Господи, как можно было позволить сожрать себя этому климату, этому вязкому мареву Леванты, как можно было дать растаять в этой жаре тревожному еврейскому уму! Как — в этой круговой смертельной опасности — можно лузгать семечки, жрать питы и чесать волосатое брюхо?! Почему, черт возьми, они не проверяют ее паспорт, почему не обыскивают?! А вдруг у нее в сумке спрятана граната!)
Она стояла у проходной — мамочка солдата, говнюка окаянного. Вот замечательно точное выражение из глубинных народно-речевых пластов: «Сердце кровью обливается». Потому и стало расхожей банальностью, что замечательно точное. Земную жизнь пройдя до половины, приходишь к мысли, что нет ничего точнее, больнее и правдивей банальностей…
Командир принял ее минут через тридцать. Она стояла — пока ждала, — смотрела на проходивших туда-сюда солдатиков.
Территория базы была огромной, тенистой, засаженной лет пятьдесят назад эвкалиптами. Похоже на территорию пионерского лагеря где-нибудь в Крыму… А эвкалипты, как известно, осушают почву, их высаживают на болотах. Именно в этих местах тысячи, десятки тысяч загибли, осушая малярийные болота. Именно в этих местах…
Да, конечно, она тоже не любила в детстве школьных лагерей с их побудками, надсадным хрипом горна, казенным компотом с лысой косточкой на дне стакана — всего этого проклятого счастливого детства в дружном коллективе.
Но, черт возьми, он же все-таки мужчина. И это все-таки армия!
Командир был ее ровесником. Слушал молча ее торопливый жалкий иврит. Хорошее лицо, умные глаза. Хорошее, домашнее, утомленное лицо. Фамилия, между прочим, Фельдман. С ней в классе учился Сашка Фельдман, они приятельствовали, однажды зимой даже целовались в телефонной будке на станции метро «Белорусская», где телефонные будки похожи на египетские саркофаги, поставленные на попа. В будке было тепло. Да… просто в России есть одна особенность: там говорят по-русски… Проклятый, родной язык! Тяжкая печать на судьбе, как клеймо конезавода на тощем крупе изъезженной клячи… Что это за жизнь, Господи, если с человеком по фамилии Фельдман нельзя поговорить нормально, по-русски?!
— Я его отправлю на гауптвахту на месяцок, — сказал он ей. — Ты пока покрутись, подсобери справки. Почему ты не предупредила, что такой ребенок?
Она хотела сказать: а где были ваши хваленые медкомиссии, где были ваши прославленные военные психологи, кто ему, дьявол вас побери, выкатил высший балл?!
— Я надеялась… — сказала она вслух. — Я всегда по-идиотски надеюсь.
Она уходила длинной эвкалиптовой аллеей. Навстречу шел расхристанный курсант, балбес, меланхолично жующий питу. Они профукают страну, и в ожидании царя-батюшки, Машиаха своего, прожуют ее и запьют пивом…
Ах, посадите меня на гауптвахту в этом райском военном саду!..
Встретиться с сыном ей не разрешили.
…И что? Выручил в конце концов Доктор. Она долго не решалась попросить его, не хотелось кишки вываливать на соседское обозрение. Потом поняла, что деваться некуда.
Умница Доктор понял все мгновенно — дело-то было получасовое. Она зашла к нему вечерком (не на Сашкиной же террасе справки выправлять), и он накатал на бланке чистую в общем-то правду. Такой-то перенес стресс в результате аварии на школьных курсах вождения. Возбудим — и это было чистой правдой.
— К депрессиям склонен? — спросил Доктор, оборачиваясь от стола.
— Ни к чему он не склонен, — сказала она.
— Ну, когда давление оказывают — не любит?
— Бабочка тоже не любит, когда ей крылышки держат, — сказала она…
Доктор сварил кофе, и они обсудили возможность смотаться двумя семьями на Родос, на недельку. Деньги плевые, четыреста долларов с носа — дивное море, дивные пляжи… Она сделала вид, что серьезно обдумывает поездку.
Если б у нее были сейчас эти плевые четыреста долларов, она знала бы, куда их заткнуть. Дома лежала стопка неоплаченных счетов…
Иногда от отчаяния в голову ей приходили уже вовсе нелепые идеи заработков. Недавно, к примеру, сон приснился: будто идет она с рынка Маханэ-Иегуда к остановке автобуса, само собой — нагруженная девятью кошелками, как ишак. На остановке к ней бросается женщина, ненатурально пылко, как это только в снах бывает: простите, не знаете ли, к кому обратиться насчет экскурсии по Иерусалиму? Я бы хорошо заплатила, у меня времени осталось только до вечера, я вечером уезжаю в Торонто! (Спрашивается: при чем тут Торонто? Почему — Торонто? Писательница N. это название лет пять не вспоминала. Вот недюжинная задача для творческого ума — разгадывать значение идиотских снов.) Подскажите, спрашивает, кто здесь экскурсовод?
И известная писательница N., превозмогая тошноту, говорит ей:
— Ну, вот я — экскурсовод. Не будет преувеличением сказать, что я — ведущий экскурсовод Иерусалима.
А сама мучительно во сне соображает — куда кошелки девать на время экскурсии…
Проснулась и смеялась. Однако все утро нет-нет да прикидывала: а не пойти ли на курсы экскурсоводов?
— …А ведь ты мне, кажется, анкету еще не заполняла? — задумчиво спросил Доктор. — Сделай-ка и мне одолжение, а?..
Писательница N. взяла протянутые ей скрепленные бланки, пробежала глазами. Так вот она, эта знаменитая анкетка, которую Доктор всучивает всем и каждому.
«Думали ли вы когда-нибудь о самоубийстве?»
— Любой порядочный человек когда-нибудь думает о самоубийстве, — сказала она.
— Ты не торопись, не торопись… Сядь, прочти внимательно все. Вот тебе ручка, обведи кружком, что считаешь нужным.
Подавляя отвращение к этим листкам, к себе, Доктору и всему миру, она продолжала читать вопросики задушевной анкеты:
«Каково было ваше желание умереть?»
«Насколько часто оно возникало в последнее время?»
«Считаете ли вы себя способным покончить с собой?»
«Какую цель вы преследуете, когда думаете покончить с собой?»
«Думаете ли вы о способе, которым хотели бы покончить с собой?»
«Считаете ли вы, что данный момент — самое подходящее время свести счеты со своей жизнью?»
— Да. Считаю, — сказала она. — Уговорил. Выпиши-ка мне лошадиную дозу снотворного, что-то не спится…
Доктор приятно рассмеялся и потрепал ее по руке.
— Ну, вот и напиши, — мягко проговорил он.
— Да что там писать, эх, — воскликнула она, — все по нулям: нет. Не состою. Не значится. Не имею.
И обвела все «нет» твердыми маленькими кружочками…
Самое любопытное, что в последние год-полтора, несмотря на бесповоротное, бездонное безденежье, она, похоже, стала — да нет, не привыкать, — но находить в тех или иных вокруг картинках нечто для себя занятное. Всюду жизнь. Есть такое полотно передвижника Ярошенко…
…Она поняла — что натворила со своей жизнью, уже на пересадке, в Будапеште. Как это бывает — вдруг, просто, обыденно-беспощадно: мгновенное озарение правдой, свободной от «точек зрения».
Их цыганскую толпу погорельцев направлял парень, по виду совсем мальчик, коротко стриженный, конопатый, в свободной, слишком свободной одежде — конечно же, сотрудник израильских спецслужб. По-русски он говорил с диким местечковым акцентом, что почему-то привело в ужас писательницу N. (Значительно позже она поняла, что эти распевные, в каждом слове вопрошающие интонации перекочевали в идиш из древнееврейского, а из идиша уже в русский язык евреев — черты оседлости.)
— Господа, господа! — покрикивал этот веснушчатый. — Всем следовать за мной!
Он вел их длинными и почему-то пустыми, очевидно запасными, стеклянными переходами аэропорта в некий зал, где им надлежало чего-то ожидать, наверное самолета. (А до этого их везли на автобусах в какое-то общежитие на окраине Будапешта — впереди охрана на мотоциклах, позади — охрана на мотоциклах. И вся эта толпа ночевала в каких-то гимнастических залах, койки стояли впритирку одна к другой. Младший сын, двухлетний, плакал и писался. Она бегала в туалет — стирать его колготки — и развешивала их на батареях парового отопления.
Кормили всех тоже в каком-то спортивном зале, партиями… все смутно, никчемные лица перед глазами, обрывки фраз, мусорная дорожная мелочишка, бред, сон дурной… И горечь, страшная первородная горечь, чечевичная отрыжка Эсава: вот так мы бежали из Испании, вот так мы бежали из Германии, вот так мы бежали из Польши, вот так мы бежали из… вот так мы бежали… Вот так Я избрал тебя из всех народов, как стадо свое, и стану перегонять тебя, как стадо, с места на место, чтоб не забывал и не успокаивался, и не смешивался с языками другими…
Наутро погрузили всех в автобусы и отвезли в аэропорт.)
И вот сейчас эта толпа с детьми и стариками торопливо тащилась по нескончаемым стеклянным переходам. Конопатый рыжий мальчик вел их, как ведет стадо баран-предводитель. На лбу его блестели капельки пота, он устал.
Это были те самые дни, сейчас уже легендарные, когда за день в аэропорт имени Бен-Гуриона прибывало по три тысячи репатриантов. Когда толпы их скапливались на пересадках в Будапеште, Бухаресте, Варшаве и всех их надо было расфасовать, успокоить, направить, охранять. Он устал, этот мальчик с диким местечковым акцентом, какого не было уже у деда писательницы N. — типографского рабочего-линотиписта, в четырнадцать лет убежавшего из дома отца-раввина, из затхлого местечка на юге Белоруссии.
— Господа, господа! Все в порьядке! — кричал мальчик, картавя.
Наверное, его в детстве привезли из России, лет двадцать назад, подумала она. Вот такой акцент будет и у моих детей. Круг замкнулся. Это я, я его очертила, я обозначила границы новой черты оседлости, я его замкнула.
И в этом стеклянном зале аэропорта посторонней, прохожей страны, в толпе бездомных ничейных переселенцев, под охраной автоматчиков, она вспомнила одно из неприятнейших впечатлений своей жизни: закрытый просмотр фильма о филиппинских хирургах в Доме кино, куда ее, после междусобойчика в ЦДЛ, затащили два знакомых редактора.
Она сидела, обескураженно уставясь в экран, на котором слишком чуткие, неприятно чувственные смуглые руки хирурга раздвигали ткани человеческого тела, внедрялись в него, копошились внутри и вдруг вытаскивали наружу комок опухоли, за которым тянулись красные нити метастазов…
Она ощутила вдруг такое бесконечное сиротство, бездомность, обездоленность и тошнотворный страх, ощутила, как безжалостная рука, раздвинув ткани, проникает вглубь, в грудную клетку, и выпрастывает оттуда опухоль души с метастазами прошлого.
Она поняла, что самим рождением — до самой смерти — обречена на сопровождение автоматчиками, и неважно куда — до расстрельной ли ямы, для охраны ли жизни. Что все кончено, все погибло, и вернуться некуда, и возвращаться нельзя…
(Тут на автобусной линии Иерусалим — Тель-Авив живет сумасшедший бродяга в вязаной шапочке, про Машиаха поет. Всю дорогу бегает по автобусу и боится только одного — что его высадят. Все тот же ужас бездны, клубящейся под ногами.)
Она опустилась на скамью и зарыдала молча, страшно, содрогаясь в невыносимых конвульсиях, защитив лицо ладонями, безуспешно пытаясь совладать с этим, неожиданным для нее самой, припадком смертельного отчаяния. Рядом ее муж держал на руках младшего ребенка и растерянно смотрел на нее. Впервые за пятнадцать лет брака он видел, как она плачет.
— Что с вашей женой? — встревоженно спросил его мальчик-предводитель, ведь он за всех отвечал. — Почему она плачет?
Муж спустил ребенка на пол, подошел к ней и с силой прижал ее трясущуюся голову к своему свитеру.
— Ничего. — сказал он израильтянину. — Простите нас. Сейчас это пройдет…
…Они приземлились в Лоде ночью, накануне Судного Дня.
После долгой процедуры в аэропорту (девочка-чиновница с таким же тяжелым акцентом, такая же уставшая и бледная, долго не могла понять — как это в семье могут быть три разных фамилии: отца, сына и святого духа от первого мужа), — ночью же (это была нескончаемая ночь) их погрузили на маршрутку и долго везли в какой-то городок под Иерусалимом, там одноклассница мужа сняла для них небольшую квартиру.
Приехали в сером молочном рассвете, быстро перетаскали на третий этаж все вещи: подрамники, свернутый в тяжелый рулон холст, ящик с красками и бутылками лака и небольшую сумку с бельишком для детей и круглым гжельским чайником, с которым самым идиотским образом она не хотела расстаться. (Он и сейчас стоит на полке в кухне. Чай в этой реликвии никто не заваривает.) Восемьдесят кило — по двадцать на рыло, — и ни грамма больше. Все по закону и под присмотром советского таможенного быдла. Баулы с одеждой, посудой, обувью и постельным бельем остались там же, в Шереметьево.
«Это хорошо, — с горьким злорадством думала писательница N., — это символично…»
В квартире, которую сняли для них, стояли только три обшарпанные деревянные кровати и два дачных табурета, крашенных голубой краской. И опять она подумала, глядя на эти невесть откуда взявшиеся и невесть как сохранившиеся табуреты: земную жизнь пройдя до половины… Все хорошо, так мне и надо…
Ничего, сказала одноклассница мужа, задорная украинская деваха лет сорока пяти, энтузиастка и сионистка (она встречала их в аэропорту, бурно во все вникала, хваталась за сумки, громко и бодро приговаривала: ничего, главное, вы — дома! остальное приложится. Пройдет завтра Иом Кипур, сказала она, понатащут вам отовсюду).
Писательница N. с трудом дотерпела, когда уйдет эта сердечная женщина, уложила хнычущего малыша, легла рядом с ним, не раздеваясь, на голый матрас, и уснула, как оглушенная…
Проснулась под вечер, долго лежала на спине, силясь понять — где она, глядя на голую лампочку, на непривычные, больнично-белые стены. Наконец поднялась и подошла к окну, тоже странному, без подоконника.
Увидела круглый двор с пологим травяным косогором. Амфитеатром он окружал странное округлое здание из белого камня, с витражами в венецианских окнах. И со всех сторон по зеленому косогору спускались к белому зданию тихие строгие люди в белых одеждах…
Писательница N., москвичка в третьем поколении, уроженка Сретенки и прочая, и прочая, конечно, что-то слышала и что-то почитывала о грозном Судном Дне, когда ревнивый и милосердный еврейский Бог судит всякого из своего народа, и этот всякий, дабы отвратить от себя гнев и наказание, облачается в белые одежды — в цвет невиновности и чистых помыслов…
Где-то что-то такое она, повторяем, читала. Но не связала. А может, забыла… Несколько мгновений, вцепившись побелевшими пальцами в оконную раму, она глядела на картину безмолвного загробного мира. Ее затошнило, колени подкосились, отступив от окна, она повалилась ничком на топчан и потеряла сознание…
…Так вот, в последние год-полтора с окружающего мира вдруг стала сползать пленочка, как с переводных картинок, нашлепнутых на бумагу. Скатываются мокрые катышки, скатываются, и вот уже в углу весело заблестело настоящее солнышко, и грязно-коричневая черепица крыши оказалась карминно-красной, а сахарно-белые домики, уступами восходящие в гору, так отрадно выглядывают из багряно-лиловых кустов бугенвиллий…
С полгода назад втроем — с младшим отпрыском — они совершили безумную по дороговизне вылазку в кибуц под Нагарией. Кибуц как кибуц, не любила она эти коммунистические идеалы сельскохозяйственных евреев — но дня два без ущерба для психики провести там можно. Опять же — бассейн под открытым небом, в который круглосуточно было погружено их худосочное дитя, — по характеру, страстям и национальности — типичная утка.
Отец фотографировал его поминутно — счастливо визжащего, с какой-то девочкой, с которой он бегал все два дня. А за девочкой повсюду бегала ее собака — мохнатенькая, белая, с черными подпалинами и черными, свисающими по бокам ушами, отчего морда ее казалась чванливой физиономией купца.
В этой собачонке было что-то трогательное и удивительно человеческое. Художник вставлял ее уже в третью картину, и везде это мохнатое, черно-белое было уместно и по колориту, и по настроению… В картине «Бродячий цирк» она лежала у ног фокусника; свернулась клубком на стуле, у окна, рядом с рыжеволосой женщиной в шляпе; стояла возле одинокого старика, спиною подпирающего забор…
Недавно залетел к ним из Милана давний приятель писательницы N, кинолог между прочим. Все советовал собаку приобрести, она, мол, напряжение снимает и даже от депрессий бережет. А у нас уже есть собачка, ответила на это писательница N. Вот, смотри, в каждой картине, — он совсем рехнулся. Скажи-ка, что это за порода?
Приятель-кинолог осмотрел полотна, щурясь, помыкивая и склонив голову набок, и сказал: похоже, тибетский терьер…
Так, кибуц.
Для увеселения отдыхающей публики предприимчивая администрация пригласила ансамбль — не ансамбль, оркестр — не оркестр, а некую любительскую, бродячую по виду труппу, с проигрывателем и колонками.
Группу представляли четверо разнокалиберных девчушек от пятнадцати до семнадцати лет и их дядюшка-руководитель, коротконогий брюхастый человечек в смешных аляповатых бермудах и в пляжной шапчонке с козырьком. Писательница N. мысленно окрестила его массовиком-затейником. Дух любительщины, который процветает здесь во всех сферах искусства, способствует дикому смешению жанров и повсеместному беззастенчивому и радостному домашнему музицированию.
Этим ребятам заплатили за то, чтоб они «делали весело». И недаром, надо сказать, заплатили. С первого взгляда было видно, что это прыганье по деревянному помосту, сколоченному в нескольких метрах от кромки бассейна, доставляло им самим огромное удовольствие.
Под ритмичную, американского ширпотреба, музычку девчонки задорно и почти дружно выбрыкивали длинными ногами, а их дядюшка, массовичок-затейник, бегал туда-сюда вдоль дощатой эстрадки и, комично-испуганно округляя глаза, энергичными знаками призывал раздетую публику: повторять, повторять за нами!!!
И вдруг сам — след в след за гуськом девчонок — пошел на полусогнутых пузатой уточкой направо и — прищелкнув, разом повернувшись, — уточкой налево, направо-налево, направо-налево, под пение этого… ну, этого вселенского кумира, кукольного идиота, ежеминутно проверяющего, на месте ли его яйца…
Этот ли самозабвенно пляшущий коротышка-пузач, разморенные ли отдыхом и солнцем полуголые люди вокруг бассейна, а может быть, все это вместе: и летнее чистое небо, и высоченные эвкалипты с голубыми стволами вокруг поляны, и древние камни римского акведука, и озябшая фигурка сына, и трогательная мохнатая собачонка, — все вместе в единую секунду сошлось в фокусе некоего увеличительного стекла, и луч направлен был в самую глубину ее груди. И за эти несколько считанных мгновений, на поле голубейшей, чистейшей — на месте прошлого — пустоты выжег знак счастья: простенький узор этого упоительного дня…
И вот после этого — сначала изредка, потом все чаще — прошлое не то что вдруг проваливалось в голубую пустоту, но — застывало, окаменевало, как анестезированный зуб. А с картинки сегодняшнего дня все быстрее скатывалась катышками пленочка, обнажая яркие цвета то здесь, то там, то в самой середке, в самой глубине, в самой сути — говоря, конечно, слогом высокопарным, что непозволительно профессиональному литератору, каким считала себя и, собственно, являлась писательница N.
Известная, надо сказать, писательница…
12
За всю историю государства Израиль его покидало множество людей. Причем, как правило, пламенных патриотов. В этом нет ничего невероятного: во все времена и во всех странах именно пламенные патриоты редко выдерживали очную ставку с собственным народом…
Ури Бар-Ханина считал, что весь еврейский народ — от младенцев до глубоких старцев — должен собраться на Святой земле своих предков, чтобы, совершенствуясь в праведной жизни, становиться все чище и выше, указывая — как и написано в Книге Книг — путь к светлому будущему народам земли.
Боря Каган любил повторять, что все жиды, со всей своей кодлой, должны сидеть на своем пятачке, расхлебывать собственное дерьмо и не лезть в душу к остальным народам.
И тот и другой, безусловно, были убежденными сионистами…
Не секрет, что встречаются иногда среди людей безумные юдофилы. В природе вообще все встречается, например бородатая женщина — из учебника восьмого, если не ошибаюсь, класса. Явление необъяснимое.
Ури Бар-Ханина, урожденный Юрик Баранов, с детства (еще когда был русским) отличался таким необъяснимым врожденным юдофильством. Вот никогда не скажешь, с какой стороны тебя подстерегает опасность. Родители Юрика, мама и папа Барановы, были нормальными людьми, без отклонений, старшие брат и сестра тоже были абсолютно здоровы, в смысле — под хорошую выпивку в хорошей компании и анекдот смешной рассказать типа «приходит Абрам к Саре», и посетовать иногда, что в родной лаборатории евреи со всех сторон обсели…
Юрик же вот такой уродился.
Началось это с детского сада, когда красивый крупный Юрик повсюду, как привязанный, стал таскаться за конопатым заморышем Борькой Каганом, заглядывая тому в рот и никому не давая его тронуть. Золотушный Борька обладал талантом — хотелось бы написать «рассказчика», да не был он никаким рассказчиком, наоборот — всю жизнь с кашей во рту, и картавил к тому же… а просто к нему липли, едва он рот раскрывал. А на Юрика Борька вообще действовал как сирена. Завораживал… «А этот ему… рраз! и-и рраз — по рроже! — рассказывал Борька. — А тот, шпион… вынимает пистолет, целится, и ка-а-ак!..»
В старшей группе детского сада Юрик дважды побил деревянной кеглей Колю Соловьева за то, что тот дразнил Борю «жидом». Воспитательницы отмечали этот случай в своей долгой педагогической практике как феноменальный. Получив после скандала с кеглей страшный нагоняй от директрисы, воспитательница Марина рассказывала, плача:
— Я ему говорю: «Юрик, детка, ну что тебе этот Каган, отойди от него!» А он глазенками исподлобья смотрит, кулачки сжал, говорит: «Еще хоть раз кто ему это слово скажет…»
Беда!
Дальше — пуще. Известно, что в советской школе многие двоечники-хулиганы покровительствовали хилым еврейским очкарикам за то, что те давали списать на контрольной или подсказывали у доски. Случай, который условно можно назвать «феноменом Юрика Баранова», опрокидывал все сложившиеся стереотипы.
Во-первых, у Юрика обнаружились выдающиеся способности к точным наукам, языкам и… да, собственно, ко всему остальному. Он прекрасно рисовал, хотя и не учился этому. А прослушав однажды оперу, например «Аиду» (массовый поход в Большой театр пятых классов), спокойно мог намурлыкать лейтмотив любой арии.
Что касается его друга и одноклассника Бори Кагана, тот рос неблагополучным мальчиком. Отец Бори оставил семью, когда сыну исполнилось восемь лет, а сестре его Зиночке — пять. А когда Боря перешел в седьмой класс, умерла от рака его мама. Боря с Зиной остались жить с бабушкой.
Боря курил, сквернословил, грубил бабушке. Что находил для себя, что почерпывал из дружбы с ним развитой, начитанный и благополучный Юрик Баранов — для всех без исключения оставалось загадкой. Но стоило Боре Кагану открыть рот и начать рассказывать какие-нибудь непристойные глупости («Тогда мы берем портвейна, водяры и блок „БТ“ и едем к этому барыге на дачу, а там у него соседка, крепкая такая чувиха с ногами…»), и Юрик почему-то молча внимал этому рыжему тщедушному балбесу.
Школу Боря сумел закончить только благодаря Юрику, силой натаскавшему его перед экзаменами. Вообще можно без преувеличения сказать, что заботы об этом нескладном семействе целиком легли на Юрикины плечи. Он ходил в магазин за продуктами, присутствовал на родительских собраниях в Зиночкином классе, подписывал дневник в графе «Подпись родителей» и проверял уроки.
Да, всем окружающим, и в первую очередь собственной семье, он казался довольно-таки странным мальчиком, но все равно никто, даже в самых рискованных предположениях, не смог бы угадать, чем все это кончится.
Разумеется, он с блеском поступил в МГУ. Талантливый, красивый, воспитанный молодой человек, не обремененный, слава Богу, национальной проблемой, — могло ли быть иначе? Как обычно пишут в биографических книжках: «Гордость двух факультетов, душа любой компании, он весьма скоро оказался желанным гостем в очень многих престижных домах…»
И что же? С удивлением и горечью любимец курса обнаружил, что чуть ли не во всех высокопоставленных семействах ему очень пригодилась бы его детсадовская кегля.
Однако шутки шутками, но мордобоем Юрик разбираться уже не мог. Он понимал, что тут нужны другие, более основательные, более убедительные аргументы.
Последней каплей на этом пути оказалась знаменательная и бессмертная, как Вечный Жид, брошюрка о заговоре сионских мудрецов, горячо обсуждаемая всем курсом.
На следующий день бывший его одноклассник Сашка Рабинович привел Юрика в некую квартиру на Кировской, где проходили подпольные занятия по изучению иудаизма. Сашка поручился за Юрика, как за себя. Дело было нешуточное. В то время за подобную невинную любознательность давали приличные сроки.
Занятия вел Петя Кравцов (для конспирации всем велено было называть его Димой) — молодой человек, прекрасно владеющий ивритом. Петя вслух читал и комментировал Тору и Талмуд, а попутно забрасывал своих учеников разнообразными сведениями из еврейской истории. Он клокотал, объясняя каждый пасук недельной главы, а комментируя, говорил о давно умерших праотцах как о реальных и абсолютно живых людях. Иногда не мог сдержать слез. Ученики переглядывались. Это было такое горящее сердце, одержимое идеей национального возрождения, праведник поколения, один из тех, на кого направлен Божий перст.
Петя ездил по городам, сколачивал подпольные кружки и месяц-два жадно и торопливо преподавал иврит и рисовал исторические картинки. Все это он называл «Основы иудаизма» и говорил, что стремится хоть частично ликвидировать национальную безграмотность советских евреев.
За ним следил КГБ, поэтому в каждом городе Петя менял имя и фамилию — никто и никогда еще не был застрахован от стукачей. Ничего, говорил Петя Кравцов, когда в конце концов мы окажемся в стране своих предков, нам не придется уже менять имена.
(Когда через пять лет Петя репатриировался в Израиль, он поменял имя и фамилию на Перец Кравец.)
Стоит ли говорить, что недюжинные языковые и математические способности Юрика Баранова, его великолепный логический аппарат и блистательное умение формулировать оказались так приспособлены к изучению Торы, трактатов Талмуда, трудов кодификаторов Галахи, как — обратимся к возвышенному слогу — клинок дамасского кинжала приспособлен к инкрустированным ножнам, виолончель Гварнери — к своему бархатному футляру, а обнаженные тела трепещущих любовников — к сотворению бесконечной любви…
Уже через несколько месяцев они с Петей часами могли спорить до хрипоты над одной из талмудических задач или обсуждать комментарий Раши к той или иной фразе из текстов ТАНАХа.
Боря, между тем, успел влипнуть в какую-то аферу, связанную с перепродажей алтайского мумиё. Афера лопнула, Боря задолжал «шефу» крупную сумму денег. Чтобы выплатить Борин долг, Юрик до занятий в университете успевал разгрузить с ханыгами пару вагонов. После занятий он торопился на Кировскую.
К этому времени он уже был абсолютно подготовлен к любому диспуту с юдофобами на своем курсе. В его распоряжении были убедительнейшие аргументы как из области теологии, так и из области философии и истории. Но как раз тут-то и обнаружилось нечто удивительное: Юрику стало неинтересно полемизировать с юдофобами. Бездна их невежества и слепой ненависти оказалась столь очевидно и головокружительно бездонна, экзистенциальна, бессмысленна и смрадна; так отвратительно было ему вновь заглядывать в нее и тратить драгоценные силы души на безрезультатные усилия ее засыпать, что ничего, кроме желания отшатнуться от этой затхлой бездны, — и подальше! — Юрий Баранов уже не испытывал.
Он повернул в другую сторону и пошел, пошел, не оглядываясь, не оборачиваясь на недоуменно-горестные оклики семьи, все прибавляя и прибавляя шагу на этом пути…
Весной, в пасмурный московский, принакрытый ватными облаками день, на обеденном столе в квартире Пети Кравцова специально приехавший из Вильнюса раввин Иешуа Пархомовский произвел над Юриком священный обряд обрезания крайней плоти. Отныне сын Божий Юрий Баранов был введен в лоно Авраама и наречен именем Ури Бар-Ханина.
В тот день Юрик чуть не погиб от кровотечения. Его еврейство досталось ему такими тяжкими страданиями, что с тех пор каждый год он отмечал этот день суточным постом.
Когда умерла Борина бабушка, Юрик распорядился всем сам и сам читал по покойной кадиш, к потрясению кладбищенских нищих — богатых старых евреев, промышляющих чтением молитв. Со священным ужасом взирали они «на этого гоя», распевно и быстро выводящего на древнееврейском: «Да возвысится и освятится Его великое имя в мире, сотворенном по воле Его; и да установит Он царскую власть свою; и да взрастит Он спасение; и да приблизит Он приход Машиаха своего. Амен!..»
Бедная старушка, давно смирившаяся с тем, что вместо Песаха последние лет семьдесят отмечала со всей страной Международный День трудящихся, и мечтать не могла, что ее похоронят по-человечески.
Когда по закону миновали традиционные «шлошим» — тридцать дней после бабушкиной смерти, Ури Бар-Ханина попросил Зиночку быть его женой.
И вот тут Боря встал на дыбы.
Ни в коем случае, орал он, только через мой труп! Ты сошла с ума, кричал он сестре, ты что, не видишь, что это — религиозный фанатик? Он заставит тебя ходить в микву и рожать одного за другим!
Да, сказал на это Юрик, в еврейской семье должно быть много детей.
Ты запутаешься в этой идиотской кошерной посуде, взывал к сестре безутешный Боря, ты не сможешь куска ветчины на хлеб положить!
Разумеется, не сможет, сказал Юрик, какая мерзость…
Они, конечно, расписались в загсе Кировского района, для отвода глаз милиции и ОВИРа, но настоящая еврейская свадьба под хупой, скрепленная ктубой — традиционным брачным контрактом, — состоялась на старой даче Петиного тестя, на Клязьме, в яркий летний день.
Венчал их специально приехавший из Вильнюса раввин Иешуа Пархомовский. Присутствовали все друзья-подпольщики — Петя, Сашка Рабинович, один талантливый физик-бард с русской фамилией Соколов, приятель Рабиновича, художник — муж известной писательницы N…
И когда Юрик, путаясь холодными пальцами в тонких пальчиках Зины, продел наконец кольцо, вся его предыдущая жизнь покатилась прочь, карусельно крутясь… Он вспомнил, как завязывал ей, маленькой, шнурки на ботинках, и как на родительском собрании в седьмом классе ему попало за ее отставание по точным дисциплинам.
В горле у него что-то пискнуло, и он проговорил хриплым дрожащим голосом: «Вот этим кольцом ты посвящаешься мне в жены по закону Моше и Израиля»…
Ну а Боря тут как раз успел связаться с какой-то темной компанией в Марьиной Роще. Он стал неделями где-то пропадать, а когда появлялся, был как-то странно возбужден и весел, но спиртным от него не пахло.
Когда догадались — что к чему и какая беда пришла, Зиночка впала в состояние прострации и целыми днями плакала, приговаривая, что с Борей все кончено и хорошо только, что мама и бабушка до этого дня не дожили.
Она уже третий месяц тяжело носила, и волноваться ей было вредно.
Тогда Юрик решил: пан или пропал. Он вспомнил детсадовскую кеглю.
Для начала, превозмогая отвращение, он аккуратно и методично избил Борю. Тот падал несколько раз, Юрик поднимал его и снова бил, не ощущая при этом ни малейших угрызений совести — ведь теперь он был свободен от потребности русского интеллигента вступаться за обиженного еврея, вне зависимости от того — за что тому вломили.
Потом он вылил на сопливого, окровавленного Борю кастрюлю с холодной водой, потащил в спальню и привязал его, распластанного, к кровати. После чего взял на работе отпуск за свой счет и нанял известного нарколога, который согласился приезжать и лечить Борю на дому. На это ушли все деньги, подаренные на свадьбу друзьями и знакомыми.
Почему-то Юрик был убежден, что развязывать Борю нельзя, поэтому, не допуская к нему беременную Зину, собственноручно кормил его с ложечки, расстегивал ему штаны, усаживал на унитаз.
За этот месяц он похудел на восемь килограммов.
Спали они с Зиночкой в столовой, на полу, поскольку в спальне содержался арестованный Боря.
Словом, Юрик в очередной раз спас этого идиота. Это был один из довольно редких случаев, когда человек «соскочил с иглы». Вернее, он не соскочил, его Юрик снял с иглы, как уже приколотую к картонке бабочку, и пустил летать. То есть летал-то Боря, конечно, в пределах квартиры, но уже с развязанными руками и во вполне стабильном состоянии.
Целыми днями он смотрел телевизор, все программы подряд — от депутатских драк до «Спокойной ночи, малыши».
И тут выяснилась довольно любопытная вещь: Боря оказался настоящим последовательным антисемитом. Его вообще раздражали евреи, их типологические черты, манера слишком живо и слишком правильно говорить по-русски, вникать во все проблемы и легко манипулировать деталями, привычка подтверждать жестом уже сказанное слово. В психопатологии на этот случай существует даже особый термин, какой-то там синдром. Но разве он что-то объясняет по-настоящему?
Раньше я думал, говорил Боря Каган, что антисемитизм — это невежество. Теперь я считаю, что это — точка зрения, в том числе и интеллигентного человека.
Так вот, с утра до вечера поздоровевший Боря смотрел телевизионные передачи; и, как на грех, в каждой участвовали евреи. Они спорили о судьбах России, что-то предрекали, против чего-то выступали, что-то защищали… словом, необычайно активно окучивали общественную и культурную жизнь страны. За те три месяца, что Боря неотрывно смотрел телевизор, евреи успели смертельно ему надоесть. Он страшно ругался и говорил, что добром это опять не кончится.
Как раз в эти дни Юрик с Зиной получили вызов на постоянное место жительства в Израиль. Между прочим, в вызов был вписан и Боря, они без него просто не поехали бы. Юрик все тянул с объяснением, боясь даже представить — какую бурю возмущения, какой натиск, какой надрыв вызовет этот разговор. Так прошла неделя, другая…
В один из дней Юрик вернулся домой особенно взбудораженный: провожали Петю Кравцова и Сашку Рабиновича. Они ехали в Израиль накануне войны в Персидском заливе. Ультиматум Саддаму уже был объявлен, событий надо было ждать со дня на день. А ты сиди тут, из-за этого кретина…
Юрик налил себе чаю и с чашкой вышел в столовую. Там, у телевизора, сидел Боря и, как обычно, возмущался. В какой-то момент он вскочил, забегал по комнате и вдруг сказал:
— Послушай, вот ты. Ты непоследователен, старик! Читаешь, бля, молитвы по три раза на день, куска человеческой свинины не даешь мне проглотить, замучал всех со своим кашрутом… Спрашивается — чего ты здесь ошиваешься, ты же еврей? Жидовская морда. С твоим новеньким мировоззрением честнее свалить в свою гребаную Израиловку.
Юрик подавился глотком чая, а когда прокашлялся, тихо сказал:
— Я без тебя не поеду. И ты это знаешь, сволочь.
Боря бросился в кресло, щелкнул себя по носу и раздраженно воскликнул:
— Ну а я кто — князь Голицын? Поехали уж, граждане подсудимые, пока вам не накостыляли! Предлагаю очистить помещение! Совесть иметь надо…
Через два месяца в аэропорту имени Бен-Гуриона солдатик, говорящий по-русски, выдавал им противогазы и показывал — как ими пользоваться. Тут очень кстати провыла сирена воздушной тревоги, приведя Юрика в экстатический восторг. Зина была очень смешная в противогазе, с огромным животом. Боря крутил резиновым рылом, хохотал и кричал:
— Отлично смотритесь, господа русофобы!
А через неделю в родильном отделении Хадассы в руках потрясенного и раздавленного ужасом родов Юрика громко и настырно заорала новая израильтянка на три семьсот. Она была маленькой копией отца: с мокрыми русыми кудряшками и облачным взглядом своих вологодских предков. Ури Бар-Ханина поднял дочь к окну и сказал ей:
— Смотри: это Иерушалаим!