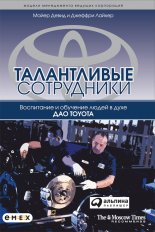Авиамодельный кружок при школе № 6 (сборник) Фрай Макс
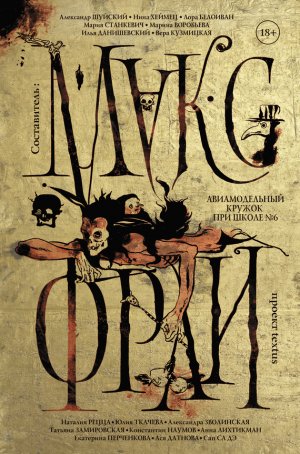
Читать бесплатно другие книги:
Внедрение бережливого производства часто оканчивается неудачей потому, что эту систему воспринимают ...
Книга Стивена Кови «Восьмой навык: От эффективности к величию» открыла людям дорогу к перспективам и...
Про бережливое производство написано много книг. Но независимо от того, какого аспекта методов Toyot...
Автор этой удивительно доброй книги считает, что маленькие дети обладают способностью научиться чему...
Эмоции лидеров обладают заразительной силой. Когда лидер излучает энергию и энтузиазм, предприятие п...
Время – это основной ресурс каждого человека, и от того, как мы относимся к каждому часу и минуте св...