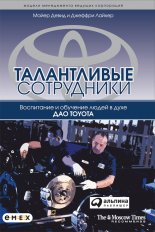Авиамодельный кружок при школе № 6 (сборник) Фрай Макс
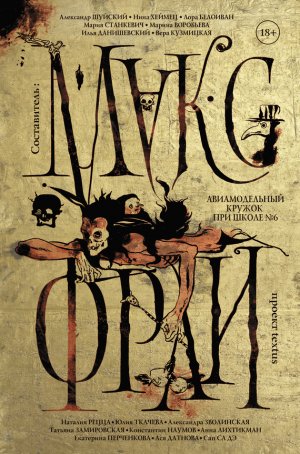
Я ничего не понимала, ничего. Но внутри, там, где находится пресловутая «ложечка», уже ворочался клубок змеек. Змейка Страх, змейка Любопытство и та, особенная змейка, которой невозможно противостоять и которая несет меня в самые разнообразные авантюры и никогда не дает пожалеть об этом. У этой змейки имени нет, но иногда я называю ее Чем-хуже-тем-лучше. В конце концов, подумала я, меня решительно ничего не держит. И систер с семейством от меня отдохнут немного.
– Володенька, ты можешь у Люськи спросить, где ее вообще ищут – эту Полли? – не то, чтобы я хотела задавать этот вопрос, но некоторые змейки кусаются очень больно.
– Спрошу. Через час заберу ее из школы и спрошу, – пообещал Володька и отключился.
СМС от него пришла через два часа, когда я уже сбегала заплатить за квартиру, отключила на время интернет, позвонила боссу и прикупила запас сигарет и прокладок.
Ехать предстояло долго и извилисто. Сначала поездом до Москвы, потом самолетом до Ижевска, потом автобусом до маленького поселка на краю Пермского края, а от него еще двадцать километров неизвестно на чем до места назначения – маленькой деревни с тихим названием. Почти двое суток пути, если не останавливаться.
К тому моменту, как юный таксист довольно невежливо выставил меня на окраине деревни, безымянная змейка сладко спала, а змейка Любопытство вяло зевала, наглядевшись на заснеженные пейзажи, и явно собиралась последовать за сестрой. Зато змейка по имени Страх подняла голову еще в Ижевске и за остаток пути успела залить мне внутренности ядом настоящей паники. Даже виски, верный способ растворить эту дрянь, не помогал.
Я стояла на развилке двух дорог, курила и думала о том, что, наверное, немного сошла с ума, что сейчас замерзну прям тут и никто никогда не узнает, где, собственно, это самое тут есть. И о том, что сейчас из леса, обступившего деревню и трассу со всех сторон, выйдут какие-нибудь чертовы волки или даже медведь, которого я разбудила грохотом своего сердца, и разорвут меня. Или еще вот маньяки есть… И еще я думала о том, что чем я вообще думала, когда ехала в эту глушь и даже не побеспокоилась о том, где буду ночевать… В общем, о многом я успела подумать, пока не скурила сигарету до запаха подожженной перчатки.
– Доброго утречка, – сказал кто-то сзади. Вероятно, волк, вряд ли медведи – даже медведицы – говорят такими высокими голосами. Тем более, маньяки, среди них все-таки мужчин побольше будет. Вторая, еще не подкуренная сигарета, упала из моих пальцев в снег, и я стала медленно-медленно оборачиваться. О том, что это может быть, например, Полли, подумать я даже и не рискнула, это было бы слишком хорошо и слишком уж страшно. Я не готова!
У меня за спиной стояла очень высокая и худая женщина с такими ярко-красными губами, словно только что слопала баночку гуаши. Одета она была не в пример теплее меня, а ее лицо выражало что-то очень странное, какую-то смесь приветливости, любопытства и легкого отвращения.
– Утро, говорю, доброе, – сказала она еще раз. – Надолго в наши края?
Радостная, что это оказался не медведь, я кивнула, потом помотала головой из стороны в сторону, еще раз кивнула и, наконец, промычала что-то неопределенное.
– Понятно, – женщина наконец улыбнулась. – Ждать Полли можно сколько угодно, поэтому вопрос несколько некорректен. Меня зовут Марина.
Я назвала свое имя, и через десять минут мы с моей новой знакомой уже входили в маленький домик, спрятавшийся среди двух десятков таких же. Вся деревня.
– Поживешь здесь, – сказала Марина. – Не лучший вариант, но лучших здесь днем с огнем не найдешь. Зато тепло. И газ есть.
– Скажите… – мне было неловко, но я должна была спросить. – Полли… Вы тоже ждете Полли, что приходит холодным утром и это… пахнет мятой?..
Марина прищурилась, ухмыльнулась красными губами.
– Многие ждут. Не все дожидаются.
– Сейчас достаточно холодно, – я произнесла это, хотя хотела сказать совершенно другое.
– Холодным – это не обязательно зимним, – ласково ответила Марина. – Даже совсем-совсем не обязательно. Наши зимние утра морозные, ледяные, чудовищные, так что называть их холодными будет не совсем верно.
Мы с Мариной проговорили еще какое-то время, в основном обсуждая бытовые вопросы. Деревня спокойная, мирная, газ есть, работы нет, но можно ездить в поселок, до которого четыре раза в день ходит автобус. Когда Марина уходила, единственным моим желанием было допить виски, упасть и умереть. Что я и сделала, как только за ней закрылась дверь. Допила, упала и умерла почти на сутки.
Несколько дней я думала над словами Марины, и все отчетливее понимала, что влипла. Потому что если сейчас, в феврале, утра ледяные и морозные, то весной – по сравнению – они будут становиться все теплее и теплее, и разве что только к осени… Логика была, прямо скажем, нелепая, но она была, а не то, чтобы бессмысленный треп, рассчитанный на романтичных девиц. Безымянная змейка хорошо чует такие вещи.
Мне ничего не мешало в любой день уехать оттуда. Никто меня здесь не держал, сочувствия моим страданиям не высказывал, вообще здесь мало интересовались чужим состоянием дел, если это не касалось строго физической помощи. Я отвечала своим новым соседям взаимностью, и до самого конца не удосужилась даже узнать всех имен и причин, по которым они сидят в этой глуши. Здесь это было чем-то вроде хорошего тона: не задавать лишних вопросов и принимать любую правду в тех дозах, в которых ее выдают.
Я обустроилась в маленьком доме, по субботам, как все, стала ездить в поселок за продуктами и готовила из них какую-то нехитрую еду (иногда мы с Мариной объединяли усилия, и вместо двух разных куриных супов у нас получался один и он всегда был вкуснее тех, что мы варили по отдельности, хотя готовили мы примерно одинаково, лениво стараясь минимизировать количество телодвижений).
…Весной я заскучала и устроилась на работу. Пошла мыть полы в поселковой школе. Денег это не приносило почти никаких, но хоть какое-то дело, тем более, что мои, безусловно нужные в большом городе навыки системного администратора, в этих местах никому не сдались. А без дела здесь нельзя, говорила мне Марина еще в самом начале, и была права. Быть уборщицей оказалось вполне недурно, маши себе тряпками, ни о чем не беспокойся и жди. Поселковые дети звали меня по имени-отчеству.
Там же, в поселке, обнаружилась совершенно маргинального вида забегаловка, в которой наливали отвратительное пойло и сидели не самого приятного вида типы, зато имелся большой бильярдный стол. В силу совершенно других интересов, у завсегдатаев популярностью он не пользовался, поэтому мы с Мариной стали наведываться туда, сначала изредка, а потом сделали это своей пятничной традицией. Местные нас не беспокоили, считалось, что деревенских лучше не трогать.
С Мариной мы не подружились, я уже давно перестала питать иллюзии насчет поиска своих. Но это не мешало нам проводить время за бильярдом, перемывать косточки бывшим и пить красное сухое. Марина научила меня разбавлять его водой, и это оказалось довольно вкусно.
Время от времени змейки поднимали головы, но, утомленные моим размеренным существованием, практически сразу же складывали их обратно. Самой главной новостью этих мест была перемена погоды: холодно, еще холоднее, очень холодно, пиздец и великий праздник – температура поднялась на пару градусов.
Со временем я вспоминала про Полли все чаще, и все чаще думала о том, какую глупость сделала, уехав из своего города и так бездарно все бросив. Особенно жалко было мужчин. Ну да, любили не так, но ведь любили же! По утрам становилось все теплее и теплее.
– Марина, это ужасно, просто ужасно, – говорила я, промахиваясь мимо очередного шара. – Как тут вообще можно жить? Годами? Рождаться, воспроизводить себе подобных и умирать. Ну мы-то ладно, Марина, мы Полли ждем. Допустим, она даже когда-нибудь придет. Остальным-то зачем, Марина, зачем?
Мой пафос оправдывает то, что бутылка вина была открыта уже вторая, а вода кончилась еще на первой. Лето в наших краях выдалось чрезвычайно жарким.
– Годами?! – Марина так поразилась моему вопросу, что чуть не взрезала кием сукно. Мы вздрогнули и мысленно пересчитали наличность. Порвись зеленая ткань, мыть нам тут посуду до конца дней наших.
Тут-то мне и открылась удивительная правда этих мест. Годами… ха! За последние пятьдесят лет в деревне не родился и не умер ни один человек. Странность эта проходила мимо всех статистических учреждений, не замечалась журналистами и властями, и уж тем более не разносилась ни самими живущими в деревне, ни теми, кто уже уехал. Дураков нет. Ну, разве что я, так и не заметившая этого за несколько месяцев.
Все, все, кто жил в деревне, ждали Полли. Некоторые, тут Марина лукавила, вполне себе годами. Скажем, сама Марина пошла на четвертый и все еще не отчаялась. А настоящим старожилом был некто Марат, его дом стоял справа от моего и ничем от него не отличался, разве что выкрашен был в другой цвет. Марат торчал в деревне уже седьмой год, а Полли все не шла к нему и не шла. Ко всем, объясняла Марина, приходит рано или поздно, но не к нему. Марат, правда, не унывал, ездил подрабатывать в поселок и регулярно устраивал всей деревне небольшие пирушки; такие золотые руки были в цене и на отсутствие денег он не жаловался. Говорят, в поселке у него даже родился ребенок, но так то в поселке.
Здесь же население действительно прирастало исключительно теми, кто повелся на странную историю о Полли, что приходит холодным утром, пахнет мятой и отвечает всего на один вопрос. Я чувствовала себя идиоткой: прожить здесь столько времени и ничего не заметить.
К сентябрю я окончательно одурела мыть полы и гонять шары, в голове нарастало глухое раздражение. В деревне прибавилось народу, Марина говорила, что осенью это обычное дело и к новому году большая часть сбежит, так и не дождавшись. Полли же за это время видели всего двое: старый полуслепой удмурт, почти не говорящий по-русски, и хипстерского вида чувак откуда-то из Подмосковья. Этот, по-моему, от встречи слегка тронулся головой. Уезжал он во всяком случае в таком просветленном виде, что нас с Мариной слегка подташнивало. Раздал оставшимся свое барахло и укатил на попутной машине, глазами подсвечивая трассу не хуже фар. Мне от него достался старый полосатый плед, Марине – Библия на английском в тонком кожаном переплете, Марату – деревянные четки… Ни удмурта, ни хипстера никто особо не провожал, как оказалось, не принято, но после обоих отъездов вся деревня уходила в тихий недельный запой.
Ко мне Полли пришла в утро, когда я как раз твердо и окончательно решила, что с меня хватит, я так больше не могу и надо убираться отсюда. Гори эта деревня синим пламенем и вся прикамская мистика вместе с ней. Не могу больше, не могу, не могу, не буду. Мне надо домой.
Это было действительно холодное утро, третье после моего дня рождения, первые октябрьские заморозки. Ночь мне не спалось, я выкурила столько сигарет, что у меня болели легкие, и чудовищно замерзла. Обмотавшись пледами и платками, я напоминала француза из детских исторических книжек. Горестного такого француза, которому наплевать на этих русских, эту Москву и хочется к маме.
На Полли же было летнее платье, в каких-то детских цветочках, они были ей к лицу, но совершенно не гармонировали с ее мистическим образом. Она села к столу, поджала босые ноги, и не было похоже, что это от того, что она замерзла. Ей явно не было холодно этим холодным утром, и мне стало неловко за свои платки и носки. В конце концов, не крещенские морозы стоят, всего-то около ноля; а в доме-то всяко теплее.
Полли сидела и молчала, а я стояла, переминаясь с ноги на ногу, и смотрела на нее. На ее волосы, на ее нос и уши, на пальцы с обгрызенными ногтями, на веснушки, на цветы на платье… В комнате остро пахло мятой, и это было приятно и мучительно одновременно. Насмотревшись, я сказала:
– Доброе утро. Один вопрос, да?
Полли кивнула. Я уже не ждала ее, я хотела уехать и все вопросы, которые я по-настоящему хотела ей задать, съела змейка по имени Тоска. Поэтому я помялась еще немного, набрала воздуха и спросила:
– Почему такое имя? Полли – это же не по-русски…
Правая бровь Полли взлетела под челку, рот приоткрылся. Мне показалось, что она удивилась или, что будет очень плохо, обиделась и самое время начинать оправдываться.
– Я в смысле… ну, это просто непривычно. Русские… ну, русскоязычные таких имен не дают же…
Я сбилась и заткнулась, будучи уверена, что испортила все и насовсем. Но, оказалось, нет. Полли вернула бровь на место и улыбнулась, и не было в этой улыбке ничего мистического, таинственного или зловещего. Обычная женщина, обычная улыбка. Может быть мы могли бы подружиться, или хотя бы просто ходить играть на бильярде и пить красное сухое, разбавляя его водой.
– А меня в честь бабки назвали, – и голос у нее тоже самый обыкновенный. Приятный, негромкий, плавный… – Ее Аполлинария звали. Но я сократила…
По-моему, я так в жизни не смеялась. От моего хриплого хохота взлетели птицы с деревьев, треснул ночной ледок на лужах, где-то над ГЭС жахнула молния и проснулась вся деревня – но тут же обратно сделала вид, что спит крепким сном. А под ложечкой, там, где происходит вся внутренняя жизнь, издав сиплый звук, сдохла змейка по имени Страх. Товарки тут же сожрали ее, не дав ни единого шанса разложиться и отравить меня в последний раз.
Я уехала сразу же. Не дожидаясь петухов, не подумав о том, что надо бы разбудить Марину или еще кого-нибудь и хотя бы попрощаться. Закинула все, что нашла, в чемодан, попрыгала на нем для верности и рванула. Мне повезло, на трассе до поселка меня подхватил ранний дальнобойщик, а там уже было просто: автобус до Ижевска, такси в аэропорт, самолет до Москвы, аэроэкспресс, метро, поезд, маршрутка. Уцелевшие змейки внутри шипели, извивались, задевая хвостами сердце и прокусывая кожу изнутри. Я шипела в ответ и неслась через билетные кассы, турникеты, эскалаторы, туннели и переходы. Быстрее, быстрее, впереди еще столько всего, а я уже почти опоздала.
– Где ты была, господи, где ты была столько времени? – орала на меня заплаканная систер Елизавета, а ее муж смотрел тяжелым взглядом, и я явно ощущала его желание стукнуть меня посильнее. – Господи, ну почему ты даже не позвонила?!
Возможно, я бы извинилась за эти слезы, если бы не была уверена, что они в курсе. Потому что только им-то я, кажется, и звонила несколько раз пока была в деревне. Не так часто как могла бы, но в конце концов это же систер, она всегда понимала меня. В конце концов, именно Володька прислал мне эти дурацкие ссылки, в конце концов, именно Люська рассказала нам всем сказку о Полли…
Я не стала ничего объяснять, что тут скажешь-то вообще? Прокричавшись и проплакавшись, систер велела мне оставаться у них и вообще не сметь выходить из дома минимум неделю, а Володька подкрепил гостеприимное предложение взмахом увесистого кулака из-за ее спины. Спорить я не стала бы даже в более мирных обстоятельствах.
Когда я уже лежала в постели, под одеяло ко мне забралась Люська. Весь предыдущий гранд-шкандаль она благоразумно отсиживалась у себя в комнате, но теперь, когда страсти поутихли, самое время было заглянуть к блудной тетке.
– Где ты была, Мара? – Люська засунула нос мне под мышку, и ее голос звучал глухо. – Ты ждала Полли, что приходит холодным утром?
Что ж, кому-то я должна ответить на этот вопрос честно. Пусть он и был риторическим: кто-кто, а Люська все знала наверняка и теперь всего лишь подтверждала свое знание сонным голосом, и в общем, даже не особенно ждала от меня дальнейших подробностей.
– Ждала, котенок.
– И дождалась?
– И дождалась.
Я обняла племяшку крепко-крепко, соскучилась. Змейка Нежность обвила нас колечком, и мы начали засыпать, убаюканные ее тихим шипением.
В комнате остро пахло мятой.
Марина Воробьева
На границе между бегом и сном
Ты так устал, что не можешь заснуть. Ты лежишь в постели, за окном светит фонарь так ярко, что ты не знаешь, ночь ли еще или утро, ты не будешь вставать, чтобы посмотреть в окно, ты не оставишь границу сна, ты не оставишь своего поста на подушке, ты обязан отдохнуть, завтра тебе рано вставать, завтра снова бежать и успевать и делать сразу сто пятнадцать дел, которые ты сам на себя взял.
Завтра или сегодня? Чтобы это узнать, надо пошевелиться, надо дотянуться до мобильника, посмотреть на часы, нет, лучше встать и посмотреть на фонарь. На тот самый фонарь, который в небе. Или на небо вокруг фонаря? Когда-то в прошлой жизни небо вокруг фонарей в парках было темно-бордовым, на фонарях сидели вороны и по фонарям стекало белое.
Если белое, то это свет, утро, а если бордовое – нет, стоп, ночь какого-то другого цвета. Очень ярко светит фонарь и, если долго на него смотреть через ресницы, упершись лбом в стену и не поворачиваясь к окну, можно увидеть, как кружится снег в свете фонаря. Да, ты знаешь, сейчас лето, это не снег, а мухи или птицы, те существа, которым нет названья, они живут там, где кончается фонарный свет и начинается тот цвет, название которого ты не можешь вспомнить, и они умеют превращаться в головастиков.
Нет, ты о чем, тут не день и не ночь, завтра у тебя нет никаких дел, какое такое «завтра». Ты не в своей постели, ты на больничной койке, ты не чувствуешь тела, боли нет, ты не знаешь, как сюда попал, но это точно больничная койка, вот кнопка вызова сестры. Надо поднять руку, дотянуться до мобильника.
Нет, стоп, никакого мобильника здесь нет, дотянись до этой проклятой кнопки. А у тебя вообще есть руки?
Ты уже когда-то был в больнице, тогда тебе было лет пять и ты был без сознания, а потом очнулся и увидел свою комнату и настенную лампу над спинкой кровати, и свой рисунок на стене, и ты закричал «ба-буш-ка!». Когда тебе было пять или четыре, ты каждое утро начинал с протяжного «ба-буш-ка» и она приходила и говорила: «Доброе утро, дорогой». Она пахла кухней и свежим снегом, она всегда пахла свежим снегом.
А в тот раз комната рассеялась, растаяла и вокруг оказалась чужая комната и спящие синие младенцы в люльках над тобой, и на твой крик пришла медсестра и сказала, чтобы ты сейчас же перестал орать, вот малыши же не орут, а они тоже в больнице.
Надо вспомнить, хотя бы вспомнить кто ты, как ты здесь оказался, открыть глаза до конца, до рези от белого света, до боли, чтобы знать, что живой.
Ты вспоминаешь вдруг, ты где-то читал, что если не можешь проснуться обратно, ты видишь свет и надо идти, идти к тому фонарю или к настенной лампе, к тем существам, холодным, как снег.
И ты понимаешь, что не хочешь возвращаться, не хочешь обнаружить, что тебе уже нечем тянуться к кнопке звонка или уже незачем, ты не хочешь никакого холода и никакой лампы, тебе нравится здесь, в полном неведении, в полной пустоте, ты не можешь видеть, что там, за ресницами.
Ты не станешь вспоминать, что все же случилось вчера или не вчера, как ты сюда попал и есть ли у тебя руки, ноги и все, что должно быть, всего не упомнишь. У тебя завтра сто пятнадцать дел, которые подождут, а пока под ресницами показывают цветное кино.
Цветные бесформенные кляксы вытекают одна из другой, становятся мультяшными человечками, у одного из них длинная борода до пола и он стоит на помосте, а все ему кричат:
– Горчица! Горчица!
Кого-то так звали по ту сторону ресниц, кажется, твоего пса.
Горчица действительно горчичного цвета, как твой пес, а синее пятно, кажется, маленький мальчик, спрашивает его – «Скажите, пожалуйста, Ребе, что будет, если громко закричать и нарушить тишину на границе между бегом и сном?» Все поднимают пальцы к губам, все говорят: «Шшшшш», а синий мальчик взлетает и кричит во все горло. Он кричит, и Горчица вслед за ним безудержно радостно лает, и все пятна перемешиваются и взрываются, мальчик из синего пятна кричит твоим голосом и ты просыпаешься в своей кровати. Сейчас ты откроешь глаза до рези, до боли, ты откроешь, а твоя комната и фонарь за окном и сто пятнадцать дел на завтра никуда не исчезнут. Ты помнишь, что еще вечером хотел выспаться получше, чтобы переделать каждое из них, одно интереснее другого, а в холодильнике у тебя твой любимый салат, оставшийся от ужина и его можно съесть на завтрак, и еще у тебя есть кенийский кофе, и что тебе стоит заснуть и проснуться утром.
Но ты не спешишь убедиться, что ты здесь, и не торопишься заснуть, ты смотришь сквозь ресницы на свет фонаря, уткнувшись в стену, тебе хочется еще немного побыть в этой пустоте, плыть по ней, оставаясь на месте.
Шшш, не кричи, мальчик-клякса, тебе тоже нечем дотянуться до мобильника, ты никогда не узнаешь, день сейчас или ночь, не кричи.
А кофе уже кто-то варит, запах проникает в комнату, кофейный запах громче крика, прозрачнее небытия.
Как хочется кофе. Не кричи, пожалуйста, не кричи.
Лора Белоиван
Борщ со взбитыми сливками
Ежик деловито бегал по веранде и срал чем-то синим, не синим даже, а лазоревым – красивый цвет.
– Кто ежу чего давал?
Плечами пожимают. Кто ежу давал: да никто, еж сам ест, не маленький. Ел улиток из коробочки, это все видели, чавкал ими как свинья, а потом пришел под стол и съел половинку яйца, оброненного Михасем. Но улитки коричневые, немного сиреневые на просвет, яйцо – белое с желтым, а кал такой, будто кусок мартовского неба ежу под стол уронили. Чувствовал себя вроде неплохо, судя по виду. Вид был обычный – недовольный.
И никто не сознается.
Михась весь в фейсбуке: «у нас тут еж бегает по веранде и срет чем-то синим» – сфотографировал планшетом ежа (отдельно), праздничное ежовое дерьмо (отдельно), запостил фотографии и теперь ждет, пока кто-нибудь его лайкнет. Елена заглянула через Михасево плечо в планшет и ударила брата яблоком по голове. Михась, не оборачиваясь, пихнул Елену локтем и сказал: «Отвали».
Тетя Шура убрала за ежом салфеткой и пошла выбрасывать ее в мусорку. Нет, это не она ежу синего дала: она бы сказала, если бы видела, что еж ест необычное.
Дядя Слава сидел на ступеньках, босыми ногами в траву, и читал бумажную газету. Он тоже не кормил ежа; он вообще вряд ли знает, что в семье есть еж; иногда кажется, дядя Слава не в курсе, какое нынче время года.
Еще есть бабушка и дедушка, но они ушли вздремнуть. Хорошо бы, если в одну комнату, а не в две разные: в доме буквально пустого угла не найти, везде кто-нибудь есть – или спит, или жрет, или торчит в интернете, или торчит в интернете и одновременно жрет, или смотрит телик, или заперся в уборной – кажется, будто не шесть человек приехало вчера, а тридцать пять.
Но нас тут всего семеро. Седьмой – я. Точнее, я первый, а Петренки приехали. Нет, не совсем ко мне, конечно. Дом, в котором я живу, принадлежит им. Три года назад тетя Шура позвала меня поселиться в их овчаровском доме, потому что они городские. Можно подумать, я был такой уж деревенский. Но я согласился, потому что как раз накануне мне стало негде жить. Так получилось. И вот они теперь сами приехали. Мне сказали: Саша, ты можешь съездить куда-нибудь, мы пока тут побудем. Они это от чистого сердца предложили, – мол, присмотрим за домом, устрой себе каникулы – но я остался. Мне пока никуда нельзя ехать, и странно, что тетя Шура об этом забыла. В общем-то они хорошие люди – за стол с собой зовут всегда. Хорошие. Только шумные. И много их сильно.
– Сашка как будто похудел, – сказала тетя Шура, – тебе не кажется?
– Шура, – Вячеслав Иванович вздохнул тяжело, – ну перестань, пожалуйста.
– Похудел, похудел. И бледный. Вроде вот на свежем воздухе постоянно, почему бледный? Питается как попало, наверное. За столом пока, смотрю – ничего не поел практически.
– Шура!!
– Слав, ну ты отрицаешь очевидные вещи же, почему ты такой, а?
– Шура. Шура. Шура. Я не хочу об этом говорить.
Я все слышу. Это моя беда: у меня не уши, а локаторы, настроенные на малейший шорох. Голоса Петренок доносятся до меня отовсюду, и я боюсь, что привыкнуть к этому мне будет очень сложно. Дядя Слава большей частью молчит, зато ходит так, что половицы прогибаются под его ногами, и их стон отдается в моей голове физической болью. Тетя Шура, наоборот, ходит бесшумно, почти не касаясь ногами пола, но говорит таким громким шепотом, что меня почти сносит звуковой волной. За те три года, что я живу в их доме, я совсем отвык от постоянного присутствия людей. Иногда мне кажется, что и сам я почти перестал быть человеком. Меня не пугаются лесные коты: приходят во двор и, глядя мне в глаза, ссут на гараж. Может быть, думают, что я тоже лесной кот, которому надо показать ареал обитания? Мол, парень, живешь в доме – живи, а на двор и на гаражные ворота не зарься, это наше. Однажды, когда их собралось во дворе штук пятнадцать, я вышел и демонстративно поссал на гараж. У котов сделались такие каменные лица, будто они все палата лордов, а я, официант, присел к ним за стол и отхлебнул из чьей-то чашки. Честное слово: такой неловкости я не испытывал с тех пор, как лежал в больнице и сестра-практикантка ставила мне катетер, стараясь не смотреть на то, что у нее в руках, и поэтому смотрела мне в лицо.
– Шура, – говорит дядя Слава, – я не хочу об этом говорить.
А придется.
– Мам, почему мы раньше сюда никогда не приезжали? – Елена крутится на кухне, уверенная, что помогает матери готовить ужин, – здесь так здорово! И у бабушки с дедушкой своя комната есть, и у меня, и у Михасика, а дома мы все друг у друга на головах. Давай совсем сюда переедем? Не только пока ремонт, а вообще. Давай?
– Подай, пожалуйста, лавровый лист. Он вон там, в литровой банке, за сахаром.
– Мам?
О боже. У них, оказывается, ремонт. Значит, я был прав: только тетя Шура более-менее понимает, из-за чего они здесь. И то я не уверен.
– Саша, – говорит тетя Шура, когда дочь вышла из кухни, – ты очень мало ешь и совсем перестал ухаживать за своим местом, а кто это будет делать?
…Все перепутала. Я должен ухаживать за их домом, и я это делаю очень хорошо. При чем тут мое место? Я уж и найти его не смогу, наверное. Да и зачем.
– Теть Шур, – говорю, – кто еще думает, что у вас в квартире ремонт?
Молчит. Ясно: так думают все, кроме нее. Она им не сказала.
Это значит, что ей одной придется ухаживать за местами всех членов семьи. В самом начале важно, чтобы все было в порядке, это потом можно забить. Конечно, я ей стану помогать в меру сил, в одиночку ей тяжело будет. Хотел спросить ее о настоящей причине приезда, но передумал. Решил: и так узнаю.
На ужин тетя Шура приготовила сладкие рисовые котлеты, а на гарнир к ним – гречневую кашу. На обед был борщ с малиновым вареньем и взбитыми сливками, на завтрак – яичница, приправленная какао-порошком. Я знаю, что чуть погодя все войдет в свою колею, примет более-менее нормальную форму, но пока вот так. Еще бы я это ел, ага. Дернулся было приготовить на всех что-нибудь приемлемое, но подумал, что нет смысла: я просто не знаю, что для них приемлемо, а что нет. Пусть уж шоколадная яичница, так безопаснее.
Ужинали на веранде. После ужина (Саша, съешь хотя бы котлетку) пришел еж и нагадил синим. Посмотрев на дерьмо, бабушка засмеялась и сказала: «Мать моя, ну наконец-то я увидела, как ежики срут», дедушка сделал ехидное лицо и ответил ей: «Поздравляю», Михась хмыкнул и уткнулся в планшет, остальные не отреагировали никак. Я подумал, что бабушка ближе всех, и угадал – через неделю ей предложили путевку в хороший санаторий, но она сказала, что без дедушки ей санаторий на черта не сдался, дедушка сперва заупрямился, но вынужден был согласиться, так как расставаться с бабушкой ему не хотелось.
И они уехали вместе.
Как это происходило, я пропустил: отвлекся на ежа, который снова нагадил синим; я наклонился, собрал ежовое дерьмо пальцем и, повинуясь мимолетному хулиганскому импульсу, намазал на стене знак бесконечности. Получилось красиво и загадочно, а на следующий день я увидел рядом с моим синим знаком бесконечности еще один синий знак бесконечности: его прямо на моих глазах рисовал дядя Слава, так же как и я, окуная палец в ежовое говно.
После отъезда бабушки и дедушки в доме сделалось посвободнее. Уже можно было без труда найти комнату, где никого нет, но я все равно не мог остаться в одиночестве надолго, потому что за мной, как привязанный, ходил печальный и злой Михась, которого с момента приезда в деревню, с самой первой фотографии ежа, не комментировали и не лайкали в фейсбуке.
– Этого не может быть, – бубнил Михась, – двести семь друзей, и прям чтоб никому ежик не понравился, ага.
Но окончательно он разозлился после того, как разослал друзьям запросы на дополнительную жизнь в какой-то новой игрушке – при мне такой еще не было – и не получил ни одной. «Как это трогательно и символично, – подумал я, – просить игрушечную жизнь в сложившихся обстоятельствах».
Довольной абсолютно всем была только Елена. Мне даже стало казаться, что она знает секрет, но я по собственному опыту знал, что это просто невозможно: слишком мало прошло времени после того, как они приехали. Хотя тете Шуре времени не понадобилось совсем, но она совершенно особенный человек, она все понимала еще тогда, когда до ее приезда сюда оставалось целых три года. И когда к ней приперся я.
– Ах ты ж боже мой, – сказала мне тогда тетя Шура, – тебя же никуда не пустят, где же ты жить будешь?
И велела мне стеречь этот дом – до тех пор, пока что-нибудь не изменится. И оно изменилось: сперва стали приходить лесные коты, потом поселился ежик, которого я кормил улитками. Коты с приездом тети Шуриной семьи приходить перестали, и ежик начал гадить синим, так что изменений случилось уже как минимум два. Даже три: Михась нарисовал синим ежовым говном третий знак бесконечности. И, несмотря на все эти перемены, я не чувствовал, что они как-то касаются моей собственной судьбы.
– Тетя Шура, – я в конце концов улучил момент, когда Михась где-то замешкался, – а как так получилось, что вы здесь все сразу?
Тетя Шура вопросу не удивилась. Или не подала виду.
– …Ты знаешь, Саша, – ответила она, – я этого совершенно не помню. Как отрезало. Понимаешь?
Я сперва промолчал, а потом, конечно, кивнул. Я тоже не помню, почему три года назад выбрал сделать так, как сделал. И тоже – как отрезало.
– Пойдем-ка сходим с тобой, твое место в порядок приведем. Пока Слава спит и дети где-то гуляют.
Я не особо хотел туда идти, но перечить тете Шуре не стал. И мы с ней сходили сначала ко мне – и тетя Шура, пока я стоял как болван, протерла мое имя и повыдергала всю старую траву вокруг, а потом мы пошли к ним, и еще издали увидели Михася и Елену.
– Мам, – крикнул Михась, обернувшийся на наши шаги, – смотри, какая ржака! – и показал пальцем на шесть мест.
Елена ударила брата яблоком по голове.
– Он так радуется, потому что понятно теперь, почему его статусы никто не лайкает, а то он думал уже, что ежик – фигня, – сказала она и откусила от яблока. Оно у нее всегда с собой.
«Конечно, ржака, – подумал я, – еще бы не ржака».
Отваживаться на более глубокую мысль мне было лень.
Потом мы вернулись домой, где дядя Слава пытался приготовить ужин из рыбы, но не понимал, что должно пойти в пищу: куски рыбы слева или кишки и рыбья голова справа.
– …Шур, – сказал он, – что варить: это или это?
– Давай лучше пожарим, – сказала тетя Шура и сгребла обе кучи на сковородку.
От ужина я отказался и, несмотря на раннее еще время, пошел спать – в ту комнату, которая выходит окном на гараж. Эту комнату я люблю больше других: отсюда видно почти весь двор и лесных котов, когда им приходит в голову припереться. Их не было с тех пор, как приехала семья, поэтому я даже обрадовался, когда увидел полосатый хвост, мелькнувший и скрывшийся за углом гаража. Это был хороший знак. Я лег и действительно уснул, а когда проснулся утром, то в доме уже никого не было. Я это почувствовал; можно было не проверять. Я вылез во двор через окно, обогнул дом и вошел на веранду, весь пол которой был обгажен синим. Еж как ни в чем не бывало хрустел в углу веранды яблоком.
Я обмакнул палец в ближайшее дерьмо и нарисовал на стене знак бесконечности. Работы предстояло много.
Петренковский дом – крайний, наполовину вдавленный в лес. Он стоит к Косому переулку передом, а к лесу всем остальным периметром. Дом выглядит не страшно, даже приветливо. Наверное, потому, что Петренки никогда в нем не жили постоянно, а лишь использовали в качестве дачи, да и то последние годы не появлялись. Соседи говорят, что вся их семья, включая бабушку, дедушку и двоих детей-подростков, вышла на арендованном катере на морскую прогулку в честь дня рождения дочери – и пропала без вести, хотя их искали даже с привлечением вертолетов. Через две недели был найден спасательный круг, но этого было слишком мало, чтобы официально считать семью погибшей: ждали, пока пройдет пять лет, и они прошли, но уже, конечно, ничего не изменилось – и дом как стоял, так и стоит, и стекла в нем целые, и труба на месте, и крепкие на вид стены – снизу доверху в синих кляксах – не покосились и не растрескались. Как будто заговоренный стоит дом, ничто его не берет.
И никто в него не суется, хотя участок огорожен легкомысленным штакетником.
Сквозь штакетник видно все, что происходит во дворе. А во дворе у Петренок происходят сорняки, ржавые качели, беседка с сорванной давним тайфуном крышей и гараж с заржавленными воротами. Когда едешь мимо на велосипеде, то в нос ударяет запах кошачьей мочи – лесные коты считают петренковскую собственность своей. У них тут что-то вроде гайд-парка: обычно страшные территориалы, лесные коты собираются во дворе заброшенного дома в стаи, густо метят гараж и долго толкуют о чем-то заунывными, толстыми голосами.
Лора Белоиван
Кто покормит сову
– Смерть, – кивает Ася, – почти не отличается от жизни, только силы больше, а потребностей меньше.
Ася знает, о чем говорит: у нее у самой два мертвеца в работниках. Муж и жена. Нестарые еще, раннего пенсионного возраста. Зульфия и Самат. Мы не спрашивали, где она их подобрала, но знаем, что они у Аси уже три года, живут в маленьком домике в саду, Ася его сама построила и сама в нем обитала, пока настоящие строители большой дом строили. Сейчас Ася в большом доме живет, а мертвецы в маленьком. Все там есть, в том домике: вода, туалет. Две комнатки, кухня отдельно. Сперва была одна комната, но Самат перегородку поставил, им с Зульфией так удобнее показалось. Зульфия у Аси по хозяйству, а Самат все снаружи: сад на нем, мелкий ремонт какой-нибудь, стрижка газона. Или снег, если зима. Ася зимой уезжает обычно, и мертвецы приглядывают за домом и собаками. Собак у Аси шестеро, и столько же котов. Сперва все они относились к Зульфие и Самату настороженно, а потом привыкли. Наши мертвецы живут не в таких роскошных условиях: дом у нас один-единственный, и для Энди с Сережей мы купили 20-футовый контейнер.
Энди и Сережа – голубая семья, разбившаяся в предновогодний гололед на аэропортовской трассе. Парни сидели на обочине такие растерянные – невозможно было не остановиться. Мы и остановились; первым в машину сел более решительный Энди, потом Сережа, но мы еще минут десять никуда не ехали – ждали, пока закончится агония у их пекинеса, всю машину выстудили, пока он к ним на заднее сиденье запрыгнул. Сережа тогда сказал:
– Ну все, можно ехать.
И взял собаку на колени.
Мы поехали, а по дороге договорились, что жить они останутся у нас, но не с нами, а как-нибудь отдельно, потому что так всем будет лучше. И тогда Энди сказал: «Может быть, контейнер купить?» И мы купили контейнер прямо в тот же день, просто позвонили по объявлению, и нам его привезли на большом грузовике с краном, и выгрузили за забор. Контейнер нам достался очень дешево: на терминале была рождественская распродажа, плюс частично можно было расплатиться накопленными бонусами с кредитки. Потом началась череда этих дурацких праздничных дней, когда везде все закрыто, и первое время мертвецы спали прямо на матрасе, брошенном на стальной пол. Но не унывали. Потом, после праздников, мы докупили им в контейнер все необходимое: пенополистерол для утепления, сайдинг для красоты, окна для света, дверь, чтоб входить и выходить. Отдали свою икеевскую кровать, кое-какую посуду, постельное белье. И старое кресло для пекинеса.
Унывать Энди с Сережей начали ближе к весне, и не унывать даже, а как-то меланхолично истончаться: иногда казалось даже, что через них видно, но наваждение быстро проходило, хотя и оставляло после себя неприятный тревожный осадок. Никто из нас не помнит, кому первому пришло в голову спросить их, что с ними не так; но факт, что вопрос был задан и проблема в конце концов решилась. Оказалось, что у Энди, Сережи и их пекинеса начал подходить к концу ресурс, но ни они сами, ни тем более мы понятия не имели, чем обычно поддерживают жизнь в мертвецах. И тогда Энди сказал:
– Надо у кого-то спросить.
– Надо спросить, – повторил Сережа, – в том доме под зеленой крышей, на углу, там надо спросить. А то спать все время хочется.
В доме на углу, под зеленой крышей, жила Ася.
– У Аси спросить, – удивились мы, – откуда ей это известно?!
– Так она же двух мертвецов содержит, – ответил Энди, – судя по всему, довольно давно.
Мы чуть в обморок тогда не упали, честное слово. Два мертвеца у Аси? Зульфия, которую мы то и дело подвозим до дома? Самат, с которым обмениваемся саженцами и цветочными луковицами?
– …Хорошо выглядят, да, – не без сарказма сказал Сережа, – как живые. Сходите, а?
Мы, конечно, решились не сразу, хотя понятно было, что идти придется. Но в голове не укладывалось, каким образом начать разговор с дальней соседкой, с которой до этого лишь здоровались, но никогда не имели бесед длиннее вежливых small-talks? «Ася, простите, чем вы кормите своих мертвецов?»
– Ася, – сказали мы, – тут такое дело.
Пока мы рассказывали про аварию на аэропортовской трассе, не сразу умершего пекинеса и наших сонных геев, Ася нас не перебивала, но каждую секунду нам казалось, что она вот-вот встанет и крикнет в окно что-нибудь вроде «Самат, выпусти собак из вольеров, срочно». Но ничего подобного не произошло.
– Кровь из пальца, – сказала Ася.
– Что? – не поняли мы.
– Кровь из пальца, – повторила Ася и показала нам забинтованный указательный палец, – раз в неделю достаточно. И обязательно чтоб работа у них была.
– И у пекинеса? – по-дурацки уточнили мы.
– Нет, – сказала Ася, – пекинес за их счет.
Возвращались домой мы молча, совершенно не понимая, как будем сообщать Энди и Сереже про кровь и работу. Но получилось все легко и просто. Они нас с нетерпением ждали.
– …Ну, что? – спросил Энди.
– Сказала? – спросил Сережа. У него на руках спал полупрозрачный пекинес.
– Да, – ответили мы, – на вас, говорят, пахать надо.
И дальше рассказали им про палец и бросили жребий на зубочистках, кому из нас первому добывать из себя кровь. Кстати, ее потребовалось совсем немного, но пальцы у нас болели долго; в общем-то они и не заживали, их все время приходилось бинтовать: только перестанут ныть, как снова пора прокалывать.
Несмотря ни на что, вопрос с вынужденным донорством решился гораздо проще, чем со вторым обязательным пунктом безбедного существования Сережи и Энди. Ни тот, ни другой ничего не имели против работы, но при этом совершенно не могли предложить нам никаких услуг, в которых бы мы по-настоящему нуждались. А услуги понарошку свели бы на нет всю пользу, приносимую кровью.
Пришлось опять идти к Асе.
Калитку нам открыл Самат.
– Здравствуйте, Самат, – сказали мы, – Ася дома?
– Улетела вчера, – ответил мертвец, – в Лондон. Но скоро будет, через где-то неделю. А вам поди спросить срочно, чем Энди с Сережей занять?
– Откуда вы знаете?
– Опытный… человек все знает, – Самат явно хотел сказать слово «мертвец», но в последний момент предпочел другой термин.
– Да, – сказали мы, – они у нас уже вон сколько, а толку ни им, ни нам.
– Это плохо, – согласился Самат, – ну заходите давайте, а то вон дождь или что там такое с неба неприятное.
На улице и вправду начинало моросить. Самат провел нас мимо собачьих вольеров в маленький домик в глубине сада. Дверь открыла Зульфия. Она улыбалась, но смотрела на нас слегка настороженно.
– Гости у нас, – сказал ей Самат, – по делу.
– Я тому удивляюсь, – сказала Зульфия, – что мальчики к нам сами не пришли. Стесняются, что ли?
– Нас вот попросили, – сказали мы.
– Ну мы видим, да, – сказал Самат.
Мы зашли в дом, и Зульфия закрыла за нами дверь.
– Чай? Сок? У нас, правда, такой сок, вам может не понравиться, – сказала Зульфия, – свекольный.
– Если с яблоком, то ничего, – сказал Самат.
– Будете свекольный сок? – спросила нас Зульфия, проигнорировав реплику мужа, – полезная вещь. На вкус привыкнуть надо, конечно, но полезная.
– Землей пахнет, – сказал Самат, – с яблоком когда, то лучше.
– Спасибо, – отказались мы от сока, – чаю тоже не нужно, мы ж ненадолго.
– Ладно, – легко согласилась Зульфия, – спрашивайте.
– Парням работа нужна, – сказали мы, – а ничего в голову не приходит. Помогите придумать, пожалуйста.
– С молодыми всегда так, – кивнул Самат, – умрут, а сами ничего толком не умеют.
– Да, – вздохнула Зульфия, – и образование, наверное, высшее.
– Высшее, – подтвердили мы.
– Трудно, – опять вздохнула Зульфия, – когда высшее, то почти всегда никакой мелкой моторики.
– А обязательно, да? – спросили мы.
– В первую очередь, – подтвердил Самат, – можно кровь не пить, свекольный сок пить без яблока, а без мелкой моторики все, элим кетты.
– Это что же нам придумать? – растерялись мы.
– Спицы, шерсть, пусть вяжут чего-нибудь, – сказала Зульфия, – пусть приходят, научу.
– А Ася сказала, чтоб такая работа, которая нам нужна, – усомнились мы.
– Вам нужна, – уверенно сказала она, – очень вам нужна эта работа. Вы же уедете.
– Куда мы уедем, у нас сову кормить некому, – сказали мы.